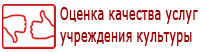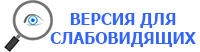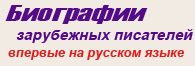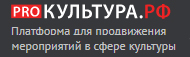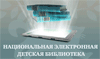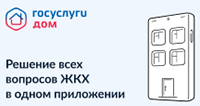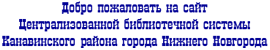
Г.М. Пальгуева. …И русских не слышно слез…
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен, гласит древняя китайская мудрость. Однако перемены случаются с завидным постоянством. И люди в них живут. Выживают. Или не выживают. Если выживают, пытаются рассказать об этом другим. Чтобы предостеречь. Научить выжить. Или сокрушенно повторить в который раз: не дай вам Бог жить в эпоху перемен.
Интересно, как я, пережившая эпоху «перестройки», перехода от социализма к капитализму и до сих пор продолжающуюся череду всяческих реформ, могла бы рассказать об этом? Что я вижу «изнутри», что происходит вокруг меня, что я обсуждаю с теми, кто рядом, о чем размышляю по этому поводу?
«Лицом к лицу – лица не увидать». Трудно жить «внутри» перемен и одновременно анализировать их внешнее течение. И вдруг… встречается интересный собеседник, переживший нечто подобное. Как же не броситься обсуждать, сравнивать, пытаться осознать свое место в событиях?
Таким собеседником для меня неожиданно стала Нина Федорова и ее роман «Дети» Глобальные перемены России 1917 года, застали Антонину Федоровну Подгоринову, будущую писательницу Нину Федорову в Манчжурии. Она преподавала русский язык в русском городе Китая, столице Китайско-Восточной железной дороги – Харбине.
Казалось бы, свинцовые тучи, грозовые раскаты революции и гражданской войны прошли где-то там, стороной. Но сколько же перемен они принесли на маленький клочок российской земли, затерянной на сопках Манчжурии! Нина Федорова все видела своими глазами. Ее глазами увидела те давние времена и я, читая роман «Дети».
Собственно, детей: младенцев, подростков – в романе не так уж и много, и не они являются главными героями. Я долго не могла понять, почему роман называется «Дети», пока не дочитала вот до этой фразы. «Мы счастливы иметь еще одно доказательство, что жива Россия, хотя и за границей, что, несмотря на нашу трагическую судьбу изгнанников, лучшие из наших детей поддерживают наше былое величие…» «Дети» Нины Федоровой – это дети России, разнесенные ветрами перемен по всему свету, занесенные в один из уголков Китая, влекомые теми же ветрами все дальше и дальше от родины. Правда, по мере прочтения становится все же очевидным внимание к проблемам детства в разных странах, разных социальных и политических условиях. Порою у автора получается обобщенный портрет ребенка, существующего в несвойственной детству среде.
Но начинается роман именно с вопроса о детях. «Сколько у вас детей? – Шестеро. – Шестеро? - Плодовитость низших организмов!» Дальнейшая сцена вызывает в памяти «английскость» Диккенса и Шарлотты Бронте: чопорные равнодушные дамы одаривают сироток, безмерно их при этом презирая и оскорбляя. Нашлись у сирот и заступники. Эта завязка сразу дает понять: речь не о счастливых детях. «Но должна же быть какая-то логика у жизни, какая-то справедливость», – восклицает главная героиня романа Лида, талантливая молодая певица.
В начале погружения в роман жизнь, отраженная в нем, представляется неким хаосом, броуновским движением молекул, самых разных по размеру, цвету, значимости, активности. Тяньцзинь и Харбин – это более пятидесяти национальностей, множество профессий, конфессий, политических партий, колониальных промышленных концессий. Это – постоянное созидание и распад, распад и созидание. Только что обустроились на новом месте, только что робко помечтали о счастье, вдруг – удар: оккупация японцев, наводнение, политические сшибки, и все приходит в негодность, и снова необходимость – жить или выживать.
Но чем дальше, тем больше нащупываешь точек опоры, сохраняющих равновесие, придающих определенную логику происходящему в романе. Прорисовывается Образ, сродни балету Андрея Петрова «Сотворение мира». Тут и какофония скрежещущих звуков бедности и беды, горя и плача, ненависти и агрессии, и полет мятущейся души над пустыней, и возникающие вдруг ангельские голоса любви и понимания, прощения и … счастья. «Каждую капельку счастья… не пропустить бы… Была та капелька счастья, а потом и живешь ее тенью, ее образом, потом лишь памятью об этой тени, потом лишь тенью этой памяти…Как долго может длиться одна капелька счастья.»
Из тьмы и мрака трепетно проявляется огонек семейной свечи. «И свет рассеял тьму, и тьма не объяла его» (Евангелие от Иоанна). Семей в романе несколько. Самая для меня симпатичная – Платовы. Те самые, где шесть человек детей. Было семь. Лизочку не сумели спасти – умерла в китайской бесплатной больнице. «Глядя на них, трудно было поверить, что они из одной семьи – так различны были они по виду, характерам и манерам…. Но была все же в них общая черта, соединяющая их духовно, явная в одних и скрытая в других, – сила жизни». Я бы еще добавила – воля к жизни. Ах, как вкусно Нина Федорова описывает их самовар и чаепитие вокруг него, их бедняцкий, но такой разнообразный стараниями мамы «суп трататуй – не разговаривай, а жуй», их ритуал «встречаем папу с работы»! И еще одна особенность была у Платовых: они умели создавать иллюзии и верить в них, и улетать на их крыльях в будущее. Иллюзии – это плохо?
Ну, вот вам еще одна семья – супруги Питчер. Богаты. Абсолютно физически здоровы. Бездетны. Занудливо «правильны». Они похожи на двух снулых рыбин, поскольку у них все есть и они не имеют НИКАКИХ желаний. «Жизнь их текла спокойно и ровно, без событий. Это была научно-гигиеническая жизнь. Не счастье, не погоня за ним – комфорт был идеалом супругов Питчер… Природная скупость человеческих чувств, принявшая чудовищную форму», и… никаких тебе иллюзий… привела к тому, что они стали семьей живых мертвецов. Более всего они наполнены брезгливым чувством нелюбви к человечеству в целом и каждому человеку вокруг себя в отдельности. Но иллюзии и у них иногда появлялись. «Разлюбив человека, я потерялся во Вселенной» эти слова Бальмонта на какой-то миг показались миссис Питчер спасительным якорем, но … оказались не более чем иллюзией, ведущей … куда? Писательнице (она ведь всего лишь женщина), видимо, стало страшно назвать точный адрес, и вопрос остался открытым.
Роман густонаселен. Он и не мог быть иным, принимая во внимание предмет пристального внимания автора. Если бы мне вдруг захотелось стать литературоведом, я бы назвала творение Нины Федоровой романом-исследованием.
Мне даже видится такой большой муравейник, возле которого с лупой в руках расположилась автор романа. Она наблюдает беспокойное течение жизни в муравейнике: работа, заботы, проблемы, политические движения, визиты, сплетни, благотворительность, нищета и богатство, рождение и смерть. Это – исследование «извне». Это картина, которую могут видеть все в газетах, разговорах, приказах администрации, на базарах, на улице. Время от времени лупа подносится поближе и показывает нам типы, типажи, характеры, личности. Это – взгляд «изнутри»
Некоторые образы героев собирательны. Они описываются через внешние приметы и поступки. Таковы русские мальчишки в Шанхае, такова мисс Грауз – вечная «благотворительница», таковы мистер Райнд и мисс Кларк – олицетворение американской бесцеремонности и прагматичности. «Там, где Лида сказала бы судьба, предчувствие, неизвестность, случайность, мисс Кларк говорила – телефон, пароход, телеграф».
Большую симпатию вызывают персонажи, которых Нина Федорова рисует с близкого расстояния. Это не типажи, это – личности.
Главная героиня – Лида, молодая девушка. Ей «все чаще и чаще приходят в голову разные мысли, новые мысли о жизни, о смерти, о красоте, о любви… они как-то открываются по-новому… новыми сторонами старого. Они вдруг открываются в ней самой – и это так сильно, так удивительно, это так потрясает». По словам автора «защищена она невидимой рукой от порока, зло не найдет к ней пути». Ее представления о жизни в какой-то мере можно назвать «книжными» Не случайно именно ей доверила писательница озвучивать в собственных раздумьях и разговорах с другими литературные направления и пристрастия того времени и той среды обитания.
Мать игуменья, настоятельница местного монастыря. Ее считают пророчицей. Не все ее пророчества вызывают понимание у других монахинь. Странно им слышать такие слова о послушнице, уличенной во лжи: «Да что нам суетиться, наказывать! Придет час суда, Господь разберет всех, да и простит всех и за все, нашего совета не спросит» Игуменья – мудрый человек. Ее вера в Бога не схоластична, она – живая, она в заботе о человеке. За коммунистку Дашу, врага Христова, она как за любого верующего молится, потому что «она наша дочь, она наша, русская… А смерть ей дана Богом прекрасная «за други своя».
Товарищ Даша. «Дитя без семьи, усыновленное народом и сиротствующее в его густой массе». За свои 19 лет сиротской жизни мало хорошего видела, а потому все ее помыслы связаны со светлым коммунистическим будущем. По извечному свойству молодости ее помыслы монолитны и бескомпромиссны. Ей, с ее юношеским максимализмом, не приходит в голову усомниться в правильности с радостью усвоенных постулатов: «мы отбрасываем все, что не отвечает нашим идеям и нашему социальному заказу».
Невольно приходит мысль о том, что несгибаемый дуб может рухнуть гораздо быстрее, чем гибкая ива. Автор не осуждает товарища Дашу, он глубоко сожалеет о том, что ее мировоззрение было сформировано раз и навсегда, что мир для нее делится всего на две части: обиженные и обижающие. Скорее – восхищается своей героиней, которая «с радостью и верой пошла по избранной дороге», несмотря на прячущуюся в глубине души тоску бездомного ребенка о семье, о доме… Но, увы, личное счастье не вписывается в картину борьбы за счастье всего человечества.
Мне пришла в голову мысль, что Нина Федорова поступила со своей героиней милосердно, не дав ей «дожить» до вполне вероятно ожидавших ее сталинских репрессий. Со своей несгибаемой верой товарищ Даша, скорее всего, повторила бы «крутой маршрут» Евгении Гинзбург и не отступилась бы от своих убеждений.. Но Боже, цена будущих страданий была бы значительно выше, и, наверное, менее… почетной, что ли, ее харбинской смерти «за други своя».
Если рассматривать произведение Нины Федоровой как роман-исследование, следует обратить внимание на многозначность его слоев, пластов, аспектов.
Форма произведения такова, что здесь отсутствует иерархия героев, зримое деление на главных и второстепенных, положительных и отрицательных. Они не задаются, казалось бы, неизбежным и закономерным вопросом «вы за красных аль за белых»? Вопрос этот существует, но решается он не в прямых дискуссиях и столкновениях.
«Под ударами судьбы обитатели города так глубоко ушли в свои личные и ближайшие совершенно неотложные проблемы, что идеологическая и героическая сторона войны для них просто не существовала».
Тем не менее, автор ежесекундно и ежечасно ставит своих героев в ситуации выбора. Чаще всего это ситуации. требующие толерантности, которая в романе звучит как терпимость, вера в Бога, тревога за судьбы русской эмиграции. Это – проявление японского шовинизма. Вот как звучат несколько рассуждений на эти темы. «Терпимость – да. Это значит не надо ссориться, не надо обижать, но это не значит менять свою религию на другую». А вот образчик бытового шовинизма: «В других странах, вне Японии, люди знают об электричестве?»
Накануне второй мировой войны все-таки трудно остаться совсем в стороне от политики. И автор не остается. Другое дело, что рассуждения о политике и мировых проблемах мне лично показались несколько наивными. Возможно, сказалось то, что главным несчастьем русских в Харбине было их запутанное политическое положение.
Гораздо вернее обозначены психологические, нравственные, общечеловеческие аспекты: прагматизм англичан и американцев и созерцательность русских, изворотливая велеречивость китайцев и высокомерная скрытность японцев.
Выразительными получились психологические парадоксы: благополучные люди верили в ад для грешников, а очень много страдавшие прощали всем и отвергали его. Если все виновны, не единственный ли выход: простить?
Наверняка не все читатели согласятся с моими доводами относительно романа-исследования. В таком случае у меня возникает предложение рассмотреть роман как галерею художника импрессиониста.
Фабула романа – ожидание писем от любимого – размыта впечатлениями от познания окружающего мира, мимолетных встреч, знакомств, случайной вовлеченности в политические, религиозные, житейские события. Своеобразными «мазками» автора-импрессиониста можно назвать разбросанные по тексту упоминания и размышления о литературе, о музыке, об искусстве в целом.
Музыкальные и литературные ассоциации служат средствами художественной выразительности, создающей «полотно» романа. Некоторые ассоциации поражают своей неожиданностью: «каждый имел свой специальный инструмент, который уже веками выражал его профессию: у сапожника был маленький гонг, паяльщик верещал как кузнечик, особыми металлическими щипчиками, у иных была трещотка, деревянная погремушка, натянутая струна…строго соблюдалась традиция тона и звука».
Полифоничность романа Нины Федоровой располагает к диалогу. В чем-то она дополняет мои размышления, в чем-то ее рассуждения вызывают недоумение и несогласие или повод к новым размышлениям.
«Мы русские – не очень-то хороший народ, не из лучших. И у нас люди ссорятся, часто ищут оскорбить и унизить другого человека, но лишь за то, в чем он сам виноват, что сам сделал, а не за то, в чем он обижен судьбою, что от него не зависит. Русские не будут издеваться над человеком, родившимся слепым, горбатым, незаконнорожденным!»
Это о русских восьмидесятилетней давности? Это обо всех? Или только о тех осколках русской интеллигенции, нашедшей приют на чужбине и потому осознающей все лучшее национальное в себе и стремящейся сохранить это лучшее? Свойственно ли это нам, современным русским, прошедшим горнило эпохи перемен, перестроек, духовных диверсий?
Совершенно неожиданно для себя я нашла в романе нечто, что импонирует моему библиотекарскому сердцу. Прямого отношения к профессии это не имеет, но, оказывается, литературно-музыкальные композиции проводились и восемьдесят лет назад. А «процесс перехода идеи из области одного искусства в другое» хоть сейчас можно использовать в методических рекомендациях.
Действие романа заканчивается в 1939 году, накануне второй мировой войны. Манчжурия в это время занята японцами, «русские эмигранты – в который раз! – были обречены на гибель, … им запретили все свободные профессии и не разрешили открывать собственных предприятий …» Уже тогда Харбин потерял большую часть своего русского населения: кто-то умирал, кто-то продлевал свой скитальческий путь, уезжал дальше в Америку, Австралию, Европу.
Герои романа всеми силами стремятся создать из хаоса собственный мир: «мы узнаем друг друга», мы сохраним свои семьи, мы создадим новые, мы найдем свое счастье…
В августе 1945 года после разгрома японцев в Манчжурию вошли советские войска. Русское население эшелонами стали вывозить в Россию. Харбин перестал существовать как русский культурный центр в Китае (*). Остались могилы…, которые некому навестить, и некому поплакать над ними, и некому услышать эти слезы.
Нина Федорова не проследила судьбы своих героев до этого времени. Трудно представить, что с ними стало… Это наша история, это русские судьбы, это русские души.
Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли –
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.
Алексей Ачаир, русский харбинец.
*По сведениям Википедии к середине 1960-х годов практически всё русское население оставило Харбин.
Г.М. Пальгуева, сентябрь 2011 г.
Федорова Н. Дети / Н. Федорова // Роман-газета.- 2006.- № 3.- 63 с. Продолжение. Роман-газета.- 2006.- № 20.- С. 2-64