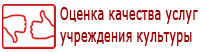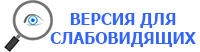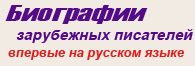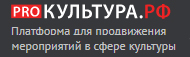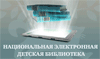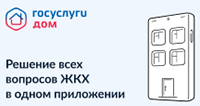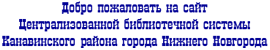
Изгнание из рая
 Он приехал в столицу из Сибири – молодой, талантливый, жадный до жизни художник Дмитрий Морозов. Он, нищий самоучка, стремится к роскошной жизни, мечтает о богатстве и славе. Встреча на Старом Арбате с таинственной красавицей, рыжеволосой бестией с дьявольским огнем в зеленых глазах круто меняет его жизнь.
Он приехал в столицу из Сибири – молодой, талантливый, жадный до жизни художник Дмитрий Морозов. Он, нищий самоучка, стремится к роскошной жизни, мечтает о богатстве и славе. Встреча на Старом Арбате с таинственной красавицей, рыжеволосой бестией с дьявольским огнем в зеленых глазах круто меняет его жизнь.
Кто эта женщина? Дмитрий не знает. Но теперь она все время будет стоять за его плечом и дирижировать его поступками.
Митя становится на путь соблазна. Деньги текут к нему рекой. Все наслаждения мира падают к ногам вчерашнего неудачника. Но цена этому – череда обманутых, ограбленных, уничтоженных людей. Дьявол хитер, и за свои услуги он берет непомерно большую плату. Здесь, в романе Крюковой, впервые дьявол – женщина. У нее тысячи лживых имен. Но Митя не может разгадать, понять, кто она.
Основная идея романа – показать бессмертный психологический треугольник: человек – Бог – дьявол, накладывающийся на события, типажи и ситуации современного мира.
Роман "Изгнание из рая" – лонг-лист премии "Национальный бестселлер" (2003).
Елена БЛАГОВА
Изгнание из рая
роман
Моему мужу, художнику Владимиру Фуфачеву – отныне и навсегда
“Горе вам, богатые! Ибо вы уже получили свое утешение”.
Евангелие от Луки, 6, стих 25.
Огни вспыхивали в черно-синем мраке вечера – рекламы, фонари, тревожащие, мелькающие мимо машинные фары. Он шел по старому Арбату, высокий, длинный, худой, как жердь, чуть переваливаясь с боку на бок. Он устал. Он сильно устал. А у него опять ничего не купили. Проклятье. Он зажимал под мышкой стопу маленьких холстиков, еще мокрых, непросохших. Кому нужна его великая живопись? Да никому. И даже Господу Богу, наверно, не нужна.
Он шел мимо Центра грузинской культуры, мимо бронзовых Пушкина и Натали, взявшихся за руки, как дети, мимо галереи “Арбат, 34”, где у него не взяли на вернисаж ни одной работы, послали его куда подальше, недоучку, дилетанта, мимо ювелирной лавки, где продавались только дорогостоящие кольца, броши и ожерелья – наверно, для господ и дам с Марса и Венеры, уж больно неземными были цифры цен с количеством нулей, неподвластных счету, – мимо театра имени Вахтангова, где он ни разу не был ни на каком спектакле, это все, спектакли, концерты, вернисажи, было only for white, – а там, впереди, в двух шагах, тепло мерцало заманчиво-уютное кафе, где он иногда, очень редко, обедал, если ему везло и он продавал на Арбате картинку, – но сегодня ему не повезло, и он готов был тихо подвывать от тоски.
Куда удрать от тоски? Ну да, к Иезавели. Он к ней и пойдет.
Он время от времени спал с девушкой по прозвищу Иезавель, а как ее звали по-настоящему, не знал никто, и он тоже.
От арбатских огней рябило в глазах, и он зажмурился. Когда он опять открыл глаза и покосился в сторону, он увидел, что рядом с ним шла женщина. Он даже чуть приоткрыл рот от изумленья – женщина, что шла рядом с ним, нога в ногу, такт в такт его шагу, была так дьявольски, невероятно красива, что у него захлестнуло дыханье. Минуту, две они шли молча рядом друг с другом. Он косился на нее восхищенно, стараясь незаметно рассмотреть ее всю. Он тихо и смущенно рассматривал ее всю – с головы до ног – и не мог сдержать восторга. Такую красоту он, художник, видел впервые.
Она шла молча, гордо вскинув рыжекосую голову, тоже исподтишка косясь на него зеленым, как виноградина, глазом. Он видел совсем близко персиковый пушок ее щеки. Густые рыжие, чуть вьющиеся волосы женщины были заплетены в тяжелые косы и заколоты на затылке.
Шел мягкий медленный снег, ветра не было; она была без шапки, без платка, и стоячий воротник короткой норковой шубки слабо защищал от вечернего холода тонкую нежную шею. Он внезапно захотел укутать эту шею в мех и пух, покрыть поцелуями. Она резко остановилась, посмотрела на него. Недоумевая, встал и он, не зная, куда девать холсты, торчащие под мышкой.
– Простите, – хрипло сказал он. – Кто вы?.. Вы идете за мной от театра Вахтангова…
– Это ты идешь за мной, – сказала она низким и обволакивающим голосом, обдавая его зеленым огнем широко расставленных глаз. Ее глаза, большие, изумрудные, светящиеся, как у кошки, словно купались в искристом сладком масле. Опасно было глядеть в них. На незнакомке не было и следа косметики. Ее губы горели природной яркостью. Ее глаза не были подведены. На ее щеках играл натуральный морозный румянец. Такими женщины выходят или из хорошей бани, или поднимаются с ложа любви.
– Как… но я же… – смешался он. – Ну, пусть я, – внезапно согласился. С красавицами всегда соглашаются. – Кто вы?!
Вопрос вырвался из глотки сам собой и был вполне разумен. Сейчас незнакомка станет знакомкой, они познакомятся, разговорятся, поболтают, будут идти дальше по Арбату, а потом и по проспекту – или по бульвару – вместе, непринужденно болтая, и все встанет на свои места. И, может быть… Ничего не может быть. Ты же не можешь пригласить красивую, одетую с иголочки девушку, роскошную московскую даму даже на чашку кофе в уличную кофейню. У тебя нет ни гроша. Ни гроша!
– Я Дьявол, – совершенно спокойно ответила она, стоя прямо и гордо, огненными зелеными глазами глядя на него.
Он мотнул головой. Потом расхохотался. Прижал локтем к себе холсты, чтоб не свалились на мостовую.
– У вас отличное чувство юмора. Я хотел спросить… как вас зовут?.. меня…
– Я знаю, как тебя зовут, – сказала она, и снова его до костей пронизало горячее вибрато ее низкого голоса. – Я и не думаю шутить. Я выбрала на этот раз тебя, мальчик. Почему ты не сводишь с меня глаз?.. Нравлюсь, да?..
Между их лиц медленно падал снег. Она обдавала его жаром опасных глаз, приближая к нему лицо. Он невольно отпрянул.
– Боишься?.. – Ее губы мазнула усмешка. – Правильно, бойся.
Его опять резануло это неведомое “ты”.
– Откуда вы… меня знаете?.. я с вами нигде не встречался… нигде…
– А ты вспомни, мальчик, – певуче протянула она, продела руку ему под руку и уцепила его за локоть, и повела, потянула за собой, и они опять пошли по арбатской скользкой мостовой, нога в ногу, вперед. Огни брызгали им в лица с обеих сторон арбатской реки. – Припомни хорошенько. Дырявая же память твоя. Но сильно не притворяйся. У тебя голова молодая, смышленая, не то что моя, тысячелетняя, может быть, ты и вспомнишь.
Она оборачивала к нему румяное, пышущее здоровьем и красотой молодое лицо; она просто весело смеялась над ним. Смеялась! И он это видел.
По левую руку замаячил ресторан. Он еле слышно вздохнул.
– Да, да, – сказала зеленоглазая дама насмешливо, – у тебя нет денег, и ты не можешь пригласить меня не то что в “Прагу” – в дешевую кофейную забегаловку, не так ли?..
– Вы действительно Дьявол, – с трудом выдавил он, – так, может быть, Дьявол так богат, что он меня самого пригласит?..
– А что, и повадки альфонса в тебе уже имеются, хвалю, я так и думала, – отрезала она, сверкнув глазами. Он увидел, как блеснула в ее мочке изумрудная чечевица. – Так ты не вспомнил, бедняжка?..
Они вышли на Арбатскую площадь, и она держала его под руку. Красная китайская пагода станции “Арбатской”– маленькой просвечивала сквозь снегопад. С ресторанного балкона доносились возгласы и песни – богатый народец гулял, веселился. В подземном переходе пенье ресторанных завсегдатаев слушали угрюмые старухи, держащие на руках котят и щенков на продажу. Троллейбусы шуршали шинами по сырому асфальту. Машины неслись по проспекту как оглашенные.
– Нет, – беспомощно боднул он воздух. Старая кепка, подаренная ему другом-дворником, упала в снег. Рыжекосая красавица нагнулась и подняла ее. Усмешка не сходила с ее яркогубого красного рта. Глаза ее сияли.
– Хочешь, я докажу тебе, что я Дьявол? – спокойно спросила она, держа его кепку в руках. На миг он подумал: она – сумасшедшая. Ее надо на Канатчикову дачу.
– Нет, я не сумасшедшая, – сказала она так же спокойно и радостно, глядя ему в глаза. Нахлобучила кепку ему на затылок. – Видишь, идет машина?.. Вон тот белый “форд”?..
– Вижу, – еще ничего не понимая, кивнул он.
– Смотри, – холодно проронила она, и ее голос из теплого и радостного сделался ледяным, как пронизывающий северный ветер. – Хочешь, я сделаю так, что сейчас он резко свернет влево и врежется в троллейбус?..
– Не надо!.. – запоздало крикнул он. Рыжекосая женщина вскинула голову. Ее зеленые глаза вонзились в юркий белый “фордик”, мчавшийся по автостраде. “Фордик” так резко забрал влево, что прохожие на Новом Арбате ахнули и завизжали, видя, как на полном ходу “форд” врезался в летящий по проспекту троллейбус.
Машины, едущие следом за “фордиком”, не успели затормозить.
Все смешалось в страшную железную кучу – бамперы, карданы, колеса, крики несчастных, отлетевшие двери, визги тормозов, мужицкая крепкая ругань. Вынырнувшие из толпы милиционеры вытаскивали из злополучного искалеченного “фордика” кровавое месиво вместо человеческих тел. Оглушительные гудки разносились по всему Новому Арбату. Люди повысыпали из магазинов, из кафе, из офисов. Пенье на балконе ресторана прекратилось. Фонари бесстрастно освещали человеческую трагедию.
– Смерть – это часть жизни, не правда ли, милый, – фамильярно сказала зеленоглазая красавица, измеряя его горящим взглядом. – Смотри, как они все суетятся. Как мошкара. Как муравьи. И это все тоже жизнь. А для кого-то она уже закончилась. Ты должен хорошо понять это. Ты скоро поймешь это. Лучше всех.
Он, не сводя с нее глаз, глядел на нее. Губы его побелели. Холсты чуть не вывалились у него из-под локтя.
– Как ты… это сделала?.. – Он не заметил, как перешел с ней на “ты”.
Она не ответила. Протянула руку в белой лайковой перчатке. Похлопала его по щеке. Он ощутил кожей небритой щеки холодную гладкость лайки.
– Люди в жизни всегда или преступники, или свидетели, – жестко сказала она, и ее глаза из ярко-зеленых сделались темными, почти черными. – Сейчас ты свидетель. У тебя все еще впереди. Смотри, какой смешной мент!.. у него глаз перевязан, как у пирата… братки подбили, чистая работа…
Он уставился на одноглазого, как Джон Сильвер, с черной повязкой через все лицо, милиционера, спешащего к перевернутой машине; милиционер не успел подойти – машина загорелась, пламя вылетело из разбитых окон, взрыв поглотил стальной остов и сбил с ног, опалил людей, подобравшихся слишком близко. Новые крики сотрясли ночную тьму. Уши просверливали милицейские свистки.
Когда он обернулся, никого не было рядом с ним.
Рыжекосая женщина с кошачьими глазами растаяла в огнеглазой московской тьме, как не бывала.
КРУГ ПЕРВЫЙ. КРАЖА
– Ты мазила и писака.
Иезавель сидела по-восточному, по-буддийски, в позе цветка, недвижимо. Смоляные пряди мертвыми ужами спадали на голые плечи. Яблоки плеч просвечивали сквозь черноту нежно, сладко. Хотелось укусить. Застылое спокойствие Иезавели потрясало. Над пчелиным чудовищным дворцом ужасающего бессмысленным гуденьем города, что звался Москвой, огромного, глупого города, завис яркий от тысяч резких огней вечер, переходящий в ночь.
Эта девушка, Иезавель, – что она делала тут?.. Что делал тут он?.. Она была у себя дома. Она сидела на голом дощатом, сиротском полу в торжественной позе лотоса, занималась своей красивой древней магией, а попутно беседовала с ним. О чем?.. Она его ругала, это так. Он это понимал. Чуял – краем сознанья. Весь он состоял сейчас из дрожи, из легкой восточной дрожи, незримой веревкой привязывающей одно земное тело к другому.
И кто такой он был?.. Он приехал в Москву из далекой Сибири. Он появился на свет в заброшенном в снежных степях южносибирском городишке – зачем родила его мать?.. Затем же, зачем всех людей рожают матери на свет: для страданья и борьбы. Он жил в городишке, ел скудную еду, пил чай и водку, обнимал разных скучных девушек, с ужасом думал: вот для этого я появился в мире?.. Он брал в руки лист бумаги, карандаш, пытался зарисовать мир. Мир не давался ему. Мир ускользал. Будущее ускользало.
Он решил победить мир и будущее. Он решил вырваться из черной ямы, что разевала пасть совсем близко. Он однажды собрал манатки и поехал в Москву – а вагон был плацкартный, голый, пропахший салом и жареными курами, и бедные люди в плацкарте вечерами, пока он ехал из Сибири на Запад, пели протяжные песни и резались в карты; и ему было нечего есть, и он жадно глядел на жующих дорожный кусок людей.
Он приехал в Москву бедный, пустой и веселый. Он не захватил с собой из Сибири даже своих нищих, дрожащих на ветру рисунков. С Ярославского вокзала он побрел неведомо куда. У него не было ни одного друга в Москве. Ни одного приятеля. Он встал около колонны, подпиравшей вход в метро, закурил, и тут к нему подошел раскосый и курчавый парень и внезапно протянул ему пирожок с капустой. Видно, сильно щеки ввалились у него, и прохожий его пожалел. “Ешь!” – жестко сказал парень. Это был дворник Флюр из Столешникова переулка, бывший солдат, татарин и добрый человек. “Тебя как звать?..” – “Митя”. – “Пойдем к нам жить, Митя. Я вижу, ты не москвич. Я тебя устрою в РЭУ без прописки, по блату”.
Он, нищий дворник, житель трущобной коммуналки, хоть и в самом сердце бешеной Москвы, без прописки, без надежды, ни кола, ни двора. Кто он был такой, чтоб оспаривать у неба это жалкое место на земле, рядом с этой красивой женщиной, длинноволосой и раскосой, медленно и холодно ругающей его, сидя, скрючив ноги, на полу?..
Сейчас она помедитирует вдосталь, нахохочется над ним всласть, встанет – как камень выметнут из пращи, – прошлепает на кухню, отрежет ему ломоть ржаного кислого хлеба да и выгонит с Богом. “Иди, иди вон. Иди вон, пес. Не нужен ты мне. Я тантристка. Я царица. А ты дурак, мазила, писака. Ты нищий голодный пес. Ешь и уваливай!” Все всегда жалели его. Кормили его.
– Иезавель, Иезавель. Ну что ты. Ну зачем ты. Ну как ты можешь, – невнятно бормотал он, и ледяным потом покрывалась его узкая, длинная рыбья спина. – Милая Иезавель… ты ко мне несправедлива. Ведь все… – он облизнул пересохшие губы, – все, ты знаешь, происходит внутри меня. Все, что снаружи, детская дурь. Человек не есть то, что он делает, потея, каждый день. Человек не есть его доски, посуды, шкафы, тряпки, дети-плети… холсты… да, и холсты тоже! – крикнул он и задохнулся. – Человек – это то, Иезавель, что внутри! Внутри. – Он перевел дух. Плечи его поднялись углами; из ссутуленной спины дощато выперли лопатки. – Нам не принадлежит ничто, дура. Ничто вокруг нас нам не принадлежит. Ни стены домов, где мы плачем и бьемся… ни вещи, ни книги, ни родители и наследники. Никто и ничто. Нам принадлежит только то, что у нас в голове и в сердце. Слышишь?!
Лук усмешки Иезавели выгнулся, тетива натянулась. Все, что говорит этот бедный мальчик, – не мудрость, нет. Он думает наивно, что он дошел до мудрости. Он-то не знает, что до мудрости дошла она. И то не до Небесной, а лишь до той, что лежит рядом, на грязной земле. На полу. Около ее вывернутых голых пяток.
Она обвела глазами, не поворачивая головы, увешанные дикими яркими картинами стены. Стены скалились картинами, смеялись. Картины вызывали на бой жалкого человечка. Картины, глумясь, кричали беззвучно: “Ну, поди, поди, оставь себя! Ну, если сможешь, не умри! А то, глядишь, весь умрешь! Весь! До капли, до жалкой крохи!”
– Мальчик, – медленно сцеженный голос Иезавели капал с губ, меж сцепленных зубов, – это все ты сам написал?
Будто она не знает, противная баба. Это все ей подарки. Ей. Моими руками. Вот этими пальцами. Когда уставал, кисть брал в зубы. Мне казалось, что я слон, окунаю хобот в краску и веселюсь, бью по холсту бессмысленно и радостно. Я сходил тогда с ума. Я хотел есть. Просто хотел есть. Жрать! И мне надо было продать картину, чтобы купить себе поесть. Но я сходил с ума оттого, что я писал ее. Я готов был целовать влажкую краску, текущую у меня из-под ногтей по холсту. А она: са-ам написал?!.. Кокетка. Палачиха.
– Мальчик, – Иезавель погладила свое голое колено, – иди сюда. Сожги свои краски в печке. У меня хороший камин. Видишь, вот здесь, в стене. Я его сама сделала. Я стену разбила ломом. Там дымоход. Старый. Прежних веков. Огонь вытянет все. Все выйдет наружу дымом. Все! Прах и тлен. – Она усмехнулась, раздвинула ноги; навзничь, разметав спутанные волосы, легла на пол. – Картины тоже можешь сжечь. Они мне не нужны. Ты зря старался, дарил. Думал меня купить. Меня! – Крик сотряс комнату. Иезавель выгнулась, локти вонзились в доски, шея закинулась журавлино в судороге гнева. – Иди ко мне! Боишься! Трус! Сегодня я хочу! Я! А не ты! Ты – никогда! Только я!
Тишина лизнула нежным языком воздух. Стало слышно, как шоркают и хрюкают часы. Большой медный маятник круглой Луной метался в стеклянном ящике – от прилива до отлива.
– …не медли, – услышал он тягучий шепот. – Все может оказаться последним. Воздух накалился. Я чувствую гарь и дым. Лошади. Лошади. Бегут лошади. Иди.
За стенами люди кричали, шептали, били, любили друг друга. Людской муравейник кишел и гудел, шуршала хрупкая бумага лихолетий. Война ли, мир?.. – он видел лишь женщину, вольно раскинувшуюся на ледяном полу. Древняя лягушка, белый женский тритон. Ее он писал. Много раз. И обнаженной. И одетой. И укутанной в шубу. И скрючившей ноги в потуге, будто бы в родах. И с натуры. И по памяти.
Однажды себе руку разрезал, макал туда палец свой и водил кровавым пальцем по холсту, малевал Иезавель своею кровью. Кровь засохла и превратилась из яркого краплака в сумрачную тусклую охру. Так гаснет звезда Чагирь, и медленно замерзают ее планеты.
Он пополз к ней, извиваясь, по полу. Подтягивался на локтях. Горбил спину. Его узкое, длинное тело гудело. Женщина ждала его, смеясь, лежа навзничь на полу. Пока он полз к ней, он зацепился длинными нестриженными волосами за гвоздь, торчащий из доски. Скривил рот от боли. Схватил прядь в кулак, рванул.
Женщина лежала и ждала.
“Сжечь. Сжечь, говоришь, в камине. Да лучше я тебя сожгу. Да лучше я… себя сожгу. Картины. Мои картины. Мои руки! Мои ноги! Меня сожгут и в мои же холсты и завернут. А ты, бурятская пантера…”
Совсем рядом. Вот она. Упасть сверху. Наброситься. Наколоть ее, ледяную форелину, на себя-гарпун. Заполнить ее, пустой кувшин. Смять и сломать ее. Посмела посягнуть на святое. Плюнула в колодец жизни. Ах, зверь!
Он навалился на нее всей тяжестью тела, длинного, как жизнь. Притиснул ее к полу. Подождал, пока она застонет, запросит пощады. Молчанье. Ее молчанье обняло его, закружило. Выступом колена он расчленил на две рвущиеся половины ее горячее естество. Ему показалось – он сунул живот в огонь. Она не смогла защититься.
Она чувствовала себя раковиной-беззубкой, внутри которой растет и тлеет жемчужина. Теплый жемчуг, утлый и розовый, бесполезный, как ветер, как слеза. Под его ладонью оказалось круглое, мягкое – ее грудь. Он сцепил мягкость в пальцах, укусил подковой зубов. Иезавель дрожала. И он дрожал. Он обнимал ее. Его мучила жажда. Его мучил страх. Он боялся своего желанья. Слишком непомерным оно казалось ему.
Нищий малеванец, малярчик, мазилка. Без угла, без роду, без племени. Нет, где-то он все-таки жил. В старом доме напротив, там, где жили дворники; и он, должно быть, дворничал тоже, у него не было другого выхода. Никто никогда не знал, как его зовут. Даже она долго не знала его имени. Он не говорил.
“Иезавель, к тебе опять художник пришел!” – орали ей соседи, когда она, накачанная сладким дешевым вином и бурятскими наркотическими шариками, вызывающими виденья, спала и не слышала звонка, и крик разносился далеко по коридору огромной – пятнадцать квартир – московской коммуналки. Иезавель, к тебе Художник. Художник к тебе, Иезавель. Ну и Художник у тебя, Иезавель! Опять идет. Как муха на мед. Как кот на сметану. Отвадила бы ты его, что ли. Надоел.
И холст несет под мышкой снова. Утомил. Дар, цветастый, черный, серебристый дар. Еще не высохший, пачкает. Разномастный. И что изображено, не понять. Соседки приходят, не остывши от кухонного масла, и гадают, что это, с чем это едят. Водят в воздухе пальцами. Фантазируют.
Нищий, нищий. И звать его Дмитрий. На что краски покупает, неведомо. Видно, кроме нее, у него есть еще любовницы. Богатые. И они его голубят. И он пишет их сладенькие портретики. И тоже дарит. У, отребье. И вдруг сегодня она сама возжелала его. Сила скрутила ее, поборола. Она хотела застонать от счастья, чуя его тяжесть, расплющиваясь под ним, но закусила губу, зубы крепко сомкнула. Счастье нельзя выдавать. Его нельзя выпускать наружу. Оно – сумасшествие. Его должно быть стыдно. От него пытаются вылечить.
Тело здесь горячее, там холодное. Это удивительно. Разной теплоты куски дрожащих тел накладываются друг на друга, наслаиваются. Кладутся лессировки. Плывет и плачет краска. Яркий кармин, веселый краплак, горький перечный сурик, осенняя охра. Они сползают по холсту, высыхают, вспыхивают, взрываются, слезают слоями, как отболевшая, сгоревшая кожа. “Тихо, тихо, не спеши. Никогда не спеши. Не дрожи, ты мне мешаешь”.
Она бы могла пересчитать его ребра. Они жестокие, они гудят. И весь он гудит, как пещера, в которую бросили камень. Так гудит медведь, когда он в берлоге переворачивается с боку на бок. А вокруг зима. Жестокая, гулкая зима, где только снег гудит. Боже, сколько гула в мире. Уши зажать руками. Не слышать. Не видеть. Не чуять ничего. И не говорить. Она что-то шепчет. У нее горячая грудь, твердые соски. Может быть, она медведица. Или пантера. Или лошадь. Кобыла. Она все время бормочет что-то про лошадей. Когда они расстанутся, он нарисует лошадь. Вороную лошадь с белой грудью.
– Иезавель!
– Пусти… пусти.
Это значит: “Сильнее… сильнее”. Еще удар. Еще. Кисть гудит. Холст гудит и прогибается. Летят холодные и горячие краски. Борются, лепят друг друга. На пустынном запястье женщины горит тяжелый медный браслет. Ее рука закинута, и он кусает браслет, хватает зубами. Он умирает. Для художника важна смерть на холсте, во вспышке краски. А живая жизнь слишком груба и серьезна. Каждый раз, умирая, он познает, что такое страсть. И, отскрипев зубами, забывает. Потом – забывает все.
На пустую, мертвую холстину льются, выбухнув из тьмы, водопады красок. Горячая лава. Галактические молоки. Огненная икра. Его бросили в жерло кратера, и он плавится. Он пытается помянуть Бога, но губы не слушаются его. Его больше нет. Есть горячая лава краски. А еще говорят – страсть прекрасна! Она жестока и страшна. Вливали же древним пленным в глотку расплавленный свинец. Иных варили живьем в кипящем масле. Кто выделывал огромные котлы для человечьей гибели?! Ее предки?!
Он крепче притискивает Иезавель к доскам пола. Он – тяжелый слон, белый кит. Он овладел ею. Он царь! Он победил!
Так вот это каково – умереть. Надо просто сцепиться в объятии. Соединиться с женщиной. И ты вкусишь смерть.
А если… умереть?!
Ты же никогда не думал о самоубийстве, Митя. Отчего бы ты убил себя? От ужаса? От нищеты? Тысячи тысяч людей так живут. Кто-то вешается. Кто-то поджигает себя на площадях. А ты не подожжешь себя. Ты слишком хочешь жить. Ты слишком жаден до жизни. И ты вырвешься. Ты еще вырвешься. Ты еще покажешь этому миру – этой Москве – этой раскосой жестокой женщине, к которой ты приклеился, как муха к липучке – где раки зимуют. Ты тонешь, но ты выплывешь. Как угодно. Любым стилем.
Часы на стене медно и страшно пробили московскую полночь. А в Сибири уже утро. Уже светает. Он никогда не вернется в Сибирь.
Это было дно жизни. Дно, оно и есть дно. Что с него возьмешь. Москва раззявилась громадным чаном, в нем плескалось и варилось множество разных несчастных людей. Митя Морозов прибыл в столицу из Забайкалья, из заштатной Слюдянки, где к тридцати годам мужик спивался, а к сорока его уже выносили из дома ногами вперед – или его убивали в подворотне, пришивали, протыкали острым медвежатницким ножом, или у него само по себе останавливалось сердце от тяжкой перекачки по сосудам гиблой водки, поддельной, паленой.
После Слюдянки он пожил немного в Иркутске, ему и там надоело. Он приехал в Москву пытать счастья. Счастье виделось ему по-разному. Часто это была красивая и богатая женщина. Обязательно богатая. Богатство… Не надо думать о куске. Не надо сжимать в карманах тяжелые гири бессильных кулаков при мысли о завтрашнем дне.
Митя немного рисовал; рисовать он начал еще в Сибири, в Москве он продолжил это красивое занятье, с первой дворницкой получки накупил красок, подрамников, холстов и принялся живописать, забавляясь сам и потешая друзей-дворников. “Эх, Митька, – кричали они, просовывая пьяные рожи в дверь его дворницкой утлой каморки, – эх и неплохо ты закручиваешь!.. а мой портретик могешь?!.. а мой?!.. темпераменту, темпераменту-то хоть отбавляй!.. Давай, жми, бей по холсту!.. Может, пробьешь!.. С дыркой быстрей купят!.. Авангард!..”
Он вставал в шесть утра. Когда валил снегопад – и того раньше. Тяжело одевался, пялил рабочую робу, теплые штаны, ватник, теплую шапку-ушанку. Зимы здесь были, по сравненью со злой Сибирью, теплые, но все равно он мерз невыносимо.
Он любил тепло, не любил холод. Он брал под мышку лом, лопату, метлу, выходил на участок, отведенный ему смазливой начальницей РЭУ, скреб, долбил, подметал снег, грязь, сухие листья, куски колотого льда. Снег! Он падал на Москву с небес. Он садился на человечьи меховые шапки и воротники, слетал на брови и ресницы. Люди бежали, веселясь, пересмеиваясь, улыбаясь, вдоль по тротуарам мимо него, спешили на работу, на учебу, на свиданья, они любили снег, ловили его варежками. А для него снег был гибелью, наказаньем.
Иногда он не мог встать поутру. Лежал без движенья, следя на потолке отраженье тускло-желтого фонарного света. В круге света висела старая люстра, пять рожков. Он считал рожки: раз, два, три, четыре, пять. Досчитаю до пяти и встану. Ненавистый снег. Ненавистный участок. Ненавистная работа. Ненавистная Москва.
Счистив весь снеговой ненавистный покров на участке – почти весь Столешников и кусок Петровки – он являлся к смазливой начальнице, сквозь зубы по-солдатски докладывал о том, что все сделано, и поднимался к себе в старый дом на слом, наверх, в коммуналку. Московские дворники, голь и лимита, жили в старых аварийных коммуналках, как муравьи или тараканы, расползаясь по каморкам, влезая в каждую теплую щель.
Друзья подначивали его: ну как, все еще не соблазнил нашу кралю-царицу?.. нашу Королеву Шантеклэра?.. не дрейфь, вперед!.. Она тебе сразу в центре Москвы квартиру отвалит!.. Надо же вам будет где-то встречаться в свободное от работы время с полным кайфом!.. Митя отмалчивался. Он ставил чайник на кухне, дожидался, пока у него из носика повалит белый густой пар, подхватывал чайник за ржавую ручку и заваливался к себе. Только его и видели, и слышали.
Что он делал один, весь целый нищий день?.. Он писал. Не только картины. Когда краски и холсты заканчивались, а денег не было купить, и денег не было не только на холсты – на хлеб, он садился в позу лотоса, скрестив ноги, как любила сидеть его подруга Иезавель из старого дворницкого дома напротив, и писал в толстой тетрадке шариковой ручкой. Зачем он это все делал – рисовал, писал ручкой в тетрадке всякие никому не нужные слова?.. Он не знал. Скорей всего, для того, чтобы занять время. Огромное пустое время, что неслось мимо него, свистело у него в ушах, как свистит ветер.
Так проходил день. Митя писал, спал, проваливался в тяжелую бредовую дрему, просыпался, сосал луковицу, если не было хлеба, и из его рта всегда пахло луком. Лук хоть как-то, странно и горько, утолял голод. Когда на безумную голову Москвы опускался темно-синий плат вечера, расшитого россыпями фонарных и оконных огней, Митя вставал с матраца, лежащего прямо на полу, кряхтя, одевался, брал под мышку два-три уже высохших холстика и шел продавать их на Старый Арбат.
Иной раз у него что-нибудь прикупали. Гордость распирала его. Он, слушая урчанье в животе, под ребрами, немедленно шел в кафе “Прага”, выстаивал мучительную очередь, где стояли, ждали своей очереди такие же люди, богатые и бедные, простые и непростые, чтобы поесть, – втеревшись наконец в зал, плюхался за столик, наборматывал официанту все самое дорогое, что значилось в меню, – и, когда официант, подобострастно сгорбившись, притаскивал на подносе странному нищему, бедно одетому пареньку роскошную изысканную еду, что заказывали только господа с туго набитыми кошельками – шницель по-пельзенски, ветчинный завиток, красную икру, – Митя равнодушно, гордясь собой, выбрасывал ему на поднос весь свой арбатский заработок и съедал все, стоящее на столе, до крохи.
Он ценил крохи. Он ценил хлеб. Он подбирал хлебные крошки со стола, брал их с ладони губами, как лошадь овес. На коммунальной грязной, прокопченной кухне он, криво усмехаясь, маячил над газовой плитой, склонялся над сковородкой, как над иконой. Он знал цену еде, ибо он уже умел умирать с голоду. И это уменье его нисколько не радовало. Он возненавидел голод. Он презирал нищету. Он был нищий человек, и он слишком болезненно переживал это. Он хотел с этим покончить. Он не знал, как.
– Эй, Сонька!.. Слышишь, дура!.. У тебя чайник весь выкипит!..
Сонька вылетала пулей из своей конуры и ковыляла на кухню. У нее не было правой руки. Вместо руки торчал черный протез. Она даже не прикрывала его рукавом. Протез пугал жителей коммуналки. Сонька его не замечала. Она привыкла к нему, как привыкают к ребенку-уроду. Давно не стиранный халат; веселая улыбка, обнажающая десны – зубы повыпали, как от цинги.
– Я не глухая!.. Бегу, выключаю!..
– И что чаевничаешь всю дорогу?.. из клозета не вылезешь ночью!..
– Гости у меня!..
Была суббота, и было нашествие гостей. Если человек беден, это не значит, что он не хочет веселиться. Веселиться в Столешникове хотели все, и стар и млад. Соблазнял, раздражал кондитерский магазин напротив дворницкого дома, где продавались восточные сладости.
В дворницкой коммуналке к чаю подавали жареную картошку, и это считалось величайшим лакомством. А самолучшей развлекательной игрой, созданной как по заказу для гостей и лучшего времяпрепровожденья, среди благородной лимиты считались карты и азартные карточные игры: кинг, девятка, преферанс, покер. Солдатик Флюр объяснял, как играют в кинга. “Не брать девяток!.. Не брать валетов…” Карты летали над грязными, укрытыми газетой столами во всех каморках по обе стороны коридорной реки.
Жизнь текла и таяла неотвратимо. Игра скрашивала нищету и мрак, сгущавшийся к полночи за окнами. В оконные пазы дуло. Поворачивал ветер. Ветер дул на Москву с Севера, из Арктики, выдувал последние остатки тепла и радости. Поговаривали о скачке цен, о страшной инфляции. Метла голода сметала в стране целые земли. Плохой был главный дворник на этом участке планеты. Или – слишком хитрый. Он играл в плохую игру.
Митя любил общество Соньки-с-протезом. Он садился на кухне на табурет рядом с ней и подолгу с ней болтал, пока она жарила на сковороде “завтрак бедного офицера” – ломти хлеба, обмокнутые в разбитое яйцо.
Он никогда не посягал на ее еду, хотя она его не раз угощала: ешь, Сонька, сама, у тебя руки нет, тебе надо много есть. Ну так что ж, руки нет, смеялась Сонька-с-протезом, значит, мне надо жрать от пуза, так я ж нахально растолстею, в дверь не влезу!.. Будешь меня, Митенька, на тележке возить, в своем занюханном РЭУ скрадешь, колесики приладишь!..
Они хохотали оба от души. Митя глядел, как ловко Сонька-с-протезом управлялась на кухне одной рукой, чуть помогая себе обрубком. Вот она не унывает. А что же ты? И ты не унывай. Все еще у тебя впереди. Все еще будет.
Трезвон раздавался то и дело. То и дело бежали жители к входу – открывать дверь. Гости валили валом. Самые разные. К кому ни попадя. О, да сегодня просто аншлаг!..
– Митя, и откуда ты знаешь такое мудреное словечко – “аншлаг”?.. у своих арбатских иностранцев, что ли, подучился?..
В кухню всунулась старая Мара. От нее за версту несло самогоном. Она подхромала к Мите, обдавая его сивушным ароматом. Два зуба, два гнилых желтых клыка торчали из ее страшной пасти. Глаза лучились пьяной добротой. Она сегодня выпила и была добрая. Добрее всех. Добрей самого Иисуса Христа.
– Ми-тень-ка, – закачалась старуха перед ним, как орех на елке. – Вы-ру-чи. Ребятня ко мне завалилась… а на шкалик-то и нету. Старая дура все сама вылакала. У тебя денежка есть … в заначке где-нибудь?.. Выручишь, а?..
Митя развел руками. Он вчера просадил всю свою заработанную деньгу в “Праге”. Сиденье в “Праге” было его наркотиком. Сидя за столом в кафе, так похожем на ресторан, он воображал себя смертельно богатым: таким, каким ему и следовало быть в этом мире.
– Нетути, Марочка дорогая, ничегошеньки… гол как сокол!..
Сонька сунулась от сковородки:
– Вот закусь могу подарить… два куска от задницы “бедного офицера”!.. горяченькие!.. прямо со сковороды!..
Старая Мара горестно вздохнула. Ей не нужна была съестная милостыня. Ей нужно было угостить гостей хорошей – это значит, любой, пусть даже самопальной – водкой. Плохой водки не бывает, говорила она наставительно, поднимая заскорузлый покалеченный – однажды попавший на заводе в станок – палец, бывает только хорошая или очень хорошая.
И тут раздался – на всю квартиру, дымящую и чадящую, гомонящую и хлопающую дверьми, еще один трезвон, и Митя услышал, как по коридору потопали тяжелые башмаки – это Флюр и его дружок Рамиль, живший вместе с ним в каморе, наперебой бежали открывать.
Гарканье, клекот поднялись в коридоре до потолка. Прибывшие были невероятно, как певцы в концерте, громогласны и вроде бы уже навеселе. Флюр кричал:
– Заждались, кореша!.. Валяйте, у нас пузырь есть!.. Посидим как белые люди!.. Ты, Варежка, ты как-то расширился, морда у тебя раздалась… ну, тебе идет, ты не куксись!..
Митя понял – гости жданные; при чем тут он, его забудут, его не пригласят, – как вдруг в кухню вихрем ворвались Флюр и монгол Янданэ, кинулись к Мите, схватили его за руки, потащили за собой:
– Идем с нами… выпьем с нами!.. Классные ребята к нам приехали!.. Тебе они понравятся… Хулиганы, правда, но такие забавные!..
Митя покорно, как телок на веревочке, пошел, повлекся туда, куда его тянули. Он часто в каморе Рамиля и Флюра играл на старой рассохшейся гитаре, заглушая, как картами, музыкой – голод и тоску; часто оставался у них ночевать – на прогорклом, пахнущем луком и засохшей блевотиной матраце, когда в своей комнатушке он работал красками, разводя их остро пахнущим живичным скипидаром и от нестерпимой вони кружилась голова так, будто ты выпил бутылку водки без закуски.
Митя привык к каморе Флюра. Так же, как он привык к закутку Соньки-с-протезом, к медвежьей норе старой Мары. Вся коммуналка была его родным домом. Незнакомые гости?.. Плевать он хотел. Сейчас он с ними познакомится.
Длинный и узкий, как его спина, стол был укрыт, в лучших традициях, старыми пожелтевшими газетами. На газетах стояла запотевшая, только что вытащенная из заоконной морозной сетки бутылка, лежали в миске соленые помидоры, пугающие яркой, резкой краснотой, соленые же огурцы – Митя почти почувствовал их жесткий стекольный хруст на зубах, – валялся круглый ситный, и – о чудо из чудес – вытянулся вдоль газетных заглавий длинный батон колбасы. Янданэ, насмешливо блестя щелочками сильно раскосых монгольских глаз, внес в камору блюдо с вареной дымящейся картошкой.
– Гуляем, братва! – крикнул Флюр. – Водки мало! А где Гусь Хрустальный?.. Почему нет Гуся!.. А подать его сюда, к столу!.. Съедим с потрохами, косточки обсосем!..
Митя огляделся. И вправду, Гуся не было. Зато толклись, как черная мошкара, гости, и можно было без лупы, нос к носу – мала, мала комнатенка для жизни, хороша лишь для любви – рассмотреть их.
Их было трое. Это была странная троица. Они держались вместе, рядком, кучно, притираясь друг к другу, срастаясь локтями, как будто из кто-то пытался разрубить, разбросать, как зерна. Так держатся, жмутся друг к другу паханы на зоне.
Какие светились в полумраке каморы у них лица? Митя не мог бы разобрать. Он пытался быть художником, но его зренье здесь отказывало ему: черты лиц пришедших стирались, таяли и гасли, как перегоревшие лампочки. Они все были, кажется, коротко стриженные. Один так и сидел в шапке. Митя протянул руку, чтобы бесцеремонно-шутейно сдернуть с гостя шапку, но тот так сверкнул на Митю глазами, что Митя больше не приблизился к нему. Когда один из троицы говорил, двое других поддакивали, кивали головами, будто они были китайские бронзовые бонзы.
Это были… друзья Флюра?.. Флюр, это видно было, рад был им сверх меры. Троица владела радостной тайной.
– Давайте знакомиться, – доброжелательно сказал Митя, – я…
– Ты Дмитрий, я знаю, – перебил его тот, в шапке, снова высверкнув выпученными глазами. – Гусь Хрустальный рассказывал о тебе. Он брехал, что ты художник. Значит, ты…
– …значит, ты кое-что смыслишь в одной вещи… в одном деле, – вклинился его сосед со стриженной долыса светлой круглой головой. У него был такой вид, будто он только что выпрыгнул из холодной тюремной бани. – В общем, в живописи.
– Заткнись, Гунявый! – вспыхнул Шапка. – Замкни свой сундук! Брехало твое без костей, я понимаю… Рано! Сейчас еще – рано! Ты же не знаешь фраера. Он тебе ряску на форштевень полепит, а ты и будешь доволен.
Третий гость молчал. Его башка таинственно светилась в темном углу, куда он забился, заслонился бутылью, миской с помидорами, долговязым Янданэ, плечистым кудрявым Флюром. Он был такой же русоволосый, как и Гунявый, только волосы его торчали вокруг безликого лица чуть погуще.
– Что вы, ребята, все о делах да о делах!.. – притворно-весело воскликнул Флюр. – Давайте выпьем сначала! Грех не выпить, такой день..
– Какой?.. – вытаращился Шапка. Сдвинул шапку на затылок, но не снял. Мите показалось – он вспотел, взмок весь. От желтой солнечной картошки поднимался вкусный горячий пар. Мужики с вожделеньем поглядывали на яства и выпивку. Кто-то должен был откупорить бутылку. Кто-то – стать простеньким, неизящным тамадой.
– Какой, какой!.. День святого архангела Михаила, вот какой!.. Мне Хендрикье сказала. А ей старуха Мара сказала. В общем, все бабы знают. А мы, мужики, не знаем. Нам все по хрену. А у нас Михаилов тут нету?..
– Как же нету!.. очень даже есть… это ж Гусь наш, Хрустальный… да вот нема его в его кладовке, подзадержался он где-то… – Флюр цапнул со стола бутылку, стал расковыривать пробку ножом, потом, плюнув на приличья, зубами. – Придет, не запылится. Сдвиньте фужеры в кучу, господа!.. Разливаю!.. Мишка, пущай тебе икнется!..
“Фужеры” – на деле старые кухонные граненые стаканы, чайные битые фаянсовые чашки, маленькие медицинские мензурки, сборная посудная солянка – наполнились булькающей жидкой ртутью. Гунявый крякнул и вытащил из-за пазухи еще бутыль и брякнул ею об стол. Шапка, тяжело вздохнув, оглядевшись вокруг и оценив обстановку и наличие жаждущих водки мужских глоток, повторил жест. Из-под его подмышки появилось не что иное, как бутылка водки “Абсолют”.
“Абсолют”! У Мити потемнело в глазах. Водку “Абсолют” пили только богачи и иностранцы. Она продавалась в фешенебельных магазинах. Бутылка “Абсолюта” стоила… черт. Опять стоимость. Опять цены. Будь проклята эта жизнь, где все стоит так, что ты не можешь этого купить. И никогда не купишь. Даже если душу дьяволу продашь. Даже если заложишь самого себя со всей требухой.
Флюр встал за укрытым газетами столом с чашкой водки в руках, поманил пальцем монгола.
– Великий Янданэ хочет произнести тост! – торжественно возопил он. – Спокуха на лице! Запоминаем каждое слово мудрого и великого кормчего…
– Закрой свой гроб, Флюр Сапбухов, и не греми костями, – бесстрастно процедил Янданэ и медленно поднялся, сжимая в кулаке граненый стакан. Митя весело смотрел на него. Забавные гости. И наши ребята веселятся. Сейчас все упьются – горючего много, а жратвы мало, – и начнется самый карнавал. – Я предлагаю выпить за то, чтоб мы с вами вдруг и внезапно разбогатели. Смерть надоело чистить с похмелья лук грязными ногтями!.. И скрести эти вонючие столичные тротуары…
– А ты бы лучше скреб их в своем дерьмовом Удэ, да?! – запальчиво крикнул Флюр. – Это же все-таки столица!.. Город-герой Москва!..
– Хрен с ней, с Москвой, – голос Янданэ был спокоен, будто он служил, как лама, службу в дацане. – Я не договорил. Выпьем за то, чтобы не погибнуть. Чтобы не сыграть в ящик раньше срока. Чтобы вырваться из окруженья. Нас окружили. Мы на войне. Мы на Зимней Войне, ребята, и она ведь идет бесконечно. Афган закончился – начался Карабах. За Карабахом – Сумгаит. За Сумгаитом – Абхазия, Таджикистан, Литва, еще черт те что и где. Теперь – Чечня. А у нас тут своя Чечня. Дворницкая. Ежеутренняя. Вставай, поднимайся, невольник, шуруй, с метлой ты родился, с метлой ты умрешь. Нас обложили нищетой. Трудом. Я этот труд ненавижу. – Митя вздрогнул. Янданэ говорил все, о чем он все время думал. – С коржавой метлою иду я туда, где ждет меня страшная рожа труда. Я стараюсь на все смотреть спокойно, как слон. Я сам человек Востока. Я восточный человек. Но я не мусульманин. Я буддист. Я холодный Будда. Я вижу всю гибель и улыбаюсь. Я знаю, что люди друг друга перебьют все равно. Мужики все равно выпьют, если им хочется.
– Кончай! – разудало крикнул Флюр. – Длинный получается акт!..
– Так выпьем же за то, чтобы нам повезло! – подняв стакан так резко, что из него выплеснулась водка на головы гостям, возвысил голос Янданэ. – Чтобы нам подфартило так, что никому и не снилось!
– А Христос ведь был тоже восточный человек?!.. – крикнул Шапка, поднося стакан ко рту, – ведь Он тоже по пыльным дорогам Востока ходил, Палестина, это же чертов ваш Восток, ну, евреи там, ну и какая разница, восточные они народы все равно, восточные и хитрые!.. Хитер ты бобер, водяру разлил уже по второй, все уже квакнули, а я последний валенок, как всегда!..
Он вбросил в крокодилье распахнутый рот серебряный выплес зелья. Митя, выпив, внимательно глядел на того, третьего, затаившегося. От выпитой рюмки в голове зазвенело, в сердце потеплело. Янданэ сел, затолкал в зубы горячую картофелину, обжегся, застонал, задышал, дул на пальцы.
– Мы погибаем в нищете! – крикнул Флюр весело. Веселость не вязалась с печальными словами. – Давайте придумаем что-нибудь!..
Дверь раскрылась, влетел Рамиль.
– Штрафную!.. Штрафную ему!..
Рамиль услышал обрывок последнего возгласа.
– Мы будем самыми богатыми! – важно сказал он, зверино блестевшими косыми глазами глядя на льющуюся в чайную чашку водку. – Я познакомился сегодня на Петровке с такой дамочкой!.. она глава фирмы… Телка что надо… Она обещала нас всех устроить на работу в Америку…
Митя оттянул от горла свитер. Ему стало жарко, как в пустыне. Америка!.. Никогда ему не видать ее, как своих ушей. Рамиль брешет. Дамочка на Петровке. Он скреб асфальт, и она к нему подошла. К низкорослому башкирину Рамилю, с кривым румпелем носа, с веснушками по всему лисьему личику. Как же она им очаровалась.
– Да, надо что-нибудь придумать, – тяжело сказал Митя, – так больше нельзя. Лопата утомила настолько, что ею хочется убиться.
Тяпнули водочки еще; захохотали.
– Убиться?!.. Убиться – это, ха-ха, уже триллер!..
– Кстати, на Пушкинской, в “России”, такую триллеруху крутят… классную!.. “Кровавый орел”… пошли завтра, а?.. после работы, на дневной сеанс, он подешевле…
Тот стриженый, с круглой большой тыквой головы, молчащий в углу парень пошевелился, вздернул плечи, поднялся. Ночь глядела из его лица.
– Вы, ребята. Не будьте козлами, будьте мужиками, если не доросли до блатных. Гунявый, пришла пора колоться. Если не сейчас, то когда же. Ребятишки нам помогут. Нам без помощи никак нельзя. Застрелиться мы всегда успеем. А дельце не мокрое. Колись, колись, Гунявый. Ты же любитель чужими руками жар загребать. Ну вот и начни. Подай пример.
– Вы что, ребята… вы это о чем?.. – Флюр замер над столом с початой бутылкой “Абсолюта” в руке. Круглоголовый парень взял бережно, двумя пальцами, соленый помидор, высосал, плюнул шкурку на газету.
– Сейчас узнаешь. Ямщик, не гони лошадей.
– Ты лучше сам! – крикнул Гунявый, уже сильно захмелевший. – Ты давай сам, Варежка!.. У тебя складней получится!..
– Ну вот что, – сухо, как на суде, отчеканил Варежка. – Есть одна вещица в натуре, и она плохо лежит. Так плохо, что взять ее – просто сладкая малина. Это не примочка, ни в коем случае. Если б это была примочка, я б и не заикался. Короче, выследил я у одних тупых фраеров одну штуку. Это картинка. Старенькая такая картиночка. Хорошенькая. Если ее сбагрить антикварам – могут пристойно за нее дать. Штуки две, три баксов. Я у хозяев прочищал очко. Как полезно копаться в отхожих местах. Они меня потом поили чаем, кормили пирогами, я у них в гостиной картиночку-то и выглядел. Классная фишка. Я бы сам бы себе оставил, если б у меня хаза клевая была. А так… к чему она. Нам бабки нужны. Кто из вас поможет нам?.. Продадим – баксы поделим. Слово чести. Сукой буду.
За столом воцарилось чугунное молчанье. Флюр бацнул бутылкой “Абсолюта” о столешницу. Янданэ невозмутимо, бесстрастно отправлял в рот рассыпчатые картофелины, колечки лука. Митя опустил голову. Жар не выходил из его головы, бился и стучал черной кровью у него под куполом черепа.
– Кража?.. Красть?.. – медленно сказал Флюр – и постукал ногтем о горлышко бутылки. – Хоть я и пьян, ребятки, но скажу вам без запинки, что красть не буду. Не крал и никогда не буду. Так уж меня мама воспитала. Старорежимно, да.
Варежка усмехнулся одними углами рта. Гладкое лицо Варежки было чисто выбрито, мерцало в полутьме. Свечка, что приволок Янданэ, догорала; тусклая лампа под потолком слегка мигала, подмигивала заговорщикам. Раскладушка, держащая на спине, как рыба-кит, старый полосатый матрац, покорно ждала засидевшегося гостя для тоскливого холодного ночлега.
В дворницком доме в Столешниковом переулке зимой неважно топили. Жители мерзли; ну, на то они и бедняки, чтобы мерзнуть. На то они и люмпены. Христос терпел и нам велел. Страданья облагораживают душу. А тело – что тело?.. Вот оно водочки выпило, тело, и ему захорошело. И весь тут простой сказ.
– Чистенький, – процедил Варежка. Гунявый мрачно примолк. Шапка сидел как вкопанный. Из-под шапки по вискам у него тек мелкий пот. – Ручки марать не хочешь. И хорошо жить тоже не хочешь. А ведь главное, старик, – хорошо жить. Как жаль, что ты этого еще не понял. Поймешь – будет поздно. Житуха скрутит тебя в бараний рог. И из рога этого будут пить другие. Другие! – вдруг громко, страшно, басом крикнул он.
За столом все молчали. Митя резко стащил свитер с широких плеч и бросил его на раскладушку. За окнами сгущалась тьма. Она пронзалась копьями искр. Начиналось ночное безумье Москвы, ее полночный бал, даваемый не для них. Для кого-то другого. Те, другие, веселились, выплескивались из роскошных апартаментов в ночные клубы, в валютные уютные рестораны, на блестящие рауты и парти, на премьеры закрытых элитарных спектаклей и фильмов, погружались в великолепные машины последних моделей, чтобы ехать друг к другу в гости, чтобы потягивать коктейли из высоких бокалов и обнимать прелестных, душистых и нарядных женщин, с жемчужными ожерельями вокруг стройных шей, длинноногих, как антилопы, с улыбками ангелов и нежными руками умелых проституток. Почему?! Почему им – все, а нам – ничего?! Потому, что мы хуже?! Ничуть. Мы такие же. Мы лучше. Тогда в чем дело? Значит, ты не можешь стать таким, как они, потому что ты глуп и туп, потому что Бог не дал тебе ума, ловкости и сноровки, чтобы влезть на вершину дерева, и ты копаешься в грязных навозных корнях?!
Рамиль жалко потряс чубатой головенкой. Водка водкой, а он все славно кумекал. Нет, нет, и он тоже отказывается. Нет, ребята, гуляйте-ка вы лучше сами. Одни. А то и на воздух пора. Вон, пройдитесь по Тверской. Пофланируйте, там много шастает сейчас отпадного народцу, красотки всякие, козочки. Подцепите кралю, поведите ее в дешевый кабак. Ну не старую же Мару приглашать в кабак, в конце концов. А что деньги у вас в заначке есть, Рамиль в этом нисколько не сомневается, Рамиль тоже прожженный, ого-го какой прожженный, ого-го!..
– Кончай балаган, – оборвал бормотанье Рамиля Варежка. Набычил круглую голову. Мите отчего-то внезапно стало страшно этой его круглой головы. – Нежнячки столешниковские. Скушно мне с вами. И дельце-то плевое. Что два пальца…
Митя понял, что он дрожит. Дрожит мелко, гадко, опасно, и дрожь не унималась, росла в нем, захлестывала его петлей. Ему становилось трудно дышать. Чтобы вернуть дыханье, он вытолкнул из себя:
– Я… я помогу вам.
Варежка быстро повернулся к нему. На бледном круглом лице не прочиталось ничего – ни радости, ни удовлетворенья. Как можно так выдрессировать себя, чтоб ничго и никогда не читалось на твоем лице.
– Ты!.. Митька!.. – задушенно крикнул Флюр. – Напорешься!.. Хорошо выпивать вместе, но идти вместе на ограбленье… ты!.. подумай!.. ведь это же пропасть!..
Флюр, бедный. Защитник угнетенных. Он служил в десантных войсках, он знает, почем фунт лиха. Он прыгал с парашютом в чужие чащобы; он поливал огнем из автомата в Карабахе бедные восточные народы, сам весь насквозь восточный. Куда он суется. Это же его, Митин, выбор. А может… он и впрямь ступил на доску, что подбросит и перевернет его в черном, спертом воздухе?!.. Картина. Украсть картину. У простых людей. Каждый человек не прост. И он не прост. И эти загадочные ребята не просты. Они тоже работают в РЭУ, только в соседнем. На Тверском. Он вспомнил. Флюр рассказывал. Две штуки баксов!..
Если поделить… на всех… м-да, негусто…
– Отвали, Флюр, – тихо сказал Митя, продолжая мелко дрожать. – Я иду с ними. Я хочу. Я хочу этого. Слышишь.
– Леонардо… Недовинченный, – так же тихо, зло ответил Флюр, приблизил к Мите пьяное лицо и дыхнул. – Иди! На ментов напорешься мигом! В кутузку сядешь! На зону поедешь!.. А у тебя и невесты нет, чтоб письма писала, посылочки отправляла… сирота ты наша казанская…
Митя обвел глазами троицу. Шапка отер пот с виска. Гунявый облизнул пьяный скользкий рот. Варежка, откинув голову, как князь, владыка, глядел презрительно, властительно, надменно: все вы салаги, все фраера.
Пустая бутылка из-под “Абсолюта” нежно светилась в тревожной полутьме. Свечка Янданэ догорела. Оплавленный воск застыл сталактитами. На желтой старой газете расплывались красные пятна помидорного сока. Над топчаном с торчащими пружинами, с выдранной из журнала обложки, глядела старая красотка София Лорен, улыбаясь полными, вывернутыми, как у мулатки, сладострастными губами.
– Я пойду с вами на кражу, – твердо повторил Митя. Его всего колыхало. Щеки его горели, как на морозе. – Когда встречаемся?.. Где?.. Меня вы найдете, это понятно. Я не знаю, где вас искать.
Дверь откинулась, чуть не сорвавшись с петель, и вбежал худой, поджарый человечек в сдвинутой на затылок собачьей ушанке. В руках у человечка был зажат дворницкий букет – две метлы, лопата, скребок, маленький чугунный ломик.
– Приве-е-ет!.. – возгласил он тонким голосом и вытянул шею, и вправду стал похож на гуся. – А я вот проспал с утрянки, пришлось вечером повкалывать!.. Все, сдам участок завтра Королеве Шантеклэра в лучшем виде!.. О, гости!.. да вы все тут уже тепленькие, собаки, а меня никто с Петровки не позвал, за шиворот из дерьма не вытащил… там ярмарка днем была, так я после ярмарки те ящики два часа не мог растащить!.. хоть бы помогли, сволочи!.. Дайте выпить поскорей!..
– Последняя бутылка, – мрачно сказал Флюр, покосясь на Митю гневно. – У нас последняя бутылка. Так-то вот. Успел ты, Гусь, к столу, на то ты и Хрустальный. Выпей, и завтра дрыхнем. Завтра будем дрыхнуть без задних пяток. Никакой сдачи участка. Ты забыл, старичок, что завтра воскресенье. Ты заработался. Отдохни.
Митя остановившимися глазами следил, как Флюр наливает в чашки и стаканы последнюю водку. Он понял: он сейчас переступил порог. Перешел вброд запретную реку. И на другом берегу реки – другая жизнь. И он теперь уже другой. Он иной. У него иная кожа, иные руки, иные мысли. И он не знает, какая эта новая земля. Что с ним будет там. В тяжелой ночи, прорезаемой яркими вспышками глупых реклам.
Троица ушла. Они договорились так: Варежка придет к нему послезавтра, и они вместе пойдут на дело. Хозяева квартиры, где висит картина, – простые как лапти. Вариантов было два: либо усыпить хлорэтилом – Варежке обещала его шмара, медсестра, похитить пузырек хлорэтила из больницы, – либо, нацепив на рожи черные чулки с прорезями для глаз, связать хозяев по рукам и ногам, заткнуть им рты кляпами и спокойненько вынести картину из дома.
Ищи-свищи потом. Тысяча таких квартирных краж по Москве ежедневно.
Если б милиция занималась всеми – она бы просто сдохла, как загнанная лошадь.
Красть в перчатках, отпечатков пальцев не оставлять.
Идти в дом поздним вечером, когда в подъезде мало людей, чтоб не наткнуться на соседей, кто может запомнить тебя, каков ты есть без маски, кролик.
Флюр и Рамиль пытались отговорить Митю. Они и так, и сяк заходили к нему, с разных сторон, с фасада, с тыла.
Флюр зло кричал: для этого я тебя подобрал у метро, мазила бездарный, кому нужны твои картинешки, арбатский прихвостень, дешевка!.. преступником хочешь заделаться, легкой монеты захотел!..
Мягкий Рамиль увещевал: подумай сам, пораскинь мозгами, а если вас сцапают?.. Пятак тебе обеспечен только так, а то и семерик… И амнистии не дождешься… Ты же станешь другим человеком, пойми, дурак, с зоны на материк не возвращаются, даже если тебя и выпускают на свободу, на зоне остаются навсегда!.. У тебя в крови потечет табак зоны, похлебка зоны, касты зоны!.. Там же касты, дурья башка, там же жесткое деленье на касты, не дай Бог тебе провиниться, тут же тебя упекут в чушки, в козлы… в петухи… стать петухом – страшно… это опущенные… один братан мой, двоюродный, на зону попал, стал петухом… и свел счеты с жизнью, повесился в дальняке, в нужнике, значит…
Митя сжимал зубы. Его молчанье устрашало друзей. Он поворачивался к ним спиной. Мышцы узкой спины под мокрой от пота рубахой бугрились, ходили ходуном. Он решил, и делу конец. И не о чем тут больше было балакать.
…да, он просто нищий человек. Да кто шьет ему прозванье человека?! Может, он и не человек вовсе, а так, пылинка, сдунутая Богом с рукава. Город большой и бешеный, а надо найти пропитанье. Кусок хлеба в нынешней Москве дорогого стоит.
Надо молодому человеку найти любовь – хоть она и долготерпит, иной раз терпеть невмочь. Подвернулась баба, Иезавель. Он ходит к ней. К себе он привести ее не может. Его скверное логово в людском муравейнике. Камора, оклеенная традиционными газетами в пятнах вина и масла. Сто каморок – кухня одна. Оттуда вечно тянет суровой гарью, площадным дымом. Это не Москва; это Армагеддон. Место последнего земного сраженья.
Чтобы не класть голову под гильотину тоски, можно напиться водки и бредить. И верить, что в кухне, в самой ржавой кастрюле, кинутой и заброшенной, в которой давно никто и никогда не готовит еду, живет Левиафан. Он кожаный, костяной, ручной.
Старая Мара знает, что он там живет. Она кормит его зимой – мышами, что ловят худые кошки коммуналки, летом – стрекозами. Стрекозы влетают к старой алкоголичке Маре в открытую форточку и садятся на поднятый кверху палец. И она, накрыв беднягу ладонью, сразу, сломя голову, бежит на кухню.
Левиафан хочет есть. Его надо кормить часто, жирно, вкусно. А ты, художник, подождешь. Ты, художник, молча жди. Ты вступил на путь без возврата. Впечатлений захотелось?! Их давно повыбили, как зубы, и они подернулись ядовитым дымом.
Бред, разумеется. Старая коммунальная сказка. Он сам рассказал ее Маре, и она поверила. Дым, дым. Закурить бы. Он курит самую дешевку – “Приму”, “Бурсу”, “Беломор”. Вытащить из кармана рубахи пачку; выбить папиросу; закурить дрожащими руками, чтобы в голове стало тепло и ясно. Он курит невесть с каких пор. Давно. Может, с трех лет. Куревом пропитались крепкие сибирские зубы, стали слабыми, желтыми, и он время от времени вынимает их из десен, как желтые ягоды из лукошка. Он обкуривал свою Иезавель, и она кашляла, как чахоточная. Докурив, он протягивал к ней жалкую руку.
Он клянчил копейку на сигареты, на папиросы. Он хотел есть, пить, курить, любить, а денег, чтобы заплатить за все это, у него не было. Он втягивал голову в плечи. Он глядел жалобно, кривя рот в усмешке, где среди ровного ряда зубов зияли черные дырки. “Я отплачу тебе своими картинами. Только дай. Дай!” Женщина вскидывала голову, и ее глаза скрещивались с его глазами. Глаза – клинки. Взглядом можно так же убить, как словом. Как ножом – в черном дымном углу, в подворотне.
Он молил у Иезавель милости. Он потреблял ее, ел ее, выгрызал – мышкой – дырку в ее неведомой ему жизни. Она никогда не отказывала ему. Это было странно. Он сначала радовался. Пока до него не дошло, что он ей тоже нужен. Что она тоже пользуется им, как расческой, как костяной буддийской лапкой для чесания спины.
Он курил и вспоминал, как это было. Это было совсем недавно. Сегодня?.. Вчера?.. Как тело отлепилось от другого тела. Розовая, потная молодая плоть. От нее идет пар, дым, огонь. Крестец промерз на холодных досках. По телу текут алмазы, топазы, икра, молоки, звезды, огни. Все краски мира. Течет горящая смола, и выходят вперед нищие воины с метлами и лопатами наперевес, чтобы мести вдоль и поперек собаку-жизнь. Женщина на полу дышит хрипло; может, заболеет. Не будет гнуть и ломать его. Проклянет – хоть на время.
“Одевайся и проваливай. Мне с тобой было плохо.”
“Врешь!”
“Убирайся.”
Он помнил, как радужки ее из черных превратились в зеленые, злые, блестели жуками-бронзовками. Она тяжело дышала, в ее груди клокотали хрипы. Он чуял ее ребра под своими. Он знал, что она любит его.
Он также знал, что рядом с норой, где в коммуналке жил он, глодал голую кость, на грязном кожаном мате, лицом вниз, лежала и ждала его маленькая дурочка без роду-имени. Он называл ее Хендрикье. Она тоже любила его.
Ее любовь была скучна, тускла и тонка, горела черным, неважно промасленным фитилем. У Хендрикье не было никакого имущества, был только старый спортивный мат в комнатушке, чтобы ночью спать, ржавая сковородка, нож и вилка, чтобы готовить еду.
Ложки не было. Иногда, утомившись ковырять вилкой, она ела из сковородки руками.
Когда у нее, неизвестно откуда – она нигде не работала – заводились маленькие денежки, она покупала камбалу с двумя глазами, сумасшедше глядящими в зенит, жарила ее на бронзовом прогорклом маргарине и угощала Митю, после вечерней погони за красками по белому полю холста плохо соображающего, где лево, где право.
Старая Мара гоняла Хендрикье, замахивалась на нее ополовником. Сонька-с-протезом подхихикивала над ней. “Может, ее в больницу сдать?.. Жалко!.. она вроде безвредная… “ Коммунальцы привыкли к ней.
Митя тоже привык. Она не признавалась ему в любви – любовь светилась у нее внутри, вылетала из нее тонкими лучами. Он работал, работал, писал до упаду; она тихо стучала к нему в камору, скреблась, как мышь, в дверь. Она касалась двери, как языка огня. Он отпирал – она молитвенно, лодочкой, складывала тощие ручки. “Приходите на обед, господин!.. Да, господин!.. Нет, господин!..” Где, в каком сериале по телевизору она это видела и слышала?.. Митя не знал, плакать или смеяться или плюнуть ей в лицо.
Она была такая серенькая, что одолевало искушенье – размалевать ее свежей кистью, разными красками. Нарисовать на впалых щеках незабудки. По носу мазнуть морковным кадмием. “Идите, Митя, ваша рыба стынет!..”
Он послушно шел, ибо есть было ему нечего, и пыльная пустыня его холостяцкой посуды хищно мерцала. После вонючей еды он позволял себе повеселиться с Хендрикье на черном жестком мате, стащенном неведомо кем и когда из ближней школы. Он сажал ее на себя, как елочную игрушку, и жестоко бил копьем снизу. Его не волновали ее крики. Дурочка, и все. Главное – она не противно пахла. Скорее нежно. И все же это был не родной запах. Не тот.
А при виде Иезавель ноздри его раздувались, и в них входил лошадиный дух, топот, пот, скрип повозок, соль свежей крови, духмяный дым древних горящих палочек для молитв, пар, завивающийся в ночную темень вверх – от грубых степных лепешек, испеченных в камнях, в золе отбушевавшего костра. Иезавель не отроду жила в Москве, это он знал. Какой конь-любовник, на котором она прискакала сюда из дикой азийской ночи, искривил ее горячие ноги?
Ну, вспомни еще раз о ней. Вспомни и забудь. Как она опять, после объятий, уселась в позу лотоса, переводя дух. Не утрудив себя одеваньем.
В комнатке сгущался холод, белым папоротником клеился к стеклам. Камин, упомянутый ею, мог быть просто-напросто сказкой. Каменно сидела голая Иезавель, и он, пяля одежду на себя, утекая по голым доскам вон в звоне пуговиц и крючков, смертно ревновал ее всю – от черного затылка до горелой корки истоптанной ступни. Он убил бы за нее всех. Всех.
И все время, пока он застегивался и шарахался к двери, не в силах уйти, она молчала. Молчала и тогда, когда он, вне себя, неистово крикнул ей в недвижное раскосое лицо:
– Ненавижу!
Снаружи шел снег. Шел белый, черствый хлеб. Огромная темная Божья рука из сбитых в комок туч скупо крошила снег на Москву, по крохе отмеряя голодным.
Он решил больше никогда Иезавель не писать.
Хлеб падал ему на щеки, и он жадно слизывал его.
А сейчас он жадно вдыхал табачный дым, опьянялся дымом, как вином, как водкой “Абсолют”. Варежка мог прийти к нему с минуты на минуту. Во всякое время мог прийти к нему Варежка, и он должен был быть готов.
Когда на всю коммуналку раздался оглушительный трезвон, Митя уже знал, что это за ним.
– Заходи.
– Уже зашел. Ты в форме?
– Я в полном порядке. Ты как?..
– Никак. Как старый дурак. Ты не выпил для храбрости?..
– Нет.
– Хвалю. От нас не должно вонять алкоголем. Мы должны быть сами как доктора.
Варежка скупо хохотнул. Подвытащил из кармана сверкнувший стеклянный пузыречек. Митю обдало холодом.
– Хлорэтил?..
– Представь себе. В спектакле будет и то, и другое. Мы сперва брызнем им в хари этой дрянью, потом повалим на пол и свяжем. Два зайца сразу будут убиты. Они оглушатся сначала, а после очухаются, да будет уже поздно. Может, им удастся еще увидеть наши радостные зады, когда мы станем отваливать к выходу с картинкой под мышкой. Ты оделся?.. Вперед. Труба зовет. Говорю тебе, мы сильно подлатаемся, парень. – Варежка мазнул себя пальцем по гортани. – Под завязки. Если ты, случаем, задрейфил, сразу скажи. Мне хлюпики обсосанные на деле не нужны.
Митя застегивал старые рабочие потертые джинсы. Черные джинсы, теплые, зимние. Отличные штаны, и в пир и в мир. Но позорно старые. Вытертые на сгибах. Если они украдут картинку благополучно и впрямь забогатеют, он первым делом купит на барахолке приличные джинсы. Эти-то совсем износились.
А потом купит Иезавель бусы из искусственного розового жемчуга в ювелирном на Новом Арбате. Они висят там на черном бархате. Как розовые звезды. Боже, о чем он думает. Он напряг мышцы ног, огладил себя по коленям, зажмурился, затряс головой, потер руками лицо.
– Все о’кей, старик. Идем. У меня сердце бьется, как у космонавта. Можешь не сомневаться. А ты… – Отчего-то Мите захотелось ЭТО у него спросить, и именно теперь. – Ты на дело часто ходил?.. Ты… откуда все так знаешь, что да как?.. Или ты тоже… первый раз?..
Варежка, скрипя негнущейся “чертовой кожей” черной куртки, оглянулся на Митю через плечо так, будто бы он был опытный рыбак, а Митя – маленькая дохлая уклейка, попавшая случайно в сети с жирными отборными сазанами.
– Обижаешь, начальник, – кинул он весело. – Я уже отмотал срок. На Северном Урале, в Ивделе. Солдатики с собачками нас стерегли. Хорошенькие такие собачки были, откормленные. Собачек лучше кормили, чем людей. Я одну собачку там полюбил. Ну… как человека. Она мне всем была, и подругой, и другом, и санитаром, когда болел я, она мне свои косточки притаскивала, чтобы я погрыз, и какую-то травку в зубах приносила, из тайги. Лечебную, значит. Нет, друган, козлом я не стал, не ссучился. Меня так просто на шило не возьмешь. Паханы меня уважали. Но та собачка… да, собачка!..
Глаза Варежки увлажнились. Любить зверя как человека! Идти на человека, как на зверя.
Те два хозяина картины были сейчас для Варежки – два зверя, и он должен был на них поохотиться, взять их, связать им лапы, как волку. Волка в Сибири привязывают, пойманного, к бревну и так несут на заимку, и он глядит из-под бревна красными горящими глазами, и во взгляде этом – все: и ужас, и мольба, и ненависть, и слезы. Только прощенья в этом взгляде нет. Нет прощенья.
Они с Варежкой спустились в старой коробке запаршивевшего лифта вниз, потряхиваясь, как на лебедке, нюхая запахи кошачьей и человечьей мочи, читая бессмысленные похабные надписи, выцарапанные ножом на стенке.
Улица обняла их могучими снежными лапами. Снегопад. Хоть завтра и воскресенье, а тебе придется, Митенька, потрудиться на свежем воздухе, ибо в понедельник ты не разгребешь завалы. Есть один выход – соблазнить Королеву Шантеклэра и отвлечь ее от приема участка, но ведь она ни за какие деньги не соблазнится тобой.
– Динь-дилинь!. Динь-дилинь!..
Ого, у них в хатенке колокольчик. Как нежно, изысканно. Если у него когда-нибудь будет такая квартира…
Митя не успел додумать. За дверью зашаркали тапочки. Пожилой человек шел к двери, охал, кряхтел на ходу. Зацокал замок, и тут стоявший за дверью спохватился – а как же это, не спросив!.. такое время нынче страшное, того и гляди, влезут жулики какие!.. – и бормотнул тихим, слабым тенорком:
– Кто это там?.. поздно уже…
Варежка кашлянул. Подмигнул Мите. Выдернул из кармана припасенные черные шерстяные чулки с прорезью, один протянул Мите, другой живо натянул на голову. Митя ахнул про себя, увидев вместо лица Варежки черную тупую болванку с двумя сумасшедшими глазами, белки блестели в прорези, как рыбы в проруби.
– Нацепляй, что стоишь, как солдат на вышке!.. – прошипел Варежка шепотом, сложил губы трубочкой, приблизил лицо к двери и пропел:
– Валерий Петрович, добрый вечер вам, это я, Илья, слесарь ваш!.. Я у вас недавно был вот, да… это… тут инструмент один оставил, затолкал его в доброе место… вы, небось, и не нашли?.. а мне завтра надо, я по участку на ремонты иду… Вы не бойтесь, я не пьяный!..
За дверью молчали. Хозяин все еще сомневался: открывать – не открывать. Время было не слишком позднее, но не так, чтобы ранее – десять вечера. Москвичи не ложатся спать в десять, даже “божьи одуванчики”. Телевизор… чаи… звонки друзей, родни… книжки, душ, тары-бары…
Варежка досадливо прищелкнул пальцами. В двери не было окошечка. Валерий Петрович не мог видеть их черных страшных голов, обтянутых чулками.
– Ох, Валерий Петрович, – Варежка сделал голосок совсем обреченный. – Все, пиши пропало. Начальник мне в понедельник врубит по первое число… я в воскресный день-то на ремонты за пятницу договорился… а в пятницу я приболел… с похмелки сердце прихватило… в общем, хана мне!..
Ну просто заплачет сейчас. Митя блестел глазами в прорези маски. Митя готов был сам пожалеть несчастненького Варежку – так правдоподобна была его отчаянная мольба.
Ключ снова заскрипел в замке.
– Ну хорошо… сейчас, сейчас… я уже в халате… а Валечка спать уже легла… она сегодня вымылась, ванну приняла… что ж это вы, Илья, припозднились так, пораньше бы… и какой инструмент?.. нету у нас никакого инструмента…
– Под ванну я его сунул, под ванну… далеко…
– Ну только если далеко… ах…
Дверь не успела открыться настежь, как Варежка изо всех сил нажал на нее плечом, отдавил, вставил ногу между дверью и притолокой, схватил за руку хозяина, попытавшегося накинуть осторожную цепочку – а вдруг это все-таки не Илья, а просто у какого-то проходимца голос похож?!.. – налетел на него, смял, прижал к стене, и Митя влетел в прихожую следом, и тоже схватил Валерия Петровича за руку, и вдвоем, в диких черных масках, они держали беднягу за руки, будто собирались распять. Седой грузный мужчина с жирненьким подбородком беспомощно дергался, пытаясь вырваться, пытаясь крикнуть. Варежка выхватил из кармана стеклянную ампулу, отломил стеклянную верхушку, направил распыляющуюся морозную струю прямо в лицо, в нос старику. Валерий Петрович задергался, стал сползать по стене. Сдавленно вскрикнул:
– Валечка!.. Ва…
– Не бойся, мы тебя не убьем, дедушка, – внезапно грубым голосом из-под маски вякнул Варежка, – никакой я не Илья, и забудь обо мне, как меня и не было. И Валечку твою мы не кокнем. Пусть живет. Знать, судьба вам умереть своей смертью, доходяги. А вот кое-чем мы у вас поживимся. – Говоря это, он связывал толстому старику руки за спиной, ноги в щиколотках крепкой медной проволокой. Митя чуть не закричал: осторожней, не так сильно стягивай, это же медь, она ему кожу перережет, – как вдруг Варежка обернулся, и Митя увидел, как зло, бешено сверкнули его глаза из шерстяной щели.
– Ты, фраер!.. – выцедил он, вставил старику в рот кляп и перевернул его лицом вниз. – Что валяешься без дела, как газета в дальняке!.. Иди туда, в дом, там же Валечка, черт ее закатай, в свежей постельке почивать собралась!.. Давай, обработай ее, а я сейчас подключусь!.. Ты что, слабак, с бабой не справишься?!..
Митю опять затрясло, как тогда, на судьбоносной пьянке. Водочки глоток сейчас не помешал бы. Медлить нельзя. Сейчас Валечка расслышит как следует возню в коридоре, поймет, в чем дело, вылетит на балкон, если есть балкон, откроет окно и поднимет хай, или рванет трубку, наберет ноль-два… или она уже ее рванула… уже набрала..
Он пробежал огромную гостиную с аккуратно застланным белой камчатной скатертью круглым столом, с горками перламутровой посуды, фарфоровых сервизов, со старинными этажерками времен Александра Третьего, на которых штабелями были сложены старые, в лоснящихся темных переплетах, с золотым тисненьем, драгоценные книги, и вбежал, откинув портьеру, в спальню.
На кровати, под одеялом, лежала распаренная, вся розовая, с тюрбаном полотенца на голове, на мокрых волосах, дородная пожилая женщина, похорошевшая после купанья, после горячей воды, кремов, лосьонов и притираний. Ее руки лежали поверх одеяла, как у послушной девочки. Впору ей было бы сложить ручки и прочитать молитву на ночь. Она глянула на ворвавшегося в спальню Митю – не Митю, а черную болванку в дворницкой штормовке – остановившимися, вылезшими из орбит глазами.
– Господи!.. Господи, помоги!.. – только и смогла, успела сказать она.
Митя набросился на нее. Проволока была у него в нагрудном кармане, в штормовке, Варежка сам клал ее туда, он хорошо помнил это. Но проволоки там не оказалось. Розоволицая выкупанная Валечка начала с ним бороться, сопротивляться ему. Она не кричала. На ее искаженном лице не было написано ничего, кроме страха. Она не хотела умирать. Она хотела жить во что бы то ни стало. Проволока! Где проволока! Почему нет проволоки!
Ничего себе, какая сильная матрона. Митя и она вцепились друг в друга, возились на кровати. Это было похоже на постельную сцену. А мог бы ты переспать со старухой?.. Нет, никогда. Со старухой можно только дружить. Старый человек – кладезь мудрости. Совсем рядом с собой, со своим лицом, затянутым в черный чулок, Митя увидел широкое стареющее женское лицо, со всеми морщинками, ямками, порами, с родинкой, из которой росли три жалких волосика.
Увидел глаза женщины. Широко расставленные, как две воткнутых в булку изюмины, глаза, и в них – одна боль, одно отчаянье – последнее в мире.
– Не дергайся, – кусая губы под колючей душной шерстью, пробормотал Митя, – это не страшно, это совсем не страшно…
Внезапно женщина под его руками ослабла, стала хватать воздух ртом, закинула голову, зашарила руками вокруг себя. Он понял – она обмочилась: запахло аммиаком, простыня под ладонью увлажнилась. Все тело Валечки расплылось по кровати, будто она была прежде костью и стала нежданно мягким теплым тестом, и оно текло и текло с кровати на пол, текло сквозь руки, сквозь пальцы, и его было уже не собрать.
Она не шевелилась. Кисти покрывала, висевшего на спинке кровати, трепал сквозняк – форточка была открыта. Митя отпрянул. Он ничего не понял. Он подумал – ей плохо, плохо…
– Ей плохо, Варежка! Ей плохо!
Он все кричал: ей плохо, ей плохо!.. – несясь из спальни в гостиную, из гостиной в прихожую, чуть не сшиб с ног Варежку, ухватил его за руки, пытался втолковать ему, как же плохо ей, и надо найти на кухне сердечные капли, и накапать в стаканчик, и дать ей, – и плелся за Варежкой снова в спальню, и повторял это “ей плохо” до тех пор, пока Варежка, присев около кровати, не поднял знающей жесткой рукой, как заправский врач, веко Валечки и не заглянул ей в закатившийся глаз.
– Зрачки не реагируют на свет, нудило, – важным тоном произнес он, сплюнул на пол. – Она уж холодеет. Пощупай. Крепко же ты помял бабенку тут без меня. Жмурик совсем не входил в мои планы. Крутой ты оказался гармонист. Совсем не чайник. Что делать будем?.. А ничего. Придется папашу мочить. Другого выхода нет. Ты хоть картиняку-то видел?.. Объект, с позволенья сказать?..
Митя стоял недвижно, глядел на Варежку. В голове у него стучали бубны, звенели, бесились. Звон и стук наполняли голову, разрывали ее надвое, раскалывали. Он обнял обтянутую черной колкой шерстью башку обеими руками, сжал, как недозрелую тыкву.
– Она… умерла?!.. – глупо, ненужно спросил он.
– Нет, она притворяется! – раздраженно крикнул Варежка и ткнул Митю кулаком в грудь. – Хватит зевать, будто ты налим, которому печень веслом отбили!.. Закрой хайло!.. Двигай в гостиную, снимай со стены картинку!..
– Какую?..
– Она там одна, дурило!.. Одна-единственная висит!.. Это, видно, все ихнее наследье старого режима!.. память какого-нито дедушки, бабушки какой…
Митя попятился из спальни. Впал спиной в гостиную. “Она умерла, она умерла”, – повторяли его дрожащие губы сами по себе, а внутри него кричало: я не виноват, нет, я не виноват. Я не ушиб ее… я не зашиб ее, не задавил… я не сделал ей ничего плохого!.. Люстра в гостиной, с дешевыми прозрачными пластмассовыми пластинами, сработанными под хрусталь, бросала пятна света на круглый стол.
Над столом, напротив посудной горки, висела… эта вот ерунда?..
Митя непонимающе смотрел на картину. Митя даже расстроился. Да нет, это, наверно, совсем не то, о чем говорил Варежка.
Маленькое такое полотно, с виду невзрачное, тусклое, то ли это свет от люстры тусклый, дешевый, то ли он странно ослеп от близости смерти. Он подошел ближе. Еще ближе. Глаза его стали привыкать к письму, к манере художника.
Так, формат пятьдесят на шестьдесят, не особо впечатляет. И фигурки маленькие такие, хоть в лупу рассматривай. Что тут изображено?.. Он уткнул нос в картину. Масло, да. Как все скрупулезно выписано. Мастер был любитель подробностей.
Вдалеке мерцали высокие деревья, усыпанные непонятными плодами, похожими на лимоны, на апельсины – они ярким золотом, медными шкурками светились в темноте. Деревья напоминали наряженные Рождественские елки. Вровень с верхушками деревьев стоял ангел. Его громадные крылья распахнулись за его спиной, заслоняя туманное, все в тревожно-летящих тучах, мрачное небо. В руке ангел держал меч, похожий на язык огня – так неистово горел он в угрюмом сумраке.
И у ног ангела, маленькие, крохотные, как букашки, убегали от его воздетого, поднятого над их головами огненного меча две человеческие фигурки – мужчина и женщина, полуголые, в шкурах, чуть прикрывавших их нагие, трепещущие тела.
Женщина в ужасе закрывала простоволосую голову ладонями. Мужчина, оглядываясь, пытался защитить ее телом, грудью, прикрывал ее поднятой беспомощно рукой. Они бежали. Они спасались. Они уносили ноги от гибели.
Митя осовело смотрел на полотно. Картина висела на стене в тяжелой резной раме, покрытой густым слоем сусальной позолоты. А, вот почему она казалась тусклой – вызывающе богатое золото багета лезло вперед, приглушало колорит живописи. Он бы еще долго так глядел, уставясь, на картину, как резкий и злой крик Варежки вывел его из оцепененья.
– Ты, Митька!.. слышь!.. долго будешь пялиться!.. сдирай со стенки, ховай под куртку – и деру… только из рамы, из рамы высади… на черта нам рама, в раме она под полу не влезет… антиквары лучше без рамы возьмут, им за раму не платить…
– Дурак ты, Варежка, – разлепил заледеневшие губы Митя, – живопись надо и смотреть, и показывать в раме… без багета работа – как без одежды…
Он послушно выполнил приказ Варежки. Когда он снял картину и перевернул ее, чтобы вынуть ее из багета, он чуть не вскрикнул от удивленья. Картина была написана мастером не на холсте, а на меди.
Тяжелая медная доска, загрунтованная особым образом. Митя понятия не имел, кто, где так писал картины. Он знал технику: масло, акварель, гуашь, пастель, – а в художниках и эпохах он разбирался так же, как Гусь Хрустальный – в богемском хрустале.
Он не читал книжек о художниках. Он понятия не имел о ценности этой вещи. Стоило из-за нее огород городить, влезать в жилье наглым образом, в черных дурацких, малышовских масках, и потом, эта Валечка… эта Валечка…
– Может, все-таки вызовем “скорую”?.. – бесполезно спросил он Варежку, выбегая в переднюю. Варежка оттаскивал за ноги бесчувственного Валерия Петровича под вешалку, под беспорядочно висящие старые шубы и пальто.
– Черт, черт, – не отвечая Мите, бормотнул Варежка. – Ах ты, чертова работа какая. Загнулась тетка-то. Надо и ее старого жука для верности заделать. По правилу буравчика. А то потом хлопот не оберешься. Эх, не хотел я. Да видно, придется. – Он кинул взгляд на Митю. Митя поразился – подземный свет вылетал из его глубоко запавших под лоб глаз. – Но не мне ручонки марать. Я их уже немало замарал в житухе. Ежели что… ежели так… ты уже мочканул одну, значит, и второго осилишь.
Варежка метнулся в комнаты. Выбежал с подушкой в руках. Валерий Петрович вяло пошевелился. Рауш-наркоз отходил. Он просыпался. Его выкаченные глаза кричали: ужас!.. ужас!.. пощадите!.. – на бледном жирном лице.
– На! – Варежка кинул подушку Мите, тот поймал ее. – Дави его! Ну! Вали ему на рыло – и прижми! И так держи, пока он дергаться не перестанет!
Митя затряс головой. Все происходящее мелькало перед ним, как цветная наклейка на спицах. Медь картины холодила ему живот. Он прижимал ее к себе под курткой, как прижимают любовницу.
– Я… не буду!.. – затравленно взвыл он. Варежка стиснул угол подушки в кулаке.
– Значит, буду я, – неприкрытая злоба послышалась в его голосе. Митя подумал: да, именно такая злоба нужна, чтобы отважиться убить человека. И Варежка его сейчас убьет. Как убивал других, раньше. Тех, кого Митя не знал. Кто глядел перед смертью вот так же, такими же широко открытыми, полными безумья и ужаса глазами. – Опять я! Всегда я! Везде я! Варежка здесь, Варежка там! Мало того, что я тебя сюда привел, мало того, что я тебя в пай со всеми беру, мало того…
Он бормотал и бормотал безостановочно, подогревая себя, возбуждая, заводя неистовством. Валерий Петрович слабо дернул головой вбок. Варежка навалил подушку на лицо старика и накрыл подушку, лицо, дергающееся тело своим сильным, жилистым телом. Митя видел, как возили по полу ступнями в тапочках ноги старика, как вздергивались колени, будто бы по ним били врачебным молоточком. Еще вздрог. Еще судорога. Еще одна большая, длинная судорога прошла по всему грузному телу. Еще раз дернулась нога. И все затихло.
– Финита, – сказал Варежка, отлипая от распростертого на полу тела, поднимаясь с полу, отряхивая колени, отдуваясь, как после сделанной трудной работы. Сорвал с себя черный чулок. Отер ладонью лоб. – А ведь клятву себе давал, что на последнее мокрое дело иду. Заткнул я едальник одному козлухе тут… еще судимость заработал, еще шестерку. И то, мою вину не доказали. Фифти-фифти все разделилось. Следователь себе последние мозги поджег. Счастливо я отделался. А тут, видишь… – Он будто кипяток выплеснул из глаз на Митю, очумело прижимавшего картину к животу. – Видишь!.. Ничего ты не видишь!.. Ослеп от жути!.. В штаны наложил!.. Больше ни за что с фраерами на дело не иду!.. Ни за какие коврижки!.. Давай, чеши, двадцатой ножкой, сороконожка, за тридцать пятую не задень!.. Да не забудь черную чаплашку содрать, а то тебя керосинки неправильно поймут!..
Они вывалились на лестничную клетку. Пусто. Никого. Варежка аккуратно, чтоб защелкнулся замок-автомат, закрыл за собой дверь.
– Все ништяк, – он, внезапно повеселев, ткнул Митю больно локтем в бок. – Все оказалось простяк! Видишь, Митька, не так страшен черт, как его… малютки, ха-ха-ха!.. – Он оценивающе поглядел на закрытую дверь и присвистнул. – Когда завоняют, тогда менты приканают. Не раньше, чем через неделю-другую… Эх ты, хмырь, что приуныл?!.. Я думаю так – эта бирюлька на две, три штуки точно потянет!.. как пить дать!..
Он нажал на кнопку вызова лифта, навалился всем телом, как давеча – на лицо старика. Митю замутило. Холодная медь, прижимаясь к его горячему телу под курткой, казалось, прожигавшему рубаху, спасала его от позорной рвоты.
– Не вздумай усвистать с ней, – резко, прищурясь, обернулся Варежка к нему. Лифт полз по этажам, как черепаха. – Я тебя везде найду. Если ты сейчас, на улице, ломанешься от меня с ней – я тебя только так догоню. У меня с собой стреляющее шило. Классная такая штуковина.
Он обнажил в ухмылке зубы. Крепкие, блестящие, ровные, как на подбор, один к одному, белые зубы, как в Голливуде. Митя смотрел ему в рот. Лифт полз подозрительно долго.
– Ну что он, катафалк гребаный!.. – Варежка пнул железную исцарапанную дверь. – Еле тащится!..
Он нетерпеливо топтался перед железной дверью лифта. Он нетерпеливо рванул ее на себя, прежде чем железная лифтовая коробка оказалась напротив площадки.
Он занес ногу, перешагнул порог – и вместе с железным тесным бочонком ухнул вниз, вопя истошно, ввинчивая вой ввысь. Внизу раздался сильный грохот. Человеческий вой оборвался. Митя стоял с картиной под курткой и ошалело глядел в черный прогал, в пустоту, перевитую железными цепями и стальными костями, где мгновенье назад затих навсегда человек Варежка, только что убивший человека Валерия Петровича.
Он вышел на улицу. Его шатало. Он нес картину под курткой. Он старался не глядеть людям в лица.
Он понимал: ему надо прийти к своим, в дворницкий дом в Столешниковом, и все рассказать. Кому? И что? И зачем, главное, ЗАЧЕМ он будет рассказывать?.. Ему надо молчать. Молчать, как рыба. Сцепив зубы. Или нет, наоборот, радостно, беспечно улыбаясь. Картина?.. Он пощупал медь под курткой. Ну и что, картина. Какая ему разница. Повесит у себя в каморе. Нет! Не повесит. Придут эти, как их, Гунявый и Шапка, и увидят. И надают ему под ребра от души. Гунявый ведь знает о картине. Варежка его посвятил в свои слесарные изысканья. Нет, он спрячет картину под кроватью… за свои холсты…
Падал снег. Тошнота опять подкатила к горлу. Валерий Петрович жил на Юго-Западе. Пока Митя добирался к себе на “Охотный ряд”, он много раз зажимал рот рукой, чтобы его не вырвало прямо в вагоне метро.
Сонька-с-протезом вышла навстречу ему в распахнутом на груди халате. О, это что-то новенькое. Соблазняет?.. И безруким хочется счастья. Нет, просто забыла запахнуться. Она сгребла халат над ключицами в горсть.
– Митечка, ой, Митечка!.. – запела Сонька-с-протезом соловьем, даже голову закинула, всю утыканную папильотками – она закручивала жидкие волосы не на бигуди, а на газетные бумажки. – Тебя тут разыскивали!.. Ой, такие, знаешь!.. Четверо, в темных польтах… шапки бараньи, темные… как они входную дверь открыли, ума не приложу!.. никто ведь им не открывал!.. и не звонили они… и кто им только ключ подсунул, таким страшным?!.. Они тебя, тебя спрашивали!.. Ой, и еще баба с ними!..
– Баба?.. – спросил Митя пересохшим ртом. Локтем прижал крепче медную доску к животу. – Какая еще баба?..
– Знатная бабец, Митька, ну, куда уж мне!.. Куда уж нам-то, горемычным!.. Красотка кабаре просто!.. Я прямо присела, когда ее увидала… ну вот те хрест, такая краля, ей бы в фильмах сыматься… про любовь…
– Рыжая?.. – выдохнул Митя. Под ложечкой у него похолодело.
– Ну, ты спросишь тоже!.. Она в таких мехах была – отпад!.. Сдохнуть от горчичника!.. Шапка, как митра, – во, песец голубой, таких в тундре стреляют на Аляске, не у нас…
– Что сказали?!.. Когда еще придут?!..
– А ничего… Потоптались и ушли… И я ничего не сболтнула лишнего, ты не думай!..
– Спасибо тебе, Сонечка. Ты золотая девочка.
Митя наклонился, поцеловал Сонькину изморщенную, всю в трещинах от соды и горячей воды, единственную лапку. Сонька-с-протезом подрабатывала судомойкой в ближнем кафе. Ее живая рука ловко собирала со столов чашки и блюдца, как грибы, а мертвая помогала живой. Цирк, да и только.
Было уже за полночь. Он вошел в каморку. Закрыл дверь на ключ. Флюр, Рамиль и Гусь Хрустальный уже давно дрыхли. Они поняли: у него своя жизнь, он делает что хочет, – и не приставали к нему.
Не спал только Янданэ. Когда он шел мимо его каморы, он увидел свет, сочащийся из-под двери. Монгол читал свои буддийские занудные мантры.
Митя подошел к голому столу. Не включал свет – голую, как в гестапо, лампу. Зажег свечу. Свет свечи упал на синий спичечный коробок, на солонку с горкой серой крупной соли, на дешевое, с синим стеклом, сработанным под сапфир, кольцо, купленное на вернисаже в Измайловском парке – туда он тоже ездил продавать свою мазню. Осветил маленький топор – он нашел его, когда колол лед около магазина “Восточные сладости”. Кто его швырнул под дверь магазина?.. Выпал ли он из сумки мастерового человека, потерял ли его такой же, как Варежка, шедший с топором, чтобы…
Не думать. Слышишь ты, не думать. Об этом думать запрещено. И Валечка умерла вовсе не от страха. И не оттого, что он слишком сильно прижал ее. Просто у нее было слабое сердце. Сердце слабое было.
Митя вынул из-за пазухи картину. Варежка лежит там, в лифте, на дне железной шахты. А он – вот он, живой. И картина – у него.
Он приставил медный квадрат к стене. Примерил: как оно будет смотреться. А ничего. Жалко раму. Мощный был багет. Старинный, судя по всему. Безграмотный Варежка. Зачем он его послушался.
Митя, в прыгающем свете свечи, подкрался к своим холстам, притиснутым к оклеенной газетами стене, и затолкал картину вглубь холстов. Смешно, конечно. Так ее любой… фраер найдет. Он усмехнулся криво. Фраер. Забавное словцо. Будто кличка кота. Такой пушистый кот, Фраер, с бантиком на шее.
Он сел на табурет перед столом и закрыл глаза. Он не хотел есть, не хотел пить. Он не мог спать. Свечной язык плясал перед ним. Перед голым столом, перед солонкой, синим кольцом и острым топором сидел совсем другой человек. У него шкура была другая. У него было все другое внутри.
Наутро он не пошел на участок – небывалое дело. Он выспался всласть. Встал, умылся в грязной ванне, поставил чайник на грязной кухне. Похлопал старую Мару по загривку – она впотьмах, в коридоре, искала с похмелья вход в кухню, не могла найти. Мара, Мара, где только ты берешь копейку на выпивон. Крадешь, что ли, в Тверском гастрономе у зазевавшихся хозяек из карманов, старая кляча.
Воспоминанье о картине придавало ему силы. Он думал о картине – и радость захлестывала его. От вчерашней тошноты и ужаса не осталось и следа.
Труп Варежки там, в шахте… два мертвых старческих тела в квартире на Юго-Западной...
Это сон. Это все лишь сон. Вся жизнь – это большой сон, то красивый, то уродливый. Его бедняцкий сон должен закончиться.
Скоро сон оборвется. И начнется прекрасная богатая явь.
Даже штуки, жалкой штуки долларов хватит ему для того, чтобы безбедно прожить полгода в Москве, меняя баксы на рубли. А там… За полгода много воды утечет. И с ним случится счастливый случай. Ведь случился же он… теперь.
Он, умывшись и побрившись, попив пустого, без сахара, крепкого чаю, похожего на чифир, придирчиво перебрал свою одежду, выбирая что поприличнее. Он сегодня назначил себе отдых. Пусть Королева Шантеклэра побесится вволюшку.
Он отправлялся на вернисаж в Центральный Дом Художника. Он видел афиши давным-давно и запомнил. Игорь Снегур – вот как звали выставлявшегося художника.
Митя понятия не имел, кто такой Игорь Снегур. Он увидел на афише фотографию седого, представительного красавца в бороде и усах и подумал: вот великий мэтр, а я жалкий салага, так пусть он меня научит уму-разуму, если я к нему приклеюсь. Надо же мне, наконец, приклеиться к московскому мэтру.
Он вышел из дворницкого дома, даже благоухая одеколоном – старая Мара, расщедрившись, дала ему пошлого тройного одеколону, побрызгаться, из своих неприкосновенных опохмелских запасов.
Центральный Дом Художника гудел, шуршал, шелестел, ахал, охал, восторгался, плевался, свистел, смеялся, шушукался, сплетничал, молчаливо замирал. Выставка Игоря Снегура, известного авангардиста шестидесятых годов, взбудоражила всю Москву. Мэтр не старел. Он как законсервировался в блистательной седобородой красоте, в юношеской живости подтянутого сухопарого тельца – низкорослый, с бородкой клинышком, с глазами как два бешеных свечных огня, Игорь работал как проклятый, как вол, выпуская из-под своей кисти, из-под неистового мастихина работы одну за другой.
Он заваливал холстами посольства. Его полотна маститые галеристы показывали в Вене и Гамбурге, в Стокгольме и Нью-Йорке. На аукционе в Париже один его с виду невзрачненький холстик продался за пятьдесят тысяч франков.
Игорь был одним из самых богатых людей в Москве. Он не кичился богатством. Он, сменивший четыре дома и пятерых жен, оставался все тем же – веселым, бесшабашным, безудержно щедрым, устраивавшим попойки и вечеринки для друзей с поистине царским размахом, дающим сколько угодно и всегда, в любое время суток и года, тому, кто нуждается и попросит – и чаще всего безвозмездно.
Это была именно та жизнь, которая устраивала Снегура. Он был рожден для такой жизни. И Бог дал ему ее. И Снегур щедро платил Богу той же монетой – он работал на износ, на излом, еле успевал покупать краски, холсты, подрамники.
– Вы видели… видели… вон, на том холсте, справа?.. какое безобразие!.. Если искусство будет идти в эту сторону, и такими семимильными шагами…
– Бросьте! Художник создает свое пространство. Оно выше требований толпы. Толпа клянчит, канючит: сделай так, чтобы нам понравилось!.. А художник рычит: а выкусите!.. это вам понравится потому, что я – так!.. – сделаю…
Митя шатался от холста к холсту. Пялился, таращил глаза. Он понимал – он безмозглый щенок, и он не умеет в живописи ни черта. Надо учиться. А учатся вот у таких, как Игорь – он это тоже хорошо понимал. Ну не у арбатских же малеванцев, лелеющих на зализанных холстиках то сосенки и березки, то святого Георгия со змием, то обнаженную бессчетную русскую Венеру с дынными грудями и тыквенным животом, было ему учиться. Да, он уже был умен, если это понимал.
Около одного полотна он замер, не шевелился. Стоял как вкопанный.
На холсте не было ничего, кроме линий и пятен. Абстракция чистой воды. Никаких фигур. Пятна, линии, плоскости складывались в музыку.
Холст звучал. Митя слышал тихую музыку. Ему казалось – он сходил с ума.
Испугавшись самого себя, он отступил от холста – и наступил на ногу маленькому человечку, тоже внимательно, рядом с ним, рассматривавшему картину.
– Недурно?.. – спросил человечек, вытянув палец вперед.
– Ого-го, – сказал Митя восхищенно. – Более чем. Я бы хотел так… писать.
Человечек повернулся к Мите живо.
– Вы художник?..
– Боюсь, что нет, – сказал Митя скромно. – Пытаюсь быть… стать им.
– Приходите ко мне, – сказал человечек и быстрее молнии выдернул из нагрудного кармана клетчатой ковбойки визитку. – Это не домашний адрес. Это мастерская. У меня квартиры нет. Мне мастерской достаточно, я там живу. Игорь меня зовут. Давай на ты. В общем, закончится эта бодяга, мой вернисаж, приходи, прямо сегодня вечером, посидим, выпьем, я потом к тебе в мастерскую приду, погляжу твои работы. Эй, эй! – замахал он руками, заметив когорту телевизионщиков с камерами в руках и журналистов с записными книжонками, надвигающихся на него угрожающе. – Ну вас к лешему!.. потом, потом… Ненавижу прессу и рекламу, – словно прося прощенья, повернулся он к оторопевшему Мите, – зачем человеку лишняя информация?.. кто ее ест, кто глотает ее?.. зачем я миру нужен?.. ну, картины, это да, а я-то тут при чем?..
Это был великий Игорь Снегур собственной персоной.
Митя слонялся по вернисажу допоздна, до закрытия Дома Художника. Потом погрузился в метро и поехал к Снегуру. Мастерская Снегура располагалась на Старом Арбате, в одном из живописных арбатских двориков, особенно красивых сейчас, зимой, заснеженных, искристо-сахарных. Еще только подходя к мастерской, он услышал вопли, веселые крики, раскатистый смех, визги.
Карнавальная ночь. Отмечают открытие выставки. Тут полным-полна коробочка, и это все великие люди, высокие гости. Снегур художник знаменитый, у него в мастерской, уж верно, бывает избранное общество, не бомжи вроде него или Янданэ.
Он трижды нажал на звонок. Звон вплыл ладьей в разливы и переливы смеха и тостов. Дверь распахнулась, чуть не сшибив Митю с ног.
– А! О! – завопил молодой упитанный человек, заросший бородой, как первобытный охотник, в римской шелковой тоге, с просвечивающей в складках ткани волосатой грудью, с кавказским рогом в кулаке. – Еще гость!.. Живо, ноги от снега отряхай, переобуваться не надо, переобуешься на том свете в белые тапочки!.. Гоша!.. Гоша!.. Я не знаю этого Рембрандта!.. Что это за Микеланджело такой, а?!.. все мы тут, братан, – гении…
Он толкал Митю в спину, пока тот смущенно шел по коридору, сплошь увешанному картинами, и наконец втолкнул его в огромную, с высоким потолком, комнату, полную пьяного нарядного народу. Вокруг огромного стола, уставленного изысканнейшей едой – Митя такую только во сне и мог увидать – и дорогими марочными винами и коньяками, толпились веселые и красивые, возбужденные выпивкой люди, чокались бокалами, поднимали рюмки, кое-кто – даже кубки, у кое-кого в руках были наполненные вином козьи и бычьи рога.
Прехорошенькая девочка лет восемнадцати металась около стола, подавала блюда, утаскивала, как мышь в нору, грязные тарелки, несла из глубин мастерской новые яства – красную икру в хрустальных салатницах, жареную миногу, паштеты, тонко нарезанную буженину.
– Знакомься, старик, – первобытный парень подтолкнул Митю к хорошенькой козочке, – Танечка Снегур!..
– Вы… дочка?.. – вежливо спросил Митя, наклоняясь с высоты своего роста к милой девочке. Она обиженно вздернула обнаженные плечики, высовывающиеся из смелого декольте.
– Я жена! – подняла она носик и скрылась в глубинах мастерской.
Там, за спинами пирующих, должно быть, располагалась кухня, где готовилась еда, – оттуда вкусно пахло. Волосатый парень все так же, как глупого бычка, подтолкнул Митю к столу, налил ему рюмку коньяку, всунул в руку бутерброд с ветчиной.
– За Игоря, старик! – крикнул парень и поднял рог с вином над головой, и вино вылилось из рога и капнуло Мите на голову. – За гения русского авангарда! Гоша легендарный чувак, старик!.. И он еще не кончился!.. Он еще себя покажет будь здоров!..
– Спасибо, Слава! – крикнул с другого конца стола Снегур, ухватив за хвост тост. – Ты друг мой!.. я всегда это знал…
Митя оглядывался. Рядом с ним стояла – Игорь соорудил закусочный стол а ля фуршет – маленькая раскосая молодая женщина, похожая на японку. Она сильно подвела черной краской и без того раскосые глаза. Бурятка?.. Монголка, как Янданэ?.. Казашка?..
Какая точеная фигурка, как фарфоровая…
Живая статуэтка была ростом ему по пуп. Он улыбнулся. Она подумала, что он улыбнулся ей, и, коснувшись его руки осторожным и вместе влекущим жестом, улыбнулась тоже. Она была слегка пьяна – ровно настолько, чтобы быть очаровательной и раскованной, дышащей, как раскрытый от влаги цветок.
– Вы художник?..
Ее голосок был тонок и робок. Речь – вежлива и проста. Он ей понравился, он понял это.
– Да. Начинающий. Я ученик Игоря. Дмитрий.
Он сам не знал, почему он ей наврал. Чтобы быть выше в ее глазах?.. Дворник со Столешникова такой дамочке не был нужен.
– А я мадам Канда. Я подруга Игоря. Я давно когда-то любила Игоря. А сейчас мы дружим.
– Канда?.. – Его брови взлетели.
– Я замужем за японцем. Мой муж крупный японский магнат. Он великий бизнесмен. Игорь великий художник, а Окинори Канда великий бизнесмен. Я могла бы выйти за Игоря. А вышла вот за Канда. И не жалею. Ничуть не жалею. – Она звонко, сухо рассмеялась – так раскатываются маленькие стальные шарики настольной японской игры. – Мой муж сейчас в Японии, я, к сожалению, не могу вас познакомить. Давайте выпьем, Дмитрий… на брудершафт?..
Она сама, твердой маленькой ручкой, налила красивого зеленого ликера в маленькие рюмочки – и протянула одну Мите. Митя взял рюмочку, как живого котенка за шкирку – осторожно, напуганно. Рюмка в его руках задрожала.
Мадам Канда, вздернув брови, смотрела на подрагивающую рюмочку. Зеленый ликер выплеснулся через край. Митя внезапно вспомнил зеленые глаза той невероятной женщины, что когда-то шла с ним по вечернему Арбату.
Он захватил рукой с дрожащей рюмкой руку мадам Канда. Они, смущенно смеясь, – над чем, над кем?.. над собой?.. – выпили ликер, неуклюже, как бычки, стукнувшись лбами. Надо было поцеловаться.
Он приблизил к жене восточного бизнесмена позорно вспыхнувшее лицо. Шутка сказать, он до сих пор не разучился краснеть, как школьник у доски, получивший двойку.
Она раскрыла губы. Он наложил на них свои. Их языки соприкоснулись.
Он целовал ее так долго, что они оба задохнулись.
Когда они оторвались друг от друга, его прошибла великая мысль. Он покажет украденную картину богатой японской цаце. Может быть, она сама или ее загадочный муж купят антикварную бирюльку. Ишь, Канда-сан, какие губки. Такие бы – целовать еще и еще. Да не про вашу честь, господин Морозов. Потешились, и будя.
Он неистово хотел продолженья. Поглядел на нее. Встретился с ее глазами. О, да и она тоже хотела.
Вокруг них гомонила роскошная вечерушка. Веселье расцветало, взрывалось смехом и криками, шло своим чередом. Там и сям звучали тосты – и торжественные спичи, и густо-пьяная бормотня.
Художники расхристались вовсю. Первобытный мальчик Слава посадил на спину подвыпившую Танечку Снегур, как конь, и катал ее по гостиной.
Сам Игорь, исчезнув на минуту в дальние комнаты, вылез оттуда в пушкинском цилиндре, к которому были прикреплены длинные павлиньи перья. Перья, отсвечивая темно-синими узорами с яркими золотыми глазками, блестя изумрудом и перламутром, мотались у Игоря на голове. Снегур выдернул одно перо из шляпы и, склонившись, клоунски-галантно преподнес зардевшейся от поцелуя мадам Канда.
– О, какая честь… Благодарю!.. Только я не знаю, куда его прикрепить…
– Павлинье перо нельзя дарить, Гоша, – назидательно, задыхаясь, сказал Слава, подгребший на четвереньках к мадам Канда, Снегуру и Мите, с хохочущей Танечкой на закорках, – павлинье перо, Гоша, знаешь, приносит несчастье… Человек, которому его дарят, может умереть в одночасье… И поэтому принявший подарок должен его… – он встряхнулся, как настоящий конь, и Танечка ударила его пятками по бокам, – …передарить!
Мадам Канда испуганно оглянулась на Митю. Митя стоял нахмуренный, сердитый, будто бы разгневался на кого.
Он и правда весь будто взорвался изнутри. Какого черта он здесь?! Это все забавы богатых людей. Это все Иной Мир, и он – не для него. Пусть их девочки катаются на их горбах, пусть слизывают их икру с их бутербродов. Ему пора восвояси. В дворницкую. К лопатам и метлам. Вот что надо писать. А не хорошеньких голеньких дамочек, сидящих в гигантских морских раковинах, с жемчугами на пухлых шейках, с веерами из павлиньих перьев в кошачьих лапочках.
Он до тошноты насмотрелся на такой китч на Арбате. Народ покупает дешевый китч. Богатеи жрут китч дорогой. “А это круто?..” – единственный вопрос, который они задают, рассматривая пошлейшую обнаженку в престижной галерее, и, когда им отвечают – десять тысяч баксов, они, не задумываясь, выкладывают требуемое на стол, хотя на Арбате той же поделке красная цена – пятьсот рублей.
И арбатский нищий малеванец получит пятьсот, пойдет купит колбасы и выпьет. А модный живописец…
Он тряхнул головой. К черту! Мадам Канда сцепила перо в кулаке.
– Нет уж, я его никому не подарю, – весело и твердо сказала она. – Это мое! Я вставлю его себе в летнюю шляпу! Я произведу в Токио фурор!
Слава, с Танечкой на хребте, ускакал, озорно заржав, – жеребец, да и только. Танечка вцеплялась ему в волосы. Может быть, они спят все втроем, вчетвером, впятером, отчего-то зло подумал Митя. Шведские семьи. Таити. Никакого Гогена не надо.
Жена японца подняла к нему лицо. От ее губ одуряюще пахло дорогим ликером.
– Дима, – сказала она, и нежная улыбка взошла на ее губы.
– Митя, – поправил он. – Лучше Митя. Я так привык.
– Митя… – Она задохнулась. – Приходи ко мне. О, нет, никогда не приходи. Уходи отсюда сейчас же. И никогда не появляйся здесь. Я так хочу. Так будет лучше.
Он видел хорошо и ясно, как она испугана, очарована, пьяна.
– Мадам Канда, – сказал он и просунул руки ей под мышки, и сжал ее ребра, и слегка приподнял ее от пола. – Я хотел вас просить. Я сам хотел вас просить. Все это серьезно. Я не проходимец. Я не подлец. Вы не думайте. Я художник. Я хочу вас написать. Обнаженной. Все упадут, умрут. Вы видели когда-нибудь “Венеру перед зеркалом”?.. Многие художники писали. Вернее, пытались написать. Одному Тициану удалось. Я видел только репродукцию. Сталин продал подлинник к чертям собачьим в Америку, из Эрмитажа. Весь Эрмитаж плакал горько. Я напишу вас Венерой перед зеркалом. Это будет черт возьми. Японская Венера. Почему вы так похожи на японку?!
Он притиснул ее к своему животу, такую маленькую, милую. Он боялся ее сломать. В его голове билась одна мысль: картина, картина. Он покажет ей картину. Он всучит ей картину. Не надо будет напрягаться, мыкаться по Москве, искать поганого антиквара. Антиквар обманет. Эта красивая сучоночка – никогда. Она в него уже влипла. Вклеилась, как муха в мед.
Она вскинула руки. Обняла его за шею. Отдернула руки, как от пламени. Отшагнула назад. Ее раскосое личико сделалось надменным, неподвижным, как у японской куклы, ротик сжался в красную брусничину.
– Я русская. Просто я слишком долго жила в Японии. Я привыкла так подкрашиваться. Чтобы там меня за свою принимали.
– Значит, вы притворялись?.. Лицемерили?..
– Мне так нравилось.
Она дышала так часто, взволнованно и хрипло, что он слышал ее дыханье.
– Мадам Канда, – сказал он, не трогая ее больше, не прикасаясь к ней. Он только глядел на нее. Он срывал с нее глазами все ее роскошные блесткие тряпки. – Я вас прошу. Это очень, очень важно. Вы даже не представляете, как. Приходите вы ко мне. У меня дома лежит одна вещь. Одна… картина. Я хочу, чтобы вы ее посмотрели. Это единственная дорогая вещь у меня. Она досталась мне по наследству. Она жила у нас в семье. Ее сохранили мои предки. Она не погибла во всяких наших войнах и революциях. – Он облизнул сухие губы. – Вы увидите ее. Я прошу вас, поглядите на нее. Она стоит того, чтобы на нее поглядели… именно ваши глаза.
– Мои глаза?.. Что могут сделать мои глаза?..
Он сдернул с нее взглядом последние шмотки. Она стояла сейчас перед ним голой. И она понимала это. Она стала пунцовой, даже шея у нее вспыхнула красным огнем.
– Не только ваши глаза, – сказал он прямо, без обиняков. Он не умел долго лебезить. – Ваши деньги, мадам. Я нуждаюсь. Если бы вы купили ее. Это очень дорогая вещь. Слишком дорогая. Музейная. Может быть, это сенсация.
Раскосая куколка, задрав головку, пристально глядела на него. Он глазами раздвинул ей ноги, глазами вошел в нее. Она задышала чаще, зашевелилась, задвигалась чуть заметно взад-вперед, как если бы уже была под ним. Он глазами чувствовал, гладил ее кожу, ощущал жар ее женского пульсирующего нутра. Она маленькая, у нее все там, внутри, маленькое, тесное, жаркое, обнимающее его крепко и больно. Ее рот полуоткрылся, и взглядом он поцеловал ее рот.
– Вы колдун!..
– Я человек. Вы придете?.. Столешников переулок, дом напротив кондитерской, первый подъезд, квартира пять… не пугайтесь, там все на лестнице загажено… бомжи ночуют… и запах такой, кошки, моча – не для ваших ноздрей…
Ничего, понюхаешь, дамочка, весело подумал Митя. Ты привыкла обниматься с Токио, а тут приходится ложиться под грязную Россию. Но это и твоя Россия, мадам Канда. Твоя собственная. Твое родовое поместье, все в мусоре, снегах и дождях, в пустых ящиках и-под водки, ночью валяющихся, как деревянные скелеты, по всему Столешникову, и дворникам их надо старательно собирать и жечь, жечь. И костры встают – до черного холодного неба.
– Я приду, – сказала мадам Канда беззвучно. – Я верю тому, что ты сказал. Я приду. У меня самой дом в Токио как музей. Весь в старинной живописи. Я собираю живопись. Я и правда понимаю в картинах. Как ты догадался. Я полюбила живопись с тех пор, как мы с Игорем расстались. Я боюсь полюбить тебя. Я старше тебя на сто лет, мальчик.
– Не на сто, – сказал он, задыхаясь. Его колено коснулось ее живота, затянутого в блестящую праздничную материю. Едва он коснулся ее, она выгнулась и застонала. – На каких-нибудь двадцать пять, не больше.
Он надрался на той вечерушке у Снегура, и пьяный пошел провожать мадам Канда. От мастерской Игоря до “Арбатской” они шли, как раненый и медсестра с поля боя. Они добрели только до “Праги”. Мадам Канда отцепилась от Мити, легонько ударила его по руке. Ее черные, раскосо подкрашенные глазки сияли под норковой шапочкой, иней высеребрил мех, ее ресницы, воротник драгоценной шубы.
– Не ходи за мной!.. Тут у меня машина на стоянке!.. Я доеду, а ты дойдешь!.. Пешком дойдешь… в милицию тебя не заберут… а то я не выдержу, увезу тебя к себе… Я приду к тебе смотреть картину, слышишь?!..
Он глядел, как она топала каблучками изящных сапожек по свежему снежку.
Милая дама, богатая дама, думал он, доплетясь до Столешникова с грехом пополам, прогрохотав башмаками по коридору в свою камору, увалившись, не разуваясь, на нищенский топчан.
Какая разница между бедной женщиной и богатой дамой?.. Да никакой. У всех у них есть глаза, губы, груди, пупок, женская дырочка.
Если их раздесть и поставить в солдатский ряд – никакой разницы.
Тогда что же дает людям разницу в бытии?.. Деньги?..
Мадам Канда свободнее дышит; свободней говорит; счастливей улыбается; имея владетельного мужа, может свободно развлекаться с такими молодыми люмпенами, как он. Ха. Значит, деньги – это свобода.
И ему надо сбросить оковы. Скинуть кандалы.
На щиколотках уже кровавые мозоли, но это не беда. Он, освободясь, побежит быстрее лани.
Он не будет больше скрести лопатой Петровку. Он не будет больше жечь пустые ящики на углу Тверской. Он не будет просиживать часами на холоду и ветру, на кишащем глупыми и умными людьми Арбате: купите картинку, человечьи скотинки!.. Он не будет, унижаясь, вымаливать трущобной любви у Иезавель.
Он, наконец, будет жить.
И ему надо сделать только последний, самый важный шаг, чтобы начать жить.
А что ты сделал, чтобы жить, какой шаг был первым?! За тебя все сделал Господь Бог. Это Бог убил в падающем лифте Варежку. Это Бог всунул тебе в руки старую картинку, где мужчина и женщина бегут, спасаясь от возмездия, от огненного меча. Может, безделушка и вправду музейная? На черта она японцам?.. Мадам Канда… губы, перепачканные ликером…
Он дрых так беспробудно, что не услышал, как она вошла в каморку.
Ее пальцы нежно щекотали его сомкнутые веки. Он открыл глаза. Ее маленький пальчик провел по его небритой щеке, коснулся губ. Он поймал пальчик губами. Втянул в рот. Над ним наклонилось румяное, сияющее радостью лицо.
– А мне ваша соседка сказал, где ваша комната. Бедная женщина!.. У нее вместо руки – протез… Это вы… это ты здесь живешь?..
Она оглядывала камору с изумленьем и ужасом.
Стол, застланный желтыми газетами.
Немытый годами подоконник.
Таракан, сидящий на краю тарелки, держащий в лапках хлебную кроху.
И картины, картины – и по стенам, и у плинтусов, и на самодельном кривом мольберте, что он сам смастерил из бросовых досок, из разломанных ярмарочных ящиков.
– Живу, живу я тут.
“Не буду жить никогда”, – подумал он ядовито. Вскочил с топчана. Жена богатого японца подошла к окну. Посмотрела вниз, на кипенье утреннего Столешникова.
– Глядите, как люди смешны, когда смотришь на них с высоты, сверху вниз… Ну, где ваше сокровище? Показывайте.
Он подошел к ней.
Господи, какая малышка! Как девочка. Сколько ей лет?.. Сорок? Сорок пять?.. Больше?.. Есть крошечный двойной подбородочек, морщинки в углах ярких глаз. Богачки молодятся, втирают в рожицы кремы, ягодный сок, сливки. Он нужен ей как развлеченье.
Ну ничего, он с ней тоже подразвлечется. Оторвется он с ней. Это тебе не бизнесменша, якобы приставшая на улице к Рамилю, чистящему тротуар. Она – настоящая. И баксы он с нее сдерет настоящие.
Ого, он так и спал в одежде, в штанах, в обувке. Он совсем спятил. Просто очень устал.
– Почему ты говоршь мне “вы”? – спросил он тихо, стоя рядом с ней и не пытаясь ее обнять. – Ведь мы с тобой пили на брудершафт.
– Ты… – Она протянула руку и коснулась рукой его впалого живота, его ребер, торчащих под рубахой. – Ты очень красивый. Но не думай, что я в тебя влюбилась. Просто мне интересно посмотреть картину.
“Ври больше, – подумал он зло. – Тебе интересно тут же рухнуть со мной на этот топчан, но я этого не сделаю. Я хитрый. Я умный. Я буду делать все то, что говоришь ты. А потом, когда ты изнеможешь, я возьму тебя. У твоего благоверного в Токио вырастут рога и пробьют его японскую бизнесменскую шляпу”. А вслух сказал:
– На, гляди. – Как будто: жри, лопай.
Он пошарил среди своих холстов, повернутых лицом к стене. Вытащил медную доску. Повернул – живописью к ним, их лицам. Поставил на стол. Зажег тусклую лампу под потолком. Бездарный свет ему не понравился. Зажег свечку. Бросил коробок со спичками на пол.
Свеча замерцала перед картиной, высветляя темные фрагменты, заставляя тревожнее вспыхивать золотые, оранжевые плоды между темных масляных листьев, светиться пламенем костра распущенные волосы бегущей женщины.
Митя миг полюбовался картиной, перевел взгляд на мадам Канда. Ее лицо замерло. Губы шевелились. Она глядела на картину так, будто там было изображено ее прошлое, ее родные – уже умершие, погибшие – люди.
– Ева бежит от смерти, от ужаса, – прошептала она. Поднесла руку с кружевным платочком к глазам. Расстегнула норковую коричневую шубку. – А Адам… о, как он беспомощен. В этом весь мужчина. Мужчины беспомощны. Они дети. Даже крупные политики, бизнесмены. Они никогда не зают, что делать. Женщина всегда несет Адама на плечах. Вы знаете… ты знаешь, она сорвала яблоко и накормила его не потому, что змей ее совратил. Она хотела его просто накормить. Просто накормить, понимаешь?!
Она плакала. Плакала и улыбалась. Он вытер ее слезы с лица ладонью.
– Прости, я сентиментальна, – сказала мадам Канда и сердито растерла платочком щеку. – Всегда ругаю себя за слезливость! Я тебе разонравлюсь. Но это мне все равно. Я старая баба. Ты молодой. У меня было много любовников. Не вздумай говорить, что у тебя была куча любовниц.
– У меня была куча любовниц, – быстро сказал он. Они расхохотались оба.
Потом он снял с гостьи шубку, сбегал на кухню, вскипятил чайник, они попили чаю из граненых грязных стаканов – отнюдь не пустого, мадам Канда принесла к чаю булочки с кремом, бутерброды с ветчиной и шоколад, – завернули картину в наволочку, сдернутую с облепленной куриными перьями подушки, перевязали бечевкой и, одевшись, понесли ее на экспертизу в музей изобразительных искусств имени Пушкина.
Так решила мадам Канда. Митя был умный, а она была еще умнее.
И он ни разу больше ее не поцеловал. И она не поцеловала его.
Они только пересмеивались, перебрасывались пустыми веселыми словечками, улыбались друг другу, обжигали друг друга быстрыми взглядами.
Они шли по зимней Москве, по Тверской, по Моховой, по Волхонке, наступая на хрустящие снеговые комья, щурясь от солнца и цветных искр инея, оживленно болтая о всякой ерунде – как там в Японии, да что едят, как держат в руках эти палочки, марибаши, вилкой же удобней, а молятся Будде?.. а телевизоры там со спичечную коробочку – есть?.. Они оба словно затаились, как два хищных зверя. Они оба, безмолвно сговорившись, ждали ночи.
Экспертша Пушкинского музея, прямая, сухая седая старуха, рассматривавшая целых два часа картину вместе с двумя такими же старыми оглоблями, вооруженными очками, лупами, лампами-софитами и всевозможной техникой, названий которой не знали ни Митя, ни мадам Канда, вышла навстречу им обоим, скромно сидевшим на пуфике в коридоре музея, с поджатыми строго и властно губами.
“Я вынуждена вам сообщить, милостивые государи, что это подлинник, – надменно и важно проскрипела она. – Это подлинник, господа, и у музея сейчас нет денег, чтобы купить его у вас, и, думаю, не будет таких баснословных денег ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Музей беден. Бедней церковной мыши. Мы не знаем, кто и как будет нам, старухам, завтра платить жалованье, господа. И будет ли”.
Вот как, съела, подумал он, повернувшись к мадам.
Это наша Россия. Это тебе не токийские рауты, где ты ешь крабов и трепангов, иноземная баба с жемчугом на шее. Зарплату теткам не платят!
“А… кто автор?..” – робко, как ученик, спросил он.
Мадам Канда вся дрожала. Засунула ручки в муфту. В коридоре музея стоял лютый холод. Седая гранд-дама окинула его надменным взглядом из-под спущенных на кончик носа очков.
“Тенирс, дорогой господин. Тенирс. Первая половина семнадцатого века. Именно Тенирс работал маслом на меди, на медной доске. На международном аукционе такая работа может потянуть на несколько миллионов долларов, Тенирс ведь сейчас очень редок, так же, как и Вермеер, находка его работы равносильна открытию. В Голландии работали тогда два Тенирса; один – мастер, другой – послабее, подмастерье. Ваша картина – кисти того, ценящегося. Господа, я должна вас предупредить, будьте предельно осторожны. Ваша жена должна быть все время под вашим присмотром. Не отпускайте ее от себя ни на минуту. Никому не говорите о работе. Это ваша тайна. Вы поняли?..”
Митя потупился. “Она мне не…”
Мадам Канда ткнула его локтем в бок. “О да, спасибо, мы будем делать все, как вы сказали, и муж будет меня беречь. Конечно, я понимаю ценность этой вещи, она семейная, она…” Она задохнулась. Отвернула воротник шубки от подбородка. “Я понимаю, сейчас мир такой преступный… всюду царит криминал…”
Митя снова положил картину в наволочку, закутал, завязал.
Они оба пошли вон из музея, задыхаясь от ужаса, счастья, неожиданности, жажды скорей добраться домой и, раздевшись догола, влиться друг в друга, войти, вонзиться. Старая экспертша провожала их долгим суровым взглядом. Она слишком много знала о том, что владеть сокровищем безнаказанно нельзя.
Японские куклы с полок и стен смотрели на них. Японские куклы шептались меж собой. Японские куклы протягивали к ним маленькие игрушечные ручки. Красный бумажный фонарь легко покачивался на сквозняке под фарфоровой головой смешливого божества Дарумы, и внутри фонары горела живая свечка, не лампочка.
– Тише!.. тише… обними меня…
– Давай я войду в тебя вот так… повернись…
Она, маленькая, хрупкая, гибкая, как краснотал, изогнулась, ловко повернулась под ним. Разогнула, развела маленькие, казалось, фарфоровые ноги. Ее спина, сведенные потные лопатки, круглый нежный зад маслено блестели в красном свете фонаря. Он лег на нее, вонзился в нее резко, до тайной кровавой глубины, чувствуя себя самураем. Они, слившись снова, застонали. Он стал двигаться в ней – медленно и властно. Она, корчась от боли, сладости и страсти, кричала под ним.
– О!.. о… я умираю…
– Ты живешь, Анна… ты живешь… это жизнь…
Мадам Канда звали Анной. Он узнал об этом в постели.
Они обнимались, а куклы смотрели. Куклы были соглядатаи. Он просунул руки женщине под живот, стараясь втиснуть себя глубже в нее, больнее, непреложней. Он насадил ее на себя, как курицу на вертел, охватил ее огнем. И она сгорала. Голая она была совсем молодая, молодое у нее было тело, а морщинок на ее лице он не различал в пылу соитья, в поту и криках, в свете багрового бумажного фонаря, качающегося на ветру – Анна открыла балкон, спасаясь от постельного огня, от духоты. Она таяла и умирала, он это видел. Он отдалял свое наслажденье. Он хотел, чтобы она совсем сошла с ума.
– А теперь так… нет, отдохни…
– Я не хочу отдыхать… иди ко мне!..
Она рванулась из-под него. Он лег на спину. Она встала на колени над ним, ее ноги смугло мерцали по обе стороны его лица. Снизу он видел ее пушистые черные волосы, прикрывавшие ее раскрытую влажную красную живую раковину. Он вскинул голову и припал к раковине губами. Запах соли, моря, вскрытой устрицы ожег его ноздри. В Японии есть ныряльщицы за жемчугом, ама. Он тоже сейчас нырнет за жемчугом. Ртом. Губами. И он найдет его. Вот уже нашел его. Вот он взял его в губы.
Анна кричала уже безостановочно. Он взял ее крепкими руками за талию и одним рывком посадил ее на себя. Он поднимал и опускал ее обеими руками на себе, будто куклу, будто бы она была его куклой для любви, орудьем сладострастья, а не живой женщиной. Он ударял в нее снизу, сильно и властно, закрыв глаза, до тех пор, пока она не начала содрогаться в неистовой и бесконечной пляске. Приступ красного безумья тут же сотряс и его. Они, вплавившись друг в друга горячим металлом, содрогались вместе, и из ее груди вырывались уже не крики – хрипы. Она рухнула на него, ему на залитую потом грудь, выдохнув из груди последний воздух. Он еще нашел в себе силы вобрать губами ее губы, как клубнику.
– Анна… Анна…
– Что?.. ничего не говори… меня здесь нет… я на небесах…
Он опрокинул ее на кровать навзничь. Наклонился над ней. Она отвернула от него лицо. Ее глаза были закрыты.
– Я вижу тебя и с закрытыми глазами…
Картина, перевязанная грубой дворницкой бечевкой, стояла в углу за креслом. Они тут же забыли о ней, когда явились сюда, к мадам Канда домой. Она жила в фешенебельном доме на проспекте Мира. Они домчались к ней из Пушкинского музея на ее машине, – она вела новенькую “мазду” сумасшедше, безоглядно, как хулиган-лихач, – влетели в квартиру, еле успели раздеться. Постель уже была застлана изысканнейшим кружевным бельем с запахами лаванды и мяты. Анна загодя позаботилась обо всем.
– Ты хочешь пить, Митя?.. у меня есть прекрасный апельсиновый сок… я люблю апельсин, грейпфрут… налить тебе?..
Она вскочила с постели. Двинулась к столу. О, а он-то в горячке страсти и не заметил, что и стол накрыт. И богато накрыт. У мадам имелся вкус. В хрустальных салатницах – салаты из крабов и кальмаров. Отбивные, уже остывшие. Белое вино, коньяк. Разрезанные на смешные треугольные дольки помидоры. И в блюдечках – горки икры, красной и черной, и сверху ломтики лимона на икре лежат. Просто Новый Год какой-то. Когда и где ты видел на столе красную икру, Митя?!
Митя, стоп, очухайся, у тебя любовница – жена японского бизнесмена. А вдруг бизнесмен сейчас прикатит, откроет дверь своим ключом и так даст тебе по котелку, что ты на всю жизнь останешься придурком.
Он сладко потянулся. Оперся головой на подушку. Взял у Анны из рук бокал, наполненный желтым соком.
Она держала в руках рюмку с коньяком.
– Сок я уже выпила. Прямо из кувшина. – Она весело улыбалась. Она была красива, как японская принцесса. Румянец, блеск черных глаз, губы улыбаются, зубы как жемчуг, грудь торчит, живот гладкий, как щит. Бред, все бред. Это ему все снится. – Я буду пить коньяк. За тебя!
– За тебя, – сказал он и залпом выпил сок. Поставил пустой бокал на пол, рядом с кроватью. Пристально посмотрел на нее. – Анна. Ты правда так богата?..
– Митя, Митя. – Она опрокинула над губками рюмку с коньяком, зажмурилась, отдышалась. Ее зубы снова заблестели между губами в сумасшедшей улыбке. На вид ей можно было сейчас дать лет двадцать, не больше. – Неужели ты первый раз в жизни видишь богатую женщину?..
– Первый. – Что толку было врать. А та, с зелеными глазами, с изумрудами в ушах, там, на Арбате?.. Зачем он вспомнил о ней. Не надо. – А что, тебе странно, что мужик бедный? Ты общаешься только с богатыми мужиками?
Она перевернула рюмку и поставила ему на живот, как детям ставят банки. Расхохоталась. Согнулась и поцеловала его в грудь – в один сосок, в другой.
– Я общаюсь со своим мужем, дурачок. Мне хватало мужа. А теперь вот буду общаться с тобой.
– До тех пор, пока муж не приедет?..
Румянец внезапно ушел с ее щек прочь. Она наклонила голову, как цапля, и внимательно посмотрела на него, будто изучая. Восторг исчезал из нее, поднимался над ней, как дым.
– Это я должна ехать к нему в Токио.
– А эта квартира?..
– Хочешь, я тебя в ней поселю?.. Это наша московская квартира. Муж купил ее для меня. Только для меня. Чтобы я жила здесь время от времени, в России, и не скучала особо. Мы же постоянно живем в Японии. Знаешь, ностальгия – это не выдумки. Это настоящая болезнь. Когда я заболеваю, муж привозит меня сюда. Это… ну, как аспирин от гриппа. Хочешь, живи здесь. Тебе здесь будет хорошо.
– А моя работа?.. Ты же все видела. Я дворник. Ты меня станешь содержать?.. Я стану… твоим…
Она положила пальцы ему на губы. Он отбросил ее руку. Вскочил с кровати. Нашарил в кармане сброшенных в порыве страсти около ложа потертых джинсов пачку сигарет, спички, закурил. Мадам Канда сидела в постели в позе лотоса. Печально глядела на него. Хоть пиши с нее портрет, раздраженно подумал он. Хоть пиши портрет! А впрочем, то, что она предлагает, заманчиво!
– Купи картину, Анна, – холодно сказал он и глубоко затянулся. Выдохнул дым. Кольца дыма, тая в полумраке, вились над их головами, над красным фонарем, уходили к потолку, к хрустальным листьям люстры. – Купи. Ты богата. Ты повесишь ее в своем доме в Токио. Ты будешь глядеть на нее и вспоминать меня. И я не буду альфонсом. Я буду жить на свои деньги. Понимаешь?! На свои. Потому что ты у меня купишь произведенье искусства. Мое. Принадлежащее мне. Все будет честно. Все будет как надо. Ты слышала, что сказала та старуха, из Пушкинского?!.. Через полвека она будет стоит не миллион долларов, а миллиард. Твои внуки оторвутся по полной программе. Ты не прогадаешь.
Она вынула у него пальчиками из губ недокуренную сигарету, бросила на паркет.
– Ты дура!.. будет же пожар…
– Пожар уже случился. Все уже сгорело. Моя жизнь сгорела. Да, я куплю картину у тебя. Конечно, куплю. У меня весь мой дом там, в Токио, завешен старинной живописью, старыми мастерами… У меня денег здесь, дома, нет… все деньги на счету… я сниму… мы вместе пойдем, утром… да, да, оставляй картину здесь, да, я покупаю ее, да…
Она подняла с полу Митин окурок, схватила с журнального столика зажигалку, всунула в губы, вдохнула едкий дым. По ее щекам текли, текли мерцающие красные, как кровь, в свете бумажного фонаря, обильные слезы.
Они спали долго. Отсыпались после любви. Они не спали обнявшись. Они спали странно и горько: Митя – отвернувшись к стене, по которой, на полочках и подставочках, были в изобилии рассажены куклы в шелковых кимоно, с огромными бантами на загривках, Анна – поперек широкой кровати, свесив одну ногу вниз, уткнув черноволосую стриженую голову Мите под мышку.
Проснувшись, они не знали, что делать. Снова любить друг друга?.. Митя неловко сунулся к ней. Она припала было к нему, обожгла губами, потом отпрянула, сухо бросила: ты получишь свой миллион.
Он нервно засмеялся. Все просходящее все больше казалось ему бредом.
Вот сейчас кончится сон, и он проснется в своей прокуренной каморе, и Флюр Сапбухов будет стоять над ним, как Командор, и заунывно канючить: ну вот, ты проспал, ты надрался и проспал, а Рамиль опять за тебя все вычистил, к лешему, и сдал участок!..
Он натянул джинсы и уселся за стол. Мадам Канда оттаяла, заботливо кормила его, наливала ему в чашечку горячий кофе, подливала из молочника сливки. Так вот как завтракают в богатых домах, изумлялся он, глотая неземную еду. И, если у него будет теперь на счету миллион – как же, держи карман шире!.. так и будет у тебя, дурень Морозов, и счет, и миллион!.. – он тоже будет есть по утрам такую еду. Бред! Никогда такой еды он есть не будет. Как пристально, тоскливо глядит на него мадам!
– Анна, Анна…
– Ешь, ешь…
Когда он ел, жадно глотал, быстро жуя, обозревал великолепье стола радостно-потрясенно, как ребенок в волшебной пещере, она опять не могла сдержать слез.
Господи, молилась она беззвучно, сделай так, чтоб он больше никогда не стал нищим. Чтоб он не промотал, не прожег, не потерял, не проиграл те деньги, что я ему дам сегодня. Картина стоит миллиона баксов. Сколько стоит ее безумная, глупая любовь, вспыхнувшая на старости лет к этому наглому бедному юнцу, что жрет сейчас ее еду, зыркая глазами по столу – чего бы тут еще стащить, отправить в голодный рот, что он еще не попробовал?!..
Теперь ты будешь пробовать все, мальчик. Теперь ты будешь жить. А она полетит ближайшим рейсом в Токио. И будет умирать. Разлука убивает новорожденное чувство. И деньги тоже. Она заплатит ему за эту ночь, как платят жиголо. Она заплатит ему миллион.
Они поехали в ее банк.
Митя впервые переступил порог банка.
Ого-го, как чисто, как в больнице!.. И всюду мраморы. Ну, музей, да и только.
А вот здесь мрамор красный, с мясными кровавыми разводами, как на станции метро “Проспект Мира”.
А вот здесь, в этом зальчике, – кафель, как в бане.
Мадам Канда, ослепительно улыбаясь, маленькая, юркая, прошествовала к заветному окошечку. “Молодой человек желает открыть счет!.. Митя, у тебя паспорт с собой?..”
Она побледнела – думала, при нем паспорта нет. Он вытащил ксиву из кармана дворницкой куртки. На всякий случай он никогда не расставался с паспортом, где красовалась временная, шлепнутая в РЭУ, московская прописка, его краса и гордость. Прелестная, как японская куколка, банковская девочка за стеклом улыбнулась ему, прощебетала что-то, летая ручонками над клавишами компьютера – он не расслышал.
Потом мадам Канда заполняла какие-то бумаги, засовывала их в окошечко, таинственно наклонялась туда, объясняя что-то, смеясь чему-то. Со стороны могло показаться – подружки встретились, щебечут, свиристят, как соловушки, перемывают косточки мужикам.
Наконец, мадам выпрямилась. Глаза ее странно сияли. Она заставила его подписаться – там, сям.
Он послушно поставил закорючки. Она властно взяла его под руку.
Увела от оконца, от улыбнувшейся на прощанье девицы.
Сунула ему в руку папку, плотно набитую бумагами. И две твердых непонятных карточки – одну побольше, другую поменьше, с вязью неведомых цифр, с перламутровым блеском узоров.
– Твой счет, Митя, – шепнула она, глаза ее наполнились слезами, улыбка дрожала. – И моя картина. Ну да, ты оставил ее у меня дома. Хочешь, купи теперь мою квартиру. У тебя теперь есть деньги. Ты можешь… – горло ее перетянуло невидимой петлей, – всю жизнь жить на них.
Он глупо прижал папку с банковскими документами к груди. Посмотрел на нее сверху вниз, с каланчевой высоты своего идиотского роста.
– Зачем жить, – пробормотал он. – Надо не жить, а сразу красок накупить, холста, подрамников, пинена, вместо живичного скипидара, собака, он мне все легкие проел. И работать, работать.
На углу Тверской и Столешникова они бросились друг другу на шею. День царил, солнечный, золотой, ясный, как в старом бальном зале – люстры, свешивались с деревьев сверкающие ветки, осоленные инеем. На лютом морозе он ближе, страстнее почувствовал жар ее щек и губ, ее пылающее тело под шубкой.
– Встретимся сегодня?.. – выдохнул он ей в черный завиток над ухом. – Я приеду?..
Она откинулась назад, держа руками в пуховых рукавичках его за плечи.
– Дворник ты мой, – нежно, как птичка, чирикнула она. – Ты теперь у меня богат. Ты можешь провести сегодняшний вечер по своему усмотренью. Но прости меня. Сегодня я хочу побыть одна. Хоть мне смертельно хочется быть с тобой. Я должна побыть одна! – крикнула она внезапно. Помолчала. – Лучше позвони.
Он кивнул. Выпустил ее. Она полетела, как птица, по асфальту, присыпанному снегом, стуча каблучками по наледи, катясь в сапожках по ледяным черным дорожкам, как на коньках.
Японка, мать ее. Русская шлюшка, сделавшая головокружительную карьеру. Осыпавшая его золотом. Неужели ему не надо будет завтра вставать рано утром, нахлобучивать на себя дворницкую робу, взваливать на плечи лопаты и лом, скрести жесткий, как наждак, смерзшийся снег в рассветной сизой тьме до одуренья?..
Флюр обделается. Рамиль упадет и задерет ноги. Янданэ запрется у себя в комнатенке и будет обиженно читать мантры. А Гусь Хрустальный… А Гусь Хрустальный пойдет, купит чекушку и выпьет с ним за жизненный успех. От души. И выхрипнет: да, повезло тебе, брат!.. Как никому…
Митя добрел до дому, как пьяный в дым. Заплетаясь, поднялся по лестнице. Как сквозь туман, глядел на соседей. Видел беззубую Мару, видел Соньку-с-протезом, окутанных нежной дымкой миража. Да, да, все это сон, и сейчас он проснется, ущипнет себя и проснется.
Он поднес кулак ко рту, прикусил палец. Больно. Это не сон. И во сне можно прикусить палец, и во сне течет по кулаку кровь. Пропади все пропадом. Он богат. Он богат, как звезда! Он остается в Москве! Он покупает здесь жилье! Он может купить весь этот дворницкий старый дом в Столешникове, весь, со всеми чердаками и подвалами, со всеми потрохами! Со всеми жильцами!
Он ввалился к себе в камору, упал на топчан. Пружины скрипнули, резко взвыли под ним. Перед закрытыми его глазами проносились лица, фигуры, языки пламени, россыпи зеленых баксов, смуглело на простынях изящное, как статуэтка, бешено-страстное женское тело, качался красный китайский фонарик. Нет, ты не спишь. Ты живешь. Это явь. Прими ее. Возрадуйся ей.
Он так и не вылезал из каморы весь день. Он закрылся. Ему стучали в дверь.
Он слышал сердитый голос Флюра, выкликавший его: “Эй, Митяй!.. Да ты же дома, я знаю!.. Я же слышу твое сопенье!.. Ты, козел, открой!.. Тебя тут Королева Шантеклэра разыскивает, ругается, почему утром на участок не вышел!.. Жалованье тебе урежут!.. Грозится прописку аннулировать!.. Будешь вот опять бомжом, с волчьим билетом будешь по Москве мотаться!.. Перебрал где, что ли?!.. у, пьянь… Богема… худо-о-ожник…”
Шаги приближались, удалялись. Он лежал в оцепенении. Он не спал. Он думал. Он погружался в сизый дым ужаса и счастья.
Как все быстро произошло. Он и не успел оглянуться.
Неужели она так любит его?!
Это плата за одну ночь с тобой, дурак. Это она заплатила тебе. И простилась с тобой. “Лучше позвони”! Тебе ясно дали понять, что не желают тебя больше видеть. А то потом, позже, не оберешься неприятностей. У нее муж. У нее другая жизнь. У нее дом в Токио, поместье в Саппоро, хата в Москве, ранчо в Калифорнии.
На черта ей уличный мальчик, московский дворник, поганая лимита. Она сунула ему милостыню и сделала его не лимитой. Хороша милостыня – лимон баков. И все же она не сделала тебя своей ровней. Ты не аристократ. Ты не богач. Ты просто жалкий парвеню, переспавший с сумасшедшей богатой бабой. Ты был ее прихотью. А деньги? Мильоном больше, мильоном меньше – какая ей разница. Сытый голодного не разумеет.
Стемнело. Сумерки вползали в закуток – сперва сизые, потом лиловые, потом синие. Потом бесшумно вошла черная ночь. День был солнечный, а ночь наступила ясная, полная могуче горящих колких звезд. Звезды висели над инистыми крышами, вонзались в глаза. Он встал с топчана, размял затекшие ноги, руки. Ночь. Вот и еще одна ночь. Ты уже богатый человек, Митя. Ты уже можешь все. Тебе ли бояться ночи.
И странный страх медленно, тихо вползал в него.
Он подошел к двери, открыл ее. Нет, на пороге, в коридоре никого не было. Все спали. Завтра рано подниматься. Все его кореша спят. Не подышать ли ему воздухом, на прогуляться ли ему. Так хорошо брести ночной Москвой, закидывая голову, глядя на россыпи звезд. Пройдись, Митя, ты обалдел в духоте, в тесноте. Не потеряй свои банковские карты. Вот они – в кармане куртки, там, где паспорт.
Он воткнул худые ноги в башмаки, зашнуровал их, напялил на башку дворницкий холщовый хлем, хлопнул дверью. Улица схватила его в объятья крепкого мороза, стиснула так, что ребрам стало больно. Он еле смог вдохнуть ледяной воздух. Если плюнуть – слюна на лету замерзнет. Колотун как в Сибири. Какая разница, где ты живешь. Хоть на Аляске. Лишь бы ты был богат. И свободен. Свободен!
Он, скользя, балансируя на льду, как канатоходец – на канате, пошел по выдубленным морозом улицам – по Столешникову, по Тверской, вышел на Красную площадь. Кремлевская красная стена горела заиндевелыми зубцами. Храм Василия Блаженного будто висел над мостовой в призрачной морозной фате. Мите показалось – храм летит навстречу ему, как огромный страшный корабль, Летучий Голландец, и сейчас наплывет на него, подомнет под себя, раздавит, пропорет форштевнем. Красные, зеленые, желтые полосы на куполах вспыхивали Северным Сияньем. Тусклая позолота била по глазам. От одиночества мертвого храма, видевшего на веку столько рожденных и погубленных жизней, хотелось плакать. У Мити на глазах показались слезы и тут же на морозе высохли. Он утер нос рукой в дворницкой рукавице.
– Черт побери, – сказал он жестко, – ведь и храм теперь тоже мой. Я же уже житель Москвы. Я напишу икону и повешу в нем. Это подарок. Икону… святой Анны…
И тут он услышал сзади себя шаги. По морозной мостовой кто-то шел к нему. Он застыл. Он боялся обернуться. Давешний страх снова сковал его.
Рука легла ему на плечо. Пальцы сдавили его мышцу под курткой.
– Привет, дорогой, – услышал он нежный и звучный женский голос. – Не взглянешь на меня?..
“Проститутки, – подумал он злобно, – что они делают тут ночью в такой морозище, не боятся отморозить себе задок и передок. Ведь, небось, в капронах и исподних кружевах шастают, для соблазна, без шерстяных трико. Идиотки”.
Он обернулся. Чтобы не закричать, он вдохнул ночной воздух в себя, и мороз, как наждачный кляп, забил, оцарапав, ему горло.
Перед ним стояла та, назвавшая себя на Арбате Дьяволом, рыжая, зеленоглазая. Песцовый мех топорщился вокруг ее розового подбородка. Она на жутком холоду красовалась без шапки, и рыжие густые, чуть вьющиеся волосы слегка поблескивали в фонарном свете, осеребренные мелкими кристаллами инея.
– Гуляешь, Митя, – пропела она насмешливо, – размышляешь о жизни?.. Да, жизнь чертовски смешна. Чего ты от жизни хочешь?.. Ты все получил – или желаешь чего-то еще?.. Мало тебе?..
Он почувствовал, как по его спине, под майкой, под рубахой и курткой, течет горячий, тут же становящийся холодным, пот.
– Чего вам надо от меня?! – резко бросил он и смахнул ее руку с плеча. – Я вас не знаю! Вы меня не знаете! Вы меня с кем-то путаете! Уйдите!
– Ах, Митя, Митя, – проворковала рыжекосая, качая головой, вытаскивая руку из варежки и беря его за руку. Она сжала его руку, и он ощутил, как вся кровь бросилась ему в лицо, взорвала сердце. Бешенство охватило его. Он хотел ударить ее – и не смог. – Дурачок ты, Митя. Будто ты не знаешь, что тебе надо дальше делать. Ты ведь все знаешь. Сам все знаешь хорошо.
На миг перед ним мелькнуло растерянное, испуганное, с открытым в крике ртом лицо мадам Канда. Ее закинутая голова в подушках. Ее посинелые щеки, выпученные глаза. Страшное лицо Анны заслонила картина. Золотые яблоки, апельсины в мрачно-изумрудной листве. Отблескивающие в свете китайского фонарика мазки старого голландского масла.
Он хотел вырвать руку. Рыжекосая держала крепко, как мужик. Он подумал со страхом – уж не каратистка ли она. Того и гляди, через плечо перекинет.
– Вы… о чем?! – крикнул он. Рыжая улыбнулась широко. Жемчужные зубы ее сверкнули, как кинжал.
– О том, что ты сам хочешь сделать. Хочешь, но боишься. Ведь ты хочешь, чтобы ничто не закончилось. Чтобы все у тебя только начиналось. Возьми свое сокровище. Верни его. И ты пустишь его в оборот. И ты заставишь его работать на себя. Ведь ты же умный мальчик. Иди, ступай…
Она замолчала. Он снова увидел перед собой беззащитное, неподвижное, распластанное по постели тело мадам Канда. “… убей ее и возьми картину”, – услышал он голос внутри себя. Это сказал рыжая?! Это сказал он сам?!
– Браво, браво, ты умный мальчик. Метро еще работает. Еще только полночь. Ты доедешь до проспекта Мира. Доберешься. Ты все сделаешь как надо.
Она выпустила его руку и толкнула его в грудь. Он поскользнулся, чуть не упал на скользкой подмерзлой брусчатке. Куранты за его спиной пробили двенадцать раз. Звезды сияли над башнями, над их головами нестерпимо, радужно-слезно. Млечный Путь прозрачным мафорием опоясывал черный свод.
– Я не хочу ее убивать! – задушенно крикнул он. – Какой бред! Ты снишься мне! Я перепил!.. я спятил от этих чертовых денег… я брежу, я болен…
– Ты не болен, мальчик, ты изумительно здоров, – ее голос стал резкии, жестким. – Езжай и действуй. Я приказываю тебе. Я…
Она приблизила розовое, гладко-румяное лицо к его лицу. Зеленые длинные, с поволокой, чуть сонные, нагло смеющиеся глаза обдали его холодом приговора.
– …я искушаю тебя, – раскрылись ее губы у самых его губ, дрожащих от бессилья, ужаса, отвращенья. Она взяла его голой рукой за щеку. Он дернулся, как от ожога. Закрыл глаза. Когда он открыл их, он увидел, как она быстро шла, несомая морозным резким ветром, по гладкой брусчатке площади в сторону храма Блаженного, полы ее песцовой шубы относил вбок ветер, рыжие волосы пламенем развевались во тьме.
Он не помнил, как он спустился под землю. Он не помнил, как ввалил свое тело в вагон поезда. Не помнил, как ехал, шел. Он очнулся лишь перед дверью квартиры мадам Канда. Ночь. Час ночи. Она спит. Он должен позвонить?! Нет. Он должен… Он откроет дверь сам. Чтобы она не слышала. Он взломает дверь.
У тебя же нет никакого опыта! Ты же не взломщик!
Я мужик. Что я, хуже покойного Варежки, что ли. Я это сделаю так, что комар носу не подточит. Я знаю ее замок. Я сам открывал его, когда мы утром уходили в банк.
Он вытащил из кармана связку дворницких ключей – от входной двери на Столешниковом, от каморы, от дворницкой каптерки, где хранились метлы и лопаты, от подвала, от кладовки в РЭУ. Громадная связка. Ванька-ключник, злой разлучник. Сейчас он выберет. Он подберет такой, чтобы подошло.
Ему и ковыряться не пришлось. Ключ, выбранный им, странно, жутко-легко вписался в резьбу Анниного замка. Он открыл дверь беззвучно, артистически, без натуги, как профессиональный вор-квартирщик. Вошел в прихожую, так же беззвучно стащил с себя шмотки и обувку. В носках, бесшумно, потирая захолодавшие руки, прокрался в спальню мадам Канда. Она спала лицом вверх, раскинув руки, голая, без одеяла – одеяло, сброшенное, лежало на полу: у нее дома хорошо топили, было жарко, душно даже. Ее смуглое грациозное маленькое тело впечаталось в его зрачки, как негатив. Когда он проявит его?! Она не проснулась. Она только пошевелилась и вздохнула во сне.
Он повернул голову. Картина уже висела на стене, и уже одетая в роскошный, роскошнейший – лучше того, прежнего, массивного, но обветшалого, что остался у убитых стариков – багет. Успела заказать.
Прямо напротив кровати висела картина – чтобы, проснувшись, сразу увидеть, как в панике бегут из чудесного Рая простые, нищие, нагрешившие люди. Из царского Рая – вон – в вонючих шкурах, босиком, с ножами на поясом, чтобы отбиваться в огромном жестоком мире от злых зверей, от злых людей.
Миллион долларов! Так вот что такое Рай!
Он тихо, на цыпочках, подобрался к кровати. Женщина спала. Как она сладко спала! От подушек, от постели, от ее тела пахло лавандой, мелиссой, тонкими сладкими ароматами арабских духов – он понял, она любила пряные запахи.
Стареющая дама, еще красивая, немыслимо богатая, познавшая все, чего не знала раньше, за одну ночь. Какое счастье умереть во сне. Не узнав, не поняв ничего. Он отплатит тебе. Он подарит тебе это счастье.
Он огляделся. Вздрогнул. Кухня?! Нож-тесак?!.. Кровь. На постели будет ее кровь. Он не должен проливать кровь. Рукоятка. Отпечатки пальцев. Его найдут. Револьвер?! Такая дама наверняка хранит в укромном ящике стола маленький дамский револьвер. Времени нет искать. И потом, это шум. Он создаст шум, и она проснется. И бросится ему ша нею. И будет умолять. И потом он переспит с ней, и все рухнет. Все рухнет в тартарары. Нет! Не револьвер. Руки. Его руки. У него есть он сам. Больше ничего у него под рукой нет.
Он вытянул руки вперед. Они не дрожали. Он видел и слышал все ясно, прозрачно.
Кровь не гудела у него в голове, не мешала ему.
Он осторожно сел на кровать и протянул руки к ее лицу. Она закинула высоко в подушках подбородок, и от этого ее загорелое лицо стало чуть детским, наивным, как у девочки на пляже под солнышком.
Он вспомнил, как вонзался в это податливое маленькое тело, как насаживал его на себя, как этот нежный маленький ротик целовал и лизал его торчащее жесткое естество. Она была такая бешеная, живая. А сейчас она будет неживая. Через каких-то пять, десять минут. Быстрее, что ты медлишь, разгильдяй. Она может проснуться. Она проснется, и тогда тебе каюк.
Наклонившись над ней еще ниже, он обхватил ладонями, пальцами ее шею. Сжал пальцы. Навалился на нее всем телом.
Она дернулась, забилась под ним. Ее глаза раскрылись. Он уперся коленом в матрац, сжимал пальцы все крепче. Это было как любовь: тело на теле, лицо в лицо. Ее глаза выкатывались, вылезали из орбит, рот пытался открыться, хрип вместо крика клокотал в груди.
Он сжимал пальцы, сжимал. Увидал ее белки. Глаза закатились. Напружинившееся, отчаянно борющееся тело под ним обмякло. Он еще подержал руки на ее горле. Поглядел на ее посиневшее, слегка вздувшееся лицо. Все было кончено.
Он не помнил, сколько времени он еще сидел над ней, мертвой. Поднял голову. В спальне было темно. Он встал с кровати, вынул спички из кармана, зажег маленькую свечку внутри китайского фонарика. Красный ягодный свет выхватил из мрака ее искаженный мертвый лик.
Куклы глядели на него со стен: кто осуждающе, кто радостно, кто равнодушно. Их картонные ножки в гэта торчали в стороны, в высоких прическах черноволосых дам застыли длинные шпильки.
Митя оглянулся. На столе мерцал оранжево стеклянный кувшин с апельсиновым соком. Это кстати. Он шагнул к столу, взял кувшин, жадно осушил его до дна, через край. Теперь можно брать назад картину. С багетом?!.. без?!.. о, хлопотня…
Он выдернул из-под мертвой Анны широкую цветастую простыню. Сдернул картину с гвоздя. Завернул в ткань. Багет отличный, итальянский, должно быть, баксов триста стоит. Что такое для тебя сейчас триста баксов, остолоп. Ты что, забыл, кто ты уже. И кем ты будешь скоро. Совсем скоро.
Выходя из квартиры, он взял свою рукавицу и тщательно протер все, к чему прикасались его руки: стеклянный кувшин, спинку кровати, где лежала мадам Канда, дверной замок. Потом подхватил картину под мышку. О, медная доска, какая же ты легкая была без одежды, и какая же ты тяжелая теперь, в царственном багете.
Ах, наследная вещь! Семейная реликвия! Варежка, он пойдет в церковь и поставит свечку за помин твоей души. А как же икона святой Анны?! А святая Анна перебьется. Не все коту масленица. Любишь спать с молоденькими мальчиками, люби и расплачиваться не деньгами – жизнью.
Еще раз, последний раз, он поглядел на ее мертвое лицо в подушках. Да, прелестна. А никогда не знакомься, богатая баба, с бедняками на вечеринках. Пусть Игорь Снегур напишет твой посмертный портрет. Написал же Тинторетто умершую дочь, вот так же, в подушках, когда девчонка скончалась от чумы в Венеции.
Когда он тихо затворил за собой дверь, спустился, как кот, по лестнице и вышел на улицу, в звон мороза, он скумекал, что метро уже закрыто. Он шел на Столешников через всю Москву пешком. Лепнина багета больно врезалась ему в ребро.
КРУГ ВТОРОЙ. ИГРА
Митя без суеты и хлопот купил себе не особо роскошную, удобную и уютную квартиру из двух комнат в престижной высотке на площади Восстанья, рядом с Садовым кольцом, напротив Зоопарка.
Встречаясь с маклерами, оформляя документы, улыбчиво беседуя с деловыми людьми, он удивлялся самому себе. Откуда у него такая хватка, такое уменье вести деловой разговор, такое острое чутье на возможный обман, такая память на цифры, даты, факты?.. Он усмехался про себя. Значит, он талантлив, а он-то и не подозревал.
Пока он жил в доме в Столешниковом, картину он не развязывал, не распаковывал. Он решил: повесит ее на стену уже в новой, в своей квартире. Парням-дворникам он не говорил ничего. Отшучивался: да так, ребята, устраиваюсь тут в одну клевую фирму, с дворницкой стезей покончено. “А прописка?.. – озабоченно спрашивали мужики. – Тебя же в шею погонит из Москвы любой дотошный мент!..”
Он молчал. Улыбался. Он молчал о том, что московская прописка была уже им куплена – за хорошую кучку наличных долларов, что он снял, дивясь и радуясь, со своего собственного счета.
Он приобрел квартиру со всей обстановкой в ней – хозяева уезжали насовсем во Францию, и ему повезло, не надо было мотаться по мебельным салонам, заказывать диваны и шкафы: покидавшие жилье были люди богатые и со вкусом, и Мите по сердцу пришлись и мягкие широкие диваны, и модный, под старину, кухонный гарнитур, и широкая белая итальянская кровать в спальне.
Это все было его, его собственное! Он просто готов был спятить от счастья.
О мертвой мадам Канда он и не думал особо. Ну, явилась милиция; ну, завели дело; но если через три месяца его не нашли, значит, не найдут его и через три года. По Москве шумела дикая весна, солнце палило вовсю, снега оседали, бил ослепительным синим небом в лицо сумасшедший март. Он ничего не сказал дворникам, когда переезжал со Столешникова на Восстанья. Он просто исчез, и все. Исчез из их жизни. Исчез из своего прошлого.
Первые дни в своей квартире он не верил всему происшедшему. Так, значит, человеку для счастья надобно только свое пространство, и все! А вдруг ему для счастья еще что-то нужно?! Он узнает, что. Он будет счастливым на этой земле, пока живет, сполна. Он бросался на диван плашмя. Он хохотал в голос.
Он накупил еды, вина, заставил весь бар бутылками, весь холодильник – изысканной жратвой. Он поминутно подходил к холодильнику, щелкал дверцей, вытаскивал то баночку с икрой, то тонко нарезанную семгу, наливал в рюмку арманьяк, причащался. Господи! Сделай так, чтоб вот так было всегда! А если не сделаешь, Господи?! Если не сделаешь – он сделает себе все сам.
Хозяева, продавшие ему квартиру, увезли в Париж единственное – библиотеку. Книжные шкафы были пусты. Он наставил в них винных, ликерных бутылок. Потом устыдился. Взял рюкзак, побрел на книжные развалы. Накупил то, на что упал его бестолковый взгляд – ужастики, зубастики, триллеры, глянцевые книжки из популярных серий: “Детектив глазами женщины”, “Русские разборки”, “Криминальный талант”. Вот у него так воистину криминальный талант оказался. Не срезался он на бреющем полете. Набив рюкзак книжонками, похожими друг на друга, как яйца из инкубатора, он кинул взгляд вбок. Рядом с книжным развалом стояла на ярком тающем мартовском снегу маленькая девочка, лет восьми-девяти, без шапки, с белыми космами, неряшливо льющимися прямо на плечи в вытертой шубейке. В руках девочка держала старую книгу. Митя сразу понял, что книга древняя. Толстый кожаный, лоснящийся переплет, медные застежки, вытесненный, с позолотой, узор на обложке.
– И что это у тебя?.. – склонился он к девочке, любуясь тем, как солнечные лучи играли, путались в белых волосах.
– Библия, дяденька, купите Библию, – затараторила девчонка обрадованно, – всего пятьсот рублей прошу… она ведь старинная, за такие в магазине и тысячу дают…
Он вытащил из кармана стодолларовую бумажку, затолкал девчонке за шиворот, выдернул книгу из ее рук. Пошел прочь. Услышал, как сзади громко ахает и неверяще, истерически смеется девчонка, должно быть, укравшая книжку у бабки из-под подушки, хохочет маленький земной живой человечек, которого он на миг осчастливил деньгами, свалившимися с неба.
Книги были расставлены в шкафах, и все равно было скучно. Он не мог их читать. Они тут же стали ему противны. На лестничной клетке он однажды столкнулся со старухой – высокой, гордой, с лицом царственной мумии, с палкой в руке. Серебряный набалдашник в виде головы льва отсвечивал былым благородством в свете подъездной слепящей, как на допросе, лампы. Он раскланялся. Старуха поклонилась тоже. Она первая открыла рот, спросила его о том, о сем. Он ответил. Завязалась беседа. Она пригласила его: заходите. Он с удовольствием согласился. Делать ему все равно было нечего. Надо было убить вечер.
Оригинальная старая дылда оказалась княжной. Ее родня жила в Париже. В Париже живут все, кому не лень, подумал он с раздраженьем. Он тоже может поехать в Париж, хоть завтра. Но не надо торопиться. Всему свое время. Он слушал россказни старухи о Царском времени, прихлебывал душистый, с бергамотом, чай, деликатно откусывал сладкий домашний рулет.
“Я пеку сама, – горделиво поясняла старуха, – я вообще все делаю сама, хоть родня и наняла мне горничную и компаньонку. Горничную я выпроваживаю тут же. Компаньонку – принимаю иногда, когда на меня нападет стих – поболтать. Будьте моим компаньоном, Митенька!.. В вас есть что-то аристократическое… что-то такое наше, забытое… эти тонкие черты лица… только вот вам бороду, усы надо подстригать по-иному, я еще подумаю, как… А знаете, когда в Царском дворце меня назначали дежурной на обеде у Царя, какое значенье мы придавали прическе?!.. то-то, не знаете… а Николай Александрович любил за обедом созерцать хорошеньких барышень, это было очень целомудренно, знаете, Царица никогда не ревновала… однако Его Величество все-таки подарил мне кое-что, в знак благосклонности… и Ее Величество тоже… когда мы лучше подружимся, я вам все, все покажу…”
Он стал дружить со старухой. Она забавляла его. Он по уши наслушался рассказов про Царскую Семью, про балы и рауты, про ужасы революции, про бегство из России на подводах, пароходах, поездах, пешком, бегом через замерзшие балтийские заливы, с орущими отпрысками княжеских родов на красных от мороза руках.
“Ирина Васильевна, вам еще чаю?..” – “Да, будьте любезны. Откуда, Митенька, у вас эти изящные манеры?.. да нет, вы точно аристократ, вы скрываете, доверьтесь мне… вы ведь из Сибири, как вы признались, так вы что, не знаете, сколько ссылали в Сибирь графов и князей?!.. за все хорошее, деточка… за все хорошее…”
Прошло совсем немного времени – неделя?.. две?.. три?.. или, может, несколько дней?.. за вечерними чаями и разговорами они и не заметили этого… – как бывшая Царская фрейлина Ирина Васильевна Голицына показала растаращившему любопытные, жадные глаза Мите небольшой кованый сундучок, стоявший на столике в ее спальне, где повсюду – о, беспомощная старуха, зря она выгоняет нанятую домработницу, та хоть бы прибралась однажды хорошенько – валялись платья, халаты, шарфы, боа, пледы, одеяла, старинные кружева, новенькие дорожные сумки – должно быть, сумки парижской родни, приезжавшей-уезжавшей, когда заблагорассудится.
“Подите-ка, Митенька, сюда!..” Княжна Голицына распахнула сундучок.
Митя увидал на дне сундучка кучку старинных, наверняка дорогих украшений, маленький образо в оправе из брильянтов, икону в золотом окладе, усаженном самоцветами.
“Вот… вся моя жизнь!.. Вся память моя… Я завещала их моей милой Катичке, безобразнице парижской… да ведь она их растранжирит почем зря!.. А ведь за каждой драгоценностью, Митенька, – история… Целая история…”
Она поведала ему эти истории.
Через день, два он уже знал, что перстень с изумрудом преподнес княжне Ирине Васильевне на балу сам Царь, а Царица надела на хорошенькую барышню жемчужное, в пять рядов, ожерелье, когда она поехала вместе с Семьей в Кострому на торжества по случаю трехсотлетия дома Романовых.
Образок святого Дмитрия Донского в алмазной оправе и крестик слоновой кости, внутри которого, если заглянуть в дырочку внутри, просматривался тончайший рисунок – Тайная Вечеря, Христос и апостолы за трапезным столом, – были привезены ею из Палестины, куда благоговейно паломничала юная княжна. Икону Божьей Матери Донской ей, уже затаившейся, скрывающейся по случайным квартирам от большевиков, тайно, через верных людей, передал патриарх Тихон из Донского монастыря.
Одно время, в восемнадцатом ли году, позже ли, в двадцатые, она пряталась в монастыре. И там, в келье, содрогаясь от выстрелов и взрывов, доносящихся снаружи, она молилась, вспоминая, как надевала для тура вальса в Зимнем дворце хризолитовое колье, подаренное ей Великой Княжной Татьяной.
“Она подарила мне его в Татьянин день, Митенька!.. в светлый, солнечный январский день… А эти алмазные серьги – глядите, сколько карат, это же уникально, c’est superbe!.. – на меня надела Императрица-мать, Марья Федоровна, мир ее праху… А вы, Митенька, Великого Князя Александра Михайловича знаете?.. по мемуарам, конечно… а я с ним в крокет играла… о, Сандро был изумительный человек, странный, веселый, превосходный, остроумный… совсем как вы… и на вас чем-то этаким похож… он нацепил мне на палец этот аметист на одной пирушке, чтоб я никогда, никогда впредь не опьянела… ведь аметист, по поверью, от пьянства предохраняет… А когда я, после побега с каторги… милль пардон, из лагеря, из вашего, советского, из сталинского, с Колымы, бежала!.. очутилась в охотницкой сибирской избе, меня охотники спиртом отпаивали, спиртом растирали… я целый стакан разбавленного спирта выпила… и я была, ma parole, такая пьяная, такая пьяная, что ни в сказке сказать!..”
Митя кивал, слушал, запоминал. Его глаза разгорелись – он увидал в старинное старухино зеркало свое пылающее, покрытое красными пятнами лицо, свои угли-зрачки и напугался. Ему-то что?! Жизнь старухи – в ее камешках. Пусть тешится. Но мысль закралась, поселилась в нем, внутри, как в пещере. Не отпускала.
Однажды вечером он засиделся у нее заполночь. Недопитый чай остывал в чашках. Старуха задремала в кресле.
Он стал судорожно соображать, называя вещи своими именами. Ему было нечего теперь терять перед самим собой.
Нет, ты ее не убьешь, Митя. Ты будешь действовать нежно, мягко. Ты просто-напросто сейчас встанешь, подойдешь к двери спальни, приблизишься к сундучку. Ты запомнил – старуха оставляет ключ в замочке, не вынимает. Она тебе доверяет.
Нет, дурень, она просто старая склеротичка. Ей до лампочки.
Он тихо встал из-за стола и по одной половице, чуть скрипнувшей, прошел в спальню. Чуть не упал через валявшийся на полу халат. Сундук даже не был закрыт. Крышка была откинута. Должно быть, старуха перебирала каменья, как Гобсек, любовалась ими, роняла слезу.
Митя запустил руку внутрь. Его пальцы ощутили холод ограненных камней, цепкие крючки застежек, леденистую скань иконного оклада. Он расстегнул рубаху. Брал драгоценности горстями, как ягоды из туеса. Клал за пазуху. Камни, золото холодили живот. Он застегнул пуговицы. Закрыл крышку пустого сундука.
Подошел к окну, распахнул форточку и бросил в нее ключ.
Его руки, о чудо, опять не дрожали. Ба, Митька, да ты просто молоток, сказал он сам себе весело. Как все просто. Вот так все просто.
Бабка дремлет. Сейчас я разбужу ее, поставлю на плиту чайник, мы еще поболтаем немного, мирно простимся, она сладко уснет. А завтра хватится ключа. А ключика-то нет, ищи-свищи.
А потом, когда она вскроет замок ножом, отчаявшись, и обнаружит, что внутри – пусто, она будет думать в ужасе, думать, думать и не придумает ничего, как то, что она перепрятала сама свои бирюльки. И будет шарить их по всему дому, искать. Все перевернет вверх дном. И меня звать на помощь. И я буду охать, ахать, помогать ей искать вчерашний день, лазать в ее пыльные шкафы и мышиные кладовки. Вот развлеченье я ей устрою. Под занавес.
Он гнал от себя мысль об убийстве. Все, после мадам Канда больше никаких убийств. Все надо делать бескровно.
Он осторожно дунул старухе в лицо.
Она тут же вскинулась в кресле, открыла круглые, чуть навыкате, в мешках морщин, проницательные глаза.
“Еще чаю?..” – вежливо спросил он, наклонившись над ней. “О нет, дорогой Митенька, я слишком устала. Если б вы были моей горничной, я бы попросила вас раздеть меня”. – “Давайте я вас раздену, – просто сказал он. – Мне это ничего не будет стоить. Не стесняйтесь. Я поухаживаю за вами”. – “Нет, нет, – затрясла она серебряной, гладко причесанной головой. – Это нонсенс. Это уже лишнее. Что, я сама не справлюсь. Мне стыдно, я же… – она помедлила, вздохнула, – хоть и старая, а женщина. Простите, мон шер, что доставляю вам столько хлопот. Спокойной ночи”.
Он пожелал ей тоже спокойной ночи. Вышел, стараясь не греметь под рубахой камнями и железяками. Войдя к себе, он высыпал все награбленное в наволочку. Крепко завязал. Сунул подальше в шкаф – под накупленные бестолковые детективы, под Библию, растопырившую масленый кожаный переплет.
На другой день, к вечеру, он захотел зайти к старухе. Его разбирало жгучее любопытство: обнаружила она пропажу?.. нет?.. Он долго звонил, налегал на кнопку. За дверью царило молчанье. Он случайно оперся локтем о дверь. Она подалась. Он толкнул дверь, вошел. Тишина обняла его.
В гостиной никого не было. В кухне – тоже. Чайные чашки, ложки, чайник, засохшие в блюде пирожки – все, как было накрыто вчера, так и стояло на столе.
Он подобрался к спальне. Старуха сидела в кресле, затылком к нему.
Он не видел ее лица.
Сундук стоял перед ней на столе, открытый, рядом валялся нож – как он и предполагал, она не выдержала, сломала крышку.
Он подошел ближе и вскинул глаза. Увидел лицо старухи в зеркале.
Она сидела, выпрямившись, прямо перед трюмо. На него из зеркала смотрела застывшая ледяная маска.
– Ирина Васильевна, вам плохо?!.. – слабо, жалко вскрикнул он.
Старуха молчала.
Он подошел еще ближе. Взял ее за руку. Отдернул руку. Лед пальцев престарелой княжны прожег насквозь его потную ладонь.
Ирина Голицына была мертва. Была абсолютно, бесповоротно мертва. Она умерла от горя. От созерцанья своей пустой, никчемной, никому не нужной жизни, из которой вынули самое больное и драгоценное – память.
Сутки после смерти старухи он валялся на своей роскошной итальянской кровати, вставая только влить в себя рюмку коньяка, мучительно раздумывая.
Старуха мертва, он жив. Помимо картины, он – обладатель еще целой кучи драгоценностей Царской короны, каждая из которых стоит… Да к чертям то, сколько они стоят, эти безделки! Да, он спер их. Так было суждено. Вообще все, все человеку на земле суждено. И грязь, и чистота.
Он чист. Он не убивал старую бабу. Она умерла сама. От разрыва сердца. У нее вместо сердца и был-то старенький дырявый мешочек. Шутка ли, пройти революции, войны, смерти, лагеря. И она выжила везде. А в собственной спальне умерла. Так захотел Бог.
Так захотел ты, Митя, не ври себе. Ты угробил ее.
Ну и что?! Его жизнь продолжается! Курица жрет червяка, кошка жрет курицу, собака жрет кошку, лев жрет собаку! А человек жрет всех. Человек всеяден. Он, новоявленный богач, русский нувориш, не должен скучать в великой столице мира, не должен лежать на кровати, задрав ноги, и плакаться в жилетку о всяких мертвых бабах, старых и молодых. Он должен развлекаться! И он будет развлекаться, черт побери!
… … …
“Я никогда не был в игорном доме. Я должен туда пойти. Это должно быть очень забавно. Туда приходят мужики с толстыми кошельками, господа с битком набитыми баксами карманами – и, чтобы не испытывать судьбу иначе, чтобы не убивать в подворотнях, чтобы не насиловать баб – а разве богатый человек может позволить себе такое неприличье?!.. а жажда насилья все равно живет в каждом мужике, она только загнана в угол, в самую тьму души!.. – садятся за стол, встают вокруг стола, кидают карты, бросают на кон деньги, запускают волчок, играют в рулетку. Они играют. Что ж, поиграет и он. Я поиграю в игру, а не в жизнь. Если с жизнью играешь неосторожно, нагло, ва-банк, как поиграл недавно я, она подкидывает тебе карту смерти, и тебе просто нечем крыть.”
Он прекрасно знал это казино на Тверской – когда он тысячу раз шатался по Тверской вечерами, сделав на Столешниковом и Петровке всю дворницкую нудную работу, он все время созерцал эту светящуюся, бешено мигающую, хлесткую рекламу: “Казино! Рулетка! Вы можете выиграть ваше счастье! Не бойтесь игры!” И ниже – пульсирующими буквами, золотыми цифрами: “Зеленая лампа” – и адрес. Вся наша жизнь – игра, подумал он напыщенно. У кого как выпадут кости. Кто как волчок крутанет.
Он приоделся. Вырвал из шкафа два, три костюма – после пребыванья в дворницких трущобах он уже успел помотаться по магазинам, обзавестись приличным прикидом. Да, пожалуй, вот этот, светлый, кремовый, почти белый.
Белый смокинг?! Ну ты, Митька, и даешь. Сейчас же зима! Белое хорошо только в жару, в солнечную погоду, на реке, на уик-энде!..
Чепуха. Он художник. Он одевается как хочет. Ренуар одевался в Париже как хотел. Клод Моне – как хотел. А он должен стесняться, мяться?!.. Это болезнь нищеты, Митя. Излечи ее. Становись смелым. Сбивай с ног, с рук кандалы.
Картины, холсты, подрамники, краски, что он перевез сюда, на Восстанья, из Столешникова переулка, тоскливо сгрудились в углу. Он не прикасался к ним.
Когда домработница, все же приходившая иногда к княжне, явилась и обнаружила тело, и парижской родне немедленно телеграфировали, и в квартире напротив поднялся мрачно-суетливый шум похорон – дверь была открыта настежь, и пол-Москвы шастало на поклон к старухе, дать последний поцелуй, – его пригласили, как соседа, почтить память.
Он почтил.
На поминках он даже разговорился со старухиным внуком, известным французским пианистом, Кириллом Голицыным, после третьей рюмки признался, что он художник, малюет понемногу.
“О, художник?.. – На лице русского француза, чубатого и красивого, как Ален Делон, мужика лет сорока, написался искренний восторг. – Так у меня к вам просьба!..” Митя подумал – сейчас попросит написать портрет жены, дочки. Сейчас предложит: приезжайте к нам в гости в Париж, я вам сделаю вызов. “Сделайте небольшой набросок с усопшей… пожалуйста!.. на память… Все же это княжна Голицына, и нас в мире осталось не так уж много…”
И он, скрепя сердце, сидел у изголовья покойницы, вырисовывал карандашом и сангиной на ватмане сухощавые, лукавые, полные затаенной гордыни черты, сеть морщин, набрякшие временем веки.
Да, да, он художник, и белый костюм ему к лицу! У него же черные длинные волосы, высокая шея, космы спадают на плечи, небольшие усы и бородка придают ему совсем парижский видок. А может, гладко выбриться?.. Нет, так отлично. Самый игорный вид. У него вид такой, будто он уже выиграл десять лимонов баксов. А что? Он и выиграет. Игра только началась, господа.
Он накинул черный длинный плащ. Сунул в карман деньги. Потом подумал и полез в шкаф, за книги, вынул туго увязанную наволочку. Запустив туда руку, наудачу – пусть сама судьба распорядится!.. – вытащил изумрудный Царский перстень. Это спасательный круг. Да нет, это талисман. Если вдруг он, неумеха, лох, все просадит, у него будет, что бросить, надменно глядя в глаза крупье, на черное, на красное поле.
Он весело глянул на себя в зеркало. Весело загрохотал замком. Весело скатился вниз по лестнице, плюнув на лифт. Его ждало сегодня веселье – то столичное веселье, о котором пишут в книгах, опасное, зловещее, поджигающее кровь, яркое, как веер из павлиньих перьев. У подъезда высотки, внизу, на стоянке, дремала машина. Его собственная машина. В память об Анне он купил в автосалоне на Красной Пресне маленькую “мазду”. Права он купил, так же, как и прописку, не встретив особого сопротивленья у чиновников. Водить машину, плохо ли, хорошо ли, он умел. Научился еще в Сибири, там катался без прав – на ветхих тачках брательников, собутыльников.
Он сел в “мазду”, разогрел мотор, вытащил из кармана пачку “Мальборо”, не торопясь закурил. Сидеть в собственной машине, курить “Мальборо”, пьянеть от свободы, от предвкушенья азарта и победы. В казино наверняка будут ошиваться красивые женщины. О, телки, о, козочки. Он попасет вас. Он выберет самую нужную ему из вас. А какая тебе нужна, Митенька?! О, он еще не знает. Все решается в последний момент. Лови момент, угрюмый дворник из Столешникова. Жизнь хороша тем, что состоит из моментов, как из цветных стеклышек. Бог повернет калейдоскоп, и завтра стекла сложатся по-другому, разрежут тебе горло, высыпятся тебе под ноги в грязь.
Когда он тронул руль и снялся с места, слушая шуршанье шин о заледенелый асфальт, ему показалось, что за стеклом “мазды” возник, будто из морозных узоров, лик умершей старухи Голицыной. Ее птичий глаз глядел на него через стекло, проницая, приговаривая.
О, художник, тебе бы во всем, во всей природе видеть образы, картины, фигуры, лица. Ты без них не можешь.
Ну-ну, ступай в казино. Ты увидишь там новые лица, типажи, характеры, узришь такие рожи, что тебе и не снились. Это будут твои впечатленья. И ты зарисуешь их. Кинешь на холст.
Сначала надо жить. А потом уже – работать. А разве нельзя и то, и другое вместе?..
Может быть, и можно. Но он сначала рьяно, пьяно хочет жить. Ведь он не жил до сих пор. Он прозябал. Он скреб лопатой мостовую. У первой же красивой девушки, которая подойдет к нему в казино, он нагло отведет со лба прядь волос, дерзко поцелует ее в губы. Он неотразим. Он Адонис в этом белом костюме.
“Мазда” вырулила с Большой Никитской на Манежную, завернула на Тверскую. Слепящая, сыплющая холодными зернами бенгальского фейерверка реклама казино наплыла на Митино лицо. Он тормознул. Постучал себя по нагрудному карману, проверяя, есть ли в запасе сигареты.
Он фертом вошел, вступил, как некоронованный король, в зал, изукрашенный сплошняком зелеными тканями – стены были обиты золото-зеленой парчой, во весь пол размахнулся черно-зеленый персидский ковер, столы были, как водилось издавна в казино, устланы зеленым сукном. Вокруг столов спокойно, мертво стояли, оживленно шевелились, отчаянно метались, скептически застывали люди.
Богатая публика Москвы играла, пробуя на вкус счастье. Никто не знал, какое оно. Митя сорвал с плеч плащ, кинул его на руки гардеробщику. Когда он шел к столу, где метался, как бешеный, шарик рулетки, на него, на его белый костюм оглядывались. Митя, не кажешься ли ты тут снеговиком на зеленой травке?.. Как они на тебя пялятся. И, гляди ты, почти нет баб. Скучновато. Может, он прикатил рано, и козочки прискачут попозже?..
Он подошел ближе к зеленому столу. От стола к нему обернулись лица. Ого, какие мордочки! Наглее не придумать. Трое, уставившиеся на него, видимо, были его ровесниками. Им не стукнуло еще и двадцати пяти.
Золотая молодежь, алмазные хлыщи. Проматывают папенькины, маменькины баксики. Митя изогнул губы в кривой усмешке. Видал я вас. А внутри все у него рухнуло в пропасть. Сейчас они поймут, что я новичок, и поднимут меня на смех. Он скосил глаза. Шарик метался по красным и черным полям рулетки. Молодые люди не глядели на рулетку. Они глядели на него. Он был свежей дичью, возможно, добычей.
– Привет, господа, – процедил Митя сквозь зубы, развязно, фривольно, подчеркивая, что он тут завсегдатай, что все тут ему смертельно надоело, да привычка, что поделаешь, гонит сюда, охота пуще неволи. – Делаем ставки?..
Крупье прокричал что-то невнятное. Куча людей за столом пришла в неистовое движенье. Все жадно, с интересом, с завистью, с ненавистью, с искусственным подчеркнутым равнодушием смотрели на высокого обрюзгшего господина в черном, похожего на крупную собаку, на дога; он сгребал в карман кучу потрепанных и новеньких, хрустящих, зеленых баксов, среди которых попадались разноцветные английские деньги – фунты стерлингов – и затесались несколько немецких купюр с сусальной рожицей красотки Клары Вик. Этот господин, похожий на собаку, выиграл. Он выиграл! Значит, выиграет и он, Митя, если постарается!
Как ты не поймешь, дурило, что от твоего дерьмового старанья ничего не зависит. Все решает Бог.
Бог – или…
Он не дал себе додумать. Гладкорожий молодой хлыщ с модной стрижкой “лесенкой” насмешливо измерил его взглядом.
– Привет, синьор, – засмеялся он, и белые зубы парня выблеснули ножево. – Пари держу, что ты тут впервые. Только не вздумай врать. Тех, кто брешет, мы мигом колем. А потом доверья ничем уже не заслужить.
– Отменный прикид, – проронил второй парень, нахально цепляя его пальцами за полу пиджака. – От Версаче?.. От Валентино?.. Скажешь, где брал, я там тоже че-нибудь возьму. Поиграть пришел?.. Давай, начинай. Хочешь стоя, хочешь сидя. Кто как любит.
Митя протиснулся к игорному столу. Он видел морщинистый лоб, мокрую от пота лысину крупье, импозантного старика в галстуке-бабочке; крупье воздымал руки, будто молился кому-то, а по красным и черным полям рулетки носился, прыгал, летал шарик, и все напряженно ждали его остановки, и все гипнотизировали его, умоляли Бога о счастливом исходе пляски; Митя видел дрожащие руки игроков, сведенные судорогой ожиданья бледные лица, высвеченные желто-лимонным сияньем люстры; видел пальму, раскинувшую длинные, веером, темные листья сзади стола, в кадке, украшенной елочным “дождем”.
“После Нового Года не сняли”, – подумал он сердито.
– Да, я тут впервые, – сказал Митя. К чему была вся его спесь. Он здесь ученик, и ему надо учиться. Во всем нужна школа. У него совершенно нет школы этой жизни. – Сколько тут ставят?.. Какая ставка считается приличной?..
– Ха-ха, да он думает о приличиях! – расхохотался первый бонвиван, краем глаза продолжая следить за оголтелым бегом шарика по красно-черному магическому пространству. – Сколько не жалко, столько и ставь. Или ставь все, что у тебя есть. Если у тебя с собой много – прилично выиграешь. Или неприлично проиграешь. Га-га-га-а-а-а!..
Митя побледнел. Залез двумя пальцами в карман белого пиджака. Когда он вытащил и кинул на красное поле увесистую пачку баксов, три богатеньких паренька, прикалывавшихся к нему, чуть ли не потешавшихся над ним, внезапно онемели. Крупье завопил:
– Две тысячи долларов на красное!.. Две тысячи долларов на красное!..
– Ого-го, да ты не скупердяй, мальчонка, как я погляжу. – Стриженный “лесенкой”, белокурый юноша оценивающе глянул на Митю, уважительно цокнул языком. – Да ты наш человек. Ну, давай, расшивайся, ты наш или не наш?.. Занимаешься всячиной?.. Мы – занимаемся.
Митя судорожно озирался. Расправлял плечи под лебяжьим пиджаком, тер щетинистую пятидневную бородку, щипал усы. Надо бы еще каждое словцо мотать на ус, выучивать их язык. Всячина!.. Словно бы – ветчина… Торгуют ветчиной… Торгуют – краденым сибирским золотом… Тогруют – женским телом?.. нефтью?.. взрывчаткой?.. оружьем?.. почками и селезенками малых детей?.. да чем угодно, лишь бы – торговать… Всячина… У него закружилась голова, как от выпивки. Он опять криво улыбнулся. Не подавай виду, Митя. Не подавай виду.
Шарик запрыгал по столу. Все затаили дыханье. Третий из троицы согнулся над столом. Двое – этот, золотоволосый, стриженый, и тот, с волосами погуще и подиче, что щупал его за пиджак, проверяя прочность, качество и дороговизну ткани, глаз не сводили с Мити.
– А если ты выиграешь, принц Уэльский?.. – без обиняков спросил его белокурый, с сытой мордахой. – Опять поставишь?.. Или по девочкам побежишь?.. с корзиной шампанского?!..
– Опять поставлю, – мрачно сказал Митя. Белокурый уважительно поглядел на него. И снова его глаза брызнули наглой насмешкой, иглами презренья.
– Ну точно наш человек!.. – Он ткнул локтем в бок лохматого. – Ты, Бобка, лови кайф, следи за рулеткой!.. Голову на отсеченье, этот волосатик выиграет!.. Получит куш!.. Смотри, смотри!.. Ну так и есть!.. Фарт!..
Митя не слышал, что кричал крупье, жертвенно воздымая толстенькие ручки, смешно высовывающиеся из-под обшлагов, над зеленым сукном стола. Он видел – все оборачивались на него. Протыкали его взглядами. Смущенно улыбались ему. Обреченные на смерть приветствуют тебя, Цезарь, – вспомнилась ему ни с того ни с сего выспренняя фраза из какой-то ветхой книжки, что он мусолил в Сибири, на чердаке у бабки.
– Ты выиграл двадцать штук, чувак, – холодно и восхищенно вычеканил стриженный “лесенкой”. – Не слабо. Гуляем?.. Ну уж штуку-то из твоего выигрыша, лох ты наш дорогой, на стильных девочек потратим?.. Водка “Абсолют”, сауна – как в Лапландии, телочки – по высшему разряду. Ты же ни черта играть не умеешь, и ты выиграл. Ну, мы тебя научим. Все, сегодня больше не играем. Едем! Едем отсюда! Ты на тачке?.. Мы тоже. Я Лангуста. Это Боб, – кивнул он на кудлатого. – А это Павел. Паша, – он хохотнул, – Эмильевич. Натурально. Его отец…
– Заткнись ты о моем отце, – с внезапной ненавистью подал голос третий парень. – Не тебе ему кости перемывать. Забирай выигрыш, вон, видишь, крупье удивляется, почему ты так долго копаешься. Вон, вон они, твои баксы!
Когда Митя сгребал себе купюры в угодливо подставленную для этой цели находчивым крупье смешную старую шляпу – и откуда только она тут взялась, черная, ветхая, чуть ли не изъеденная молью, в богатом, блестящим зеркалами казино?! – он удивился сам себе. Вот он с первого захода выиграл двадцать тысяч долларов, а не радуется.
Ведь у него на счете…
О, несчетно у него на счете.
А для юных мафиози и штука – пожива. Вон как они глядят на тебя. Их глаза горят, как у волков. Они знать не знают – или знать не хотят, – что кто-нибудь в свой черед освежует их, снимет с них волчьи шкуры, разошьет их жемчугом, вставит рубины вместо глаз. Ах вы, мафиози! Как же вы возгордились, как же вас съедает звериная гордость: мы – первые!
А ты, Митя, разве не хочешь быть – первым?! Разве не хочешь ты взойти на трон жизни, и чтобы голенькие девочки сновали у твоих ног, неся то корзину с фруктами на голове, как Лавиния у Тициана, то мочалку, чтоб потереть тебе спинку, то лавандовое масло, чтоб вылить тебе на живот и зад, прежде чем заняться с тобой любовью?!.. Лаванда. Он вспомнил запах от белья мадам Канда. Зажмурился.
– Что жмуришься, как кот?! – проорал ему в ухо Лангуста. – Повеселимся с девочками, а вечером – опять сюда! Клево здесь, а?! Скажи!..
Они уже шли к выходу по залу казино. Он выиграл стремительно, и стремительно же удалился, в лучших традициях таинственных незнакомцев. Все оглядывались на белый смокинг. Черные длинные Митины волосы развевались над плечами, когда он спускался по лестнице. Боб восторженно глянул на него. Взлохматил свою шевелюру.
– Ну ты, в натуре, даешь, отпад!.. а так и не сказал, хитрый, как тебя зовут!.. может, ты вообще Березовский!..
– Дмитрий, – сказал Митя остановившись у двери. – Дмитрий Морозов.
– О, Морозов!.. – воскликнул белокурый Лангуста, прищурясь, рассматривая его, будто в лупу, – Морозов, это же какая-то знаменитая фамилия?.. в Москве были такие купцы?.. ну да, верно, один из них был клевый магнат, даже какой-то театрик открыл однажды, и, по слухам, там Шаляпин пел… а теперь один мафик есть крутой, Морозов тоже, он нефтью занимается, с Ближним Востоком шашни вертит… ты случайно не его братан?..
– Может быть, – пожал Митя плечами. Гардеробщик накинул на него черный плащ, метущий полами мрамор. – Я тоже мафиозо. Двадцать штук баков для меня – копейки поганые. Поехали к девочкам. И в баньке я не прочь попариться. Тут у меня деньки жаркие выдались. Требуется отдохнуть… – он внимательно поглядел на Лангусту, – по первому… разряду.
Лангуста вернул ему пристальный взгляд. Митя разлепил губы.
– А тебя-то как зовут, парень… ну, по-правдашнему?..
– Зяма, – выдавил Лангуста, его скулы вспыхнули. – Зиновий полное.
Сауна дышала неистовым жаром. В парильне было так невыносимо, что Митя, войдя туда, испугался. Он думал, что воспламенится. Когда он сел на прогретый до жаровенного каленья деревянный полок, он подскочил с криком: обжег себе тощий мускулистый зад.
Парни расстелили на досках полотенца, простыни. Голый Лангуста оказался субтильней, хилее, чем выглядел, под важным цивильным пиджаком. У него торчали ребра, будто бы он был нищим, побирушкой, дворником, будто бы ничего не ел по утрам и вечерам. Форму держит?.. Ну да, бег, гимнастика, диета, баня!.. Толстым быть немодно…
Боб и Паша выглядели чуть потолще, повыше и покрасивее. У них ноги были постройнее, не такие кривые, как у Зямы; повыпуклей наросли плиты мышц на груди. Боб поглаживал себя по бокам, по чреслам. Закрывал глаза: ребята, до чего хорошо!.. давайте жить в сауне!.. давайте никуда больше отсюда не уйдем!.. А где же девочки?.. А вот они и девочки. Эй, девочки!.. Ну вы и опаздываете!.. У нас же за все заплачено!..
Митя, распластанный на обжигающих досках, поднялся на локте. У него потемнело в глазах. На него надвигались такие три грации, что покойная мадам Канда и все его трущобные кралечки-дворничихи померкли, скукожились, помстились ему уродками, обязьянами.
Словно отлитые из бронзы, точеные голые тела. Девушки были одного роста, как на подбор; ступившая в сауну первой была черненькая, две остальные – беленькие. Кармен и две Маргариты, подумал он озорно.
Они с парнями уже успели выпить изумительной водки и закусить ветчиной и лимоном в прекрасном, как для приемов, отделанном мрамором и цветными изразцами зале, называемом Лангустой презрительно предбанником; кровь бросилась ему в голову.
Он вонзил глаза в черненькую, как крючья. Но перед ним, нагим, на корточки опустилась беленькая. Ее щеки тут же запунцовели в немилосердном жару, между торчащих врозь, как у козы, грудей потек мелкий пот.
– О-о, какой хорошенький молодой петушок!.. – замурлыкала беленькая, поглаживая Митин горячий живот. – Какой хоро-ошенький, какой сла-авненький!.. Ну покукарекай, сделай милость!..
Митя почувствовал, как вся кровь из всего его тела прилила у него к низу живота. Ну да, прямо здесь, при плюс ста тридцати по Цельсию. При чужих людях. На чужих глазах. Это же не представленье, Митька!.. Это представленье. Все в жизни – спектакль, игра. Ты ведь уже это, кажется, понял, петушок?!
Беленькая прикоснулась к нему осторожно, тихо, будто боясь причинить ему боль. Он изогнулся. Внезапная сладкая мука пронизала его. Лангуста рядом, невидимый, захохотал. Черненькая девушка принесла с собой еловый веник; она легонько похлестывала Боба по спине, другой рукой залезая ему между ягодиц.
Митя скосил глаза. Ах ты, стеснительный Митя! Паша рядом с ним, у него в ногах, чуть повыше него, лежа на пахнущем смолой полке, уже усадил верхом на себя вторую белобрысую барышню, и она весело, будто скакала на добром коне по полям и лугам, подскакивала на нем, гортанно, дико вскрикивая.
“Ты же убил человека, – повторял он себе, – ты же уже убил человека. Женщину. Ты задушил ее. Так что странного в том, что люди совокупляются. Ведь белокурая бестия уже пускает слюни. Ей очень хочется тебя. И тебе – ее. Слышишь, она шепчет: ого, какой ты. Она одобряет тебя. Она уже влезает на тебя. Так что блуд не страшнее смерти, Митя. Ты слышишь, не страшнее!”
И все-таки он боялся. Когда она, оторвав свои мокрые вывернутые после долгой ласки губы от его восставшей плоти, подняла лицо и, повернувшись к нему задом, вонзив его, лежащего, в себя, задвигалась сразу быстро, резко, жестоко, будто танцевала ритмичную жесткую ламбаду, он возненавидел ее. Он захотел ее сбросить с себя, как кусачую муху. Как рака, впившегося клешней в нежную кожу.
А Лангуста сзади все смеялся. Бедный Лангуста. Ему не досталось девушки.
– Эй, вы! – повелительно крикнул он. – Кабаны! Давайте скорей! А то мне уже неможется! Вы думаете, я железный, что ли?! Ты, Лизка, слишком долго ты… отцепишься от него, двигай в бассейн, там порезвимся!..
У Мити занималось дыханье. Это тебе не Иезавель. Это покруче.
Хотя и с Иезавелью тоже все было не так уж плохо. Иезавель просто ненавидела его. Хм, и он тоже не особо ее жаловал. Просто надо было с кем-то распинаться на полу, на старых клопиных диванишках.
А теперь он валяется на досках шикарной блатной сауны, и за каждую шлюху они с молодыми господами отвалили по пятьсот баксов. Угощал он. Он был сегодня в выигрыше. Дружки маслено, хищно блестели глазами. “У нас так принято!” А если они просто… выманивают из него деньги?.. Что ж, обман едет на обмане, обманом погоняет. Сегодня они использовали его, завтра он использует их.
Как долго прыгает на нем эта проститутка. Какой у нее упругий, гладкий зад. Будто выточенный из мрамора. Краем гаснущего от взрыва наслажденья сознанья он уцепил мысль: как здорово бы ее подержать в качестве натурщицы на каком-нибудь возвышенье, на подиуме. Такие точеные формы – редкость. Гель, что ли, они все впрыскивают?! Ну же! Ну!..
Он погонял ее, как лошадь, втыкался в нее, подбрасывая на себе. Он и вправду чувствовал себя конем. Черненькая еще облизывала разомлевшего Боба. Вторая белобрыска убежала с Лангустой в бассейн. Когда взлетающая на нем, закинувшая голову к потолку златокудрая девица заорала благим матом, изображая пик счастья, он непритворно закричал, содрогаясь, вместе с ней, удивляясь ее жестокому и искусному мастерству любви.
Изумрудная ледяная вода бассейна обняла его, когда он вывалился, отдуваясь, весь ярко-розовый, в красных пятнах, из парилки. Сердце захолонуло. Он вспомнил, что у него в кармане лежит перстень такого же густого зеленого цвета, как эта ледяная вода. Как бы не стащили. Да им сейчас не до воровства.
Девицы и парни плескались в бассейне, визжали, опять наскакивали друг на друга во вспененной воде, уносились в мраморный предбанник – вливать в себя водку и коньяк, чистить апельсины, наливать из самовара горячего чаю. Сауна только начиналась. Начинался оттяг по высшему разряду.
Они проторчали в снятой за восемьсот долларов сауне до утра.
Они погружались в машины с опухшими, полупьяными, довольно расплывшимися от непрерывного наслажденья лицами.
Митя украдкой трогал пальцами щетину.
Растет, растет борода. Она делает его старше, опытнее… важнее. В этом важность ИХ мира, Митька?!.. в расставленных, раскиданных широко женских ногах, в зияющем красном прогале хотящего, зовущего тела… Их и подбирают таких – чтоб хотели. А если они все это искусно подделывают?! Если они просто классно обучены… ведь обучают же актрис…
Он еле довел “мазду” до дому. Лифт взбирался на его этаж, как старик в гору. Хорошо еще, не застрял между этажами. Впав в квартиру, свалился как сноп на кровать.
Он без просыпу спал до вечера. Вечером, продрав глаза, умывшись и одевшись – на сей раз он нацепил не крылья белого лебедя, а крылья черного ворона – он снова поехал в казино.
Он окунулся в варево казино с головой.
Через неделю он уже знал многих, если не всех, завсегдатаев-игроков по именам. Он, прищурясь, дерзко глядел на крупье, подмечая все его ошибки, проговаривая их вслух, вполголоса, так, чтобы крупье слышал; просмеивал игроков, бросая на кон баснословные для других суммы.
Миллион долларов! Ему казалось, он никогда не сможет потратить его. Ему была дана незримая индульгенция. Неразменный рубль. Разрешенье: трать, транжирь, все равно не убудет.
Богачи пялились на него. Кто-то шептал: господа, вглядитесь внимательней, ведь это же сын олигарха, ну да, поглядите-ка на ямочку на подбородке… а этот изгиб носа… а эта родинка здесь, над верхней губой…
Он вздергивал голову. Он знал, зачем он здесь. Он здесь для того, чтобы познать все прелести опасности, все таинства игры. Весь ужас того, когда на кон бросаются не деньги, а, может быть, жизнь. Потому что деньги сейчас для многих, для этих людей, для НИХ – жизнь. А для него?
Он бы с радостью бросил бы на черное поле свою жизнь. И посмотрел, как будет разворачиваться дикая игра.
Те девочки в сауне исчезли поутру, унося заработанные баксы в чулках, в сумочках, под пятками в туфельках, утаивая хоть несколько жалких баксишек от хозяина. Рабыни исполнили танец живота изумительно. После плесканья в бассейне, после стократного восседанья в парильне, когда они, пьяные, уже осмелились и плескали воду на раскаленную каменку, расцветая ожогами и оглушительно визжа, они стали соединяться в гроздья – по трое, по четверо, сходя с ума от разожженного желанья.
Шлюхи знали свое дело. Любовное ремесло горело у них в руках. Баксы они вышвырнули не задаром.
Лангуста утром, позевывая, опрокидывая на себя, голого, шайку ледяной воды, мечтательно сказал: а вот на беленькой, той, что сначала с Митей веселилась, я бы даже женился. Чтобы такая услада у меня в койке – под боком, и каждый день.
“Каждый день соскучишься!.. – хихикнул Боб. – Будешь заводить ее, как часы!..” – “На полшестого, что ли?.. – огрызнулся Лангуста. – Ну, понравилась мне эта халда, что ж я теперь, преступник, что ли!..” – “Это только русские классики в былые времена, Зяма, женились на шлюхах… нынче время другое… поел, выпил, порыгал, поспал – и прощай…”
Прощай. Рано еще прощаться.
Митя с тоской, с умалишенным блеском в глазах ждал вечера. И, когда вечер наступал, он складывал себя, как циркуль, впадая внутрь “мазды”, сцепляя зубы – ехать. Ехать. Ехать снова туда.
Он играл и играл, и завзятые игроки уже внимательно присматривались к его рукам, жестам, повадкам – кто такой, как себя держит, как ходит по залу, с кем заговаривает.
Митя был для всех странной тайной. Он сжимался в железный комок внутри от стыда – сейчас его поймают, разоблачат, крикнут: убирайся вон, самозванец, ты, из грязи в князи!.. – а на самом деле тут, в казино, все были такой же грязью, все вышли откуда угодно – из люмпенов, из мещан, из неучей, из ленивых хлыщей, потомственных аристократов здесь было раз, два и обчелся, но все-таки они тут тоже были, Митя видел мелькавшие в толпе игроков два, три лица – утонченных, надменно-породистых, изысканно-ироничных.
И эти бывшие люмпены, выбившиеся в люди невероятьем накоплений, хитрыми ходами узаконенного воровства, наглым обманом государства – государства, которого уже, наверно и не было вовсе, Митя все гадал, есть великая Россия или уж нету ее, так разительно смахивало это, становящееся ему родным, зеленое казино на красивую американскую ли, французскую ли, английскую ли житуху, что крутили и крутили по ящику сутки подряд – любуйтесь, наши тупые, забитые нищей работенкой народы, ставки на черное поле!.. на красное поле!..
И Митя не хотел быть тупым и забитым. Он обошел всех на полкруга. А надо обойти на круг. И поэтому он будет играть. Он станет отличным игроком. Он не даст себя в обиду. Он изучит приемы и ставки. Он будет подмигивать крупье, когда будет проигрывать. Он бросит вызов судьбе.
– Э, да ты сегодня проигрываешь, браток!.. может, хватит?.. а то мошну всю растрясешь… побледнел, вон как испугался… это не твои последние тугрики, суслик?!..
Митя, наблюдая, как с игорного стола исчезают, сметаемые лопаточкой крупье, его последние деньги, что он захватил с собой в казино, видя себя, смертельно побледневшего, в длинном венецианском зеркале напротив, пожал плечами, усмехнулся. Не дать себя никому избить. Всегда быть выше всех. Ты взял планку короля – так королем и будь, а не шутом.
– Ошибаешься, Зяма, – медленно сказал он. – Я ничего не боюсь. Идем-ка с тобой выйдем. Одни. Вон туда. За тот курительный столик.
– Бить, что ли, будешь?.. – Лангуста прищурился. – Или покурить захотелось, горе дымком забить?..
– Для меня деньги – ничто, Зяма, – так же медленно произнес Митя. – Идем, расслабимся. Водки у меня с собой нет, а вот есть что бросить на кон. Сыграем с тобой в картишки. Стрельни у кого-нибудь. Но только не у крупье. Руку на отсеченье, здесь у половины скелетов заткнуты в кармане карты. И я поиграю с тобой. И я тебя обыграю.
Лангуста стоял совсем рядом с ним. Склонился и близко, испытующе посмотрел Мите в глаза.
– В карты?.. У меня с собой карты. – Он постучал себя по груди. – И искать не надо. Думаешь, я в казино без меченых карт хожу. Я ж известный по Москве шулер. – Он смеялся над Митей. Его острые, как у рыси, клычки жадно поблескивали. Игра ему была – медом не корми. Игра была его жизнью, его едой и питьем, его шлюхой на одну ночь, его любовницей и женой. – Идем. Сразимся. Только ты врешь. Что ты можешь поставить?.. У тебя ж денежек сегодня нет, баксы на поле не выросли?.. плохо поливал… Расческу?.. Зажигалку?.. Пошел ты знаешь куда…
Они подошли к курительному столику. Митя отодвинул скользнувшую по зеленому сукну пепельницу, вытащил из кармана кольцо с изумрудом старухи Голицыной. Кинул его на сукно. Яркая зелень бешено, всеми гранями просверкнула, заиграла на тусклой матерчатой зелени.
Митя только теперь рассмотрел, что камень, огромный, квадратно ограненный изумруд, спокойно лежит в обрамленье из мелких речных жемчужин. Перлы, перлы. Как вы нежно светитесь. Митька, а если бы у тебя была невеста… любимая девушка, и ты бы лучше ей, девушке, Царский перстень подарил?..
– Нехилая фенька, – грубо сказал Лангуста, и глаза его вспыхнули. Он все больше напоминал Мите дикую рысь, затаившуюся на толстой ветке дерева, напрягшую широкие лапы, готовящуюся к точному прыжку. – Настоящая?..
Он взял перстень в руки. Повертел небрежно. А острые рысьи зрачки хватали отделку, количество граней, чистоту камня, вес, величину.
– Нет, Зяма, елочная игрушка. Это Царский перстень. Его Николай Второй одной знатной старухе подарил. Во время оно. Когда она была отнюдь не старуха, и Царь наш, любитель хорошеньких девочек, видимо, ее удачно оттаскал где-нибудь в тайных покоях Зимнего, а за радость одарил безделкой. Для него это была безделка, конечно. Египетский изумруд, из нильских копей под Каиром. Гляди, какой крокодилий цвет. – Он улыбнулся. Лангуста поднял от перстня глаза. – На Кристи он потянет… как ты сам думаешь, сколько он потянет?..
Он нарочно спросил о цене перстня Лангусту, зная, что тот, хоть и стреляный молоденький воробышек, все же ничего путного про истинную цену не скажет. Вещь поистине была бесценна. Лангуста в восхищении поднес изумруд к кончику носа. Понюхал его, как понюхал бы цветок. Хрипло выдохнул:
– Черт меня возьми совсем, Митька… ты укокошил старушку, что ли?!.. Такой погремушке место… знаешь где?.. в Алмазном фонде, в Грановитой палате, вот где!.. Да ты ее оттуда и спер, жук!.. признайся…
– Ни черта, – твердо сказал Митя. – Твое личное дело не верить мне. Вещь реальна, как твой тупой затылок, Зяма, и играю на нее. И я знаю, что она стоит по меньшей мере лимон.
– Лимон чего?.. – глупо спросил Лангуста. Из-под его русой стрижки тек по лбу пот. Табачный дым – игроки курили не близ курительного столика, а прямо у игорного стола, презирая этикет, стряхивая пепел в пепельницы, что нахально ставили у своих ног на ковре, в бумажные кулечки, на лацканы пиджаков, за обшлага, – обволакивал их бредовым сизым покрывалом.
– Лимон баксов, доцент. По меньшей мере. По детсадовским расценкам. А по-настоящему – и двадцатник, и тридцатник, а то и полтинник. Ты это лучше меня знаешь.
Лангуста сглотнул слюну.
– Брешешь!.. Но я же не пьяный!
– Хочешь позвать сюда эксперта?.. – Митя нагло усмехнулся. – Давай, зови. Я скажу, что это мой перстенечек, а ты украл его у меня. Вытащил из кармана. Так, сдуру, по пьяни. Играем?..
– Ты, чувак!.. Но у меня нет при себе лимона!..
У Мити захватило дух. ПРИ СЕБЕ.
– А… не при себе?..
– А не при себе – есть.
Лангуста покраснел как рак. Так, все понятно, это денежки материны либо отцовы. Ну, о’кей. Пусть изворачивается как уж. Это его проблемы, как сказали бы, хохоча во все горло, в милой Америке, которую он не видел никогда, которую увидит еще. И Париж. И Дакар. И Калькутту. И…
– Ты трус.
Митя вытащил из кармана “Мальборо”. Они все трусы. Дым пополз вверх, серебристой короной увенчивая лоб. Он видел в зеркале напротив, как его глаза сузились. О, это он сейчас похож на японца. На мужа бедной мадам Канда.
Интересно, как и где ее похоронили. Если в Москве – он сходит к ней на могилку.
Он торопливо, нервно затягивался, отвернув лицо от Лангусты. Он делал вид, что презирал его. Пацан! “Лесенкой” стрижется, как рокеры! А еще высший свет, московская знать! Щенок! Он сделал движенье – схватить перстень со стола. Лангуста остановил его руку.
– Играем!
Они перетасовали карты. Лангуста раздал колоду. Карты ложились неведомыми чернорубашечными узорами, выпадали, летели, бились в руках, как подстреленные птицы. Они оба нервничали. Изумруд ярко, победно сверкал в свете окутанной табачным густым дымом люстры.
Люстра в казино “Зеленая лампа” была не хуже, чем в Большом театре. Карты летали и шелестели, молчали и кричали, вспыхивая слащавыми личиками сусальных дам и валетов, разя копьями черных тузов, расплываясь кровавыми пятнами смертной червовой масти. Картежный узор выкладывался на зеленом сукне такой, как надо. Узор судьбы.
– Король, Лангуста!..
– Пошел ты. Ваша дама бита. Просто Пушкин вы, дорогой Дмитрий Морозов. Гляди, червовая дама упала!.. А ты думал – не брать королей!.. Не брать кинга, ах, кинга не брать!.. Ах, какая дамочка, какая женщина… просто слюнки текут, как та, Галька, черненькая, в бане…
Он глядел остановившимися глазами. Взял карту в руки.
Червовая дама была невероятно похожа на убитую Анну.
Черная короткая стрижка, беглая белозубая улыбка на смуглом лице, чуть раскосые, густо подведенные сурьмой яркие веселые глаза.
Он вздрогнул и смял карту в руке. Лангуста, смеясь и блестя глазами, дрожа ямочками на сытых щеках, вызывающе протянул руку и зажал в кулак изумруд старухи Голицыной.
На кон ставить было больше нечего. Стояла глубокая ночь.
Вся деловая Москва спала, и его банк с его початым, растрясенным миллионом тоже спал. Занять денег у игроков?.. Он тут знает в лицо многих, а накоротке – никого; он якшается лишь с этой троицей, то нагло смеющейся над ним, то подобострастно заглядывающей ему в рот. Чуют, кошки, чье мясо съели.
А это ведь реванш, Митька. Лангуста взял реванш. Он тебя не разгадал – он чувствует твою тайну, власть твоих темных денег, на которых ты сидишь тихо, как курица на яйцах, и это его раздражает, бесит его; и он хочет хоть немного поиздеваться над тобой, хоть чуть-чуть покочевряжиться. Вот он выиграл у тебя бесценный перстень и счастлив.
Он счастлив как ребенок. Ха-ха! Недолго музыка играла, недолго мучился народ.
Митя сцепил зубы. Утер ладонью пот над губой. Тряхнул волосами. Он отыграется. Он отыграется, даже если…
Даже если это будет стоить ему жизни.
На миг он увидел перед собой лицо бегущей женщины со старой картины. Она бежала, в ужасе оглядываясь, разевая рот в истошном крике, и ее рыже-золотые, кудрявые волосы развевались по ветру, и с черного, набухшего тучами рваного неба в нее, несчастную, летели молнии. Это жизнь бежала от смерти. Это сама жизнь кричала: жить хочу!.. Оставь меня!.. Не бери!.. Его глаза на мгновенье застлала пелена. Он рванул пальцами воротник сорочки. Алмазная булавка отлетела в сторону, на ковер. Лангуста услужливо поднял булавку, всадившую иглу резкого света в зрачок, и протянул на ладони Мите.
– Возьми свой алмазик, – повел он носом. – А изумрудик остался у меня, хрю-хрю. Изумрудик-то классный какой. Пожалуй, ты прав, и я его действительно повезу на Кристи. Махану-ка я в Нью-Йорк. Там у меня дядюшка сейчас. Там у меня кое-какие делишки намечаются, так я заодно и камешек сплавлю. Жениться я не собираюсь, ни на шлюхе, ни на принцессе, так что дарить его мне все равно некому.
Митя повел глазами вбок. Он лихорадочно думал, думал, думал.
Какого дьявола он кинул на кон этот бесценный перстень! Какого… Дьявола?..
У Нее, у Той, тоже были изумрудные, искристые глаза…
Он обрубил эти мысли. Он представил себе свой проигранный камень, покоящийся в кармане у пацана Лангусты, хорошо бы еще тот был у оболтуса не дырявым. Ведь изумруду место поистине в мировой сокровищнице или на худой конец в коллекции крупного магната, приколотого на таких вот камешках, а уж никак не в вонючем табачном карманишке дерущего курносый нос румяного хлыща, – до сих пор не узнал Митя, чей он сынок, чьими долларами ворочает, кого надувает и охмуряет, кому дает подножки, кого выгораживает!
За спиной Лангусты прятались люди, которым место было за решеткой. Эти люди давно поделили между собой пространство, котрое другие, непосвященные, наивно считали своим. Они поделили землю, власть, деньги, оглядывались – что бы еще поделить, о нет, не поделить, а присвоить, прихапать одному, двоим, троим от силы, но уж никак не толпе, не стаду, давно переставшему быть народом.
Мальчик Лангуста прикрывал своим хилым тельцем чудовищ. И чудовища благодарно стерегли его. Чудовища лизали ему пятки. Чудовища, в доказательство своей признательности, отстегивали ему кусок, отгрызая от себя то коготь, то лапу, то хвост – ведь взамен отгрызенного у них вырастал новый, еще толще!
Митя страдальчески наморщил лоб. Лангуста понял. Он понял все сразу и теперь наслаждался, видя метанья Мити. Ах, как сладко, как приятно унижать другого человека!
– Ты хочешь еще игру?..
Митя втянул табачный воздух казино пересохшими губами. Положил растопыренную пятерню себе на лицо. На пальце блеснул алмазик в золотом перстеньке с печаткой.
– Вот у тебя еще колечко есть, как у голубя на лапке, – томно завздыхал Лангуста, – так отчего же ты менжуешься?.. Кинь мне и его, я и его выиграю!.. И оно мне приглянулось!.. Вот его я подарю той шлюшке, черной Галочке… там, в сауне… воровское какое колечко, тюремное, такие – урки носят на зоне… ты сам не с зоны случайно, Митя, такой знатный?..
– С зоны, – не разжимая зубов, кинул Митя, выхватывая у Лангусты из ленивых холеных рук колоду и бешено тасуя ее. – С сибирской проклятой зоны, что сожгла мне все почки. Я ставлю на кон это дерьмо. Если я его отыграю, я кину его в Серебряном бору в озеро, рыбам. Чтобы рыбы сожрали его, мать их.
Он отыграл колечко с печаткой.
Он отыграл изумруд.
И, когда он выиграл у Лангусты, покрывавшегося все более сильной, призрачной, меловой бледностью, еще и девять тысяч баксов, которых, разумеется, ПРИ СЕБЕ у него не было, но ЗАВТРА… – Лангуста лишь тысячу, лишь жалкую тысчонку кинул ему, сжав зубы, выматерившись, – он понял, что судьба – индейка, что не надо насаживать ее на себя, как мясо на шампур, и подкаливать на медленном огне; ее надо свободно любить, ей надо давать полную волю, ее надо ласкать и гладить, а насиловать ее – нет, ни за что.
И, встав из-за курительного стола гордо и вольно, распрямив грудь, как разбойник, зарезавший богача и выбравшийся из лесной чащобы на простор дикого, гудящего вьюжным ветром, заснеженного поля, раздув ноздри, торжествуя, не затолкав на сей раз отыгранный перстень в карман, а надев его, нацепив на палец – он пришелся ему впору лишь на худой мизинец, до того изящны были пальчики у Ириши Голицыной, ведь Царь дарил ей изумруд, а не ему, не тому, кто пришел сюда через сто лет!.. – он пошел вон из зала, вон не навек, конечно, а так, на время, на нынешнюю ночь, ведь он сросся, сроднился с игроками, он вкусил сладкого яда, он еще вернется сюда, господа, и будет играть, но это будет завтра, а сегодня надо спать, спать, спать, и рюмка коньяка на ночь не помешает, – и он не видел, как, когда он выходил в дверь, высокий и худой, расстегнув на сей раз не белый, а черный смокинг, качаясь от бессонья, возбужденья, усталости, вымотанный, отмщенный, победный, – ему в спину смотрел Зяма, по прозвищу Лангуста, тяжело и угрюмо.
Митя сел в машину, проверил, все ли на месте. На месте было все. Никто в машину не влез. Влез бы – угнал, весело подумал он. В голове у него шумело, как от шампанского. Он отыграл перстень у Лангусты, ура! Ура-то ура, да вот только что это у него так руки дрожат?!.. Он не мог совладать с дрожью в руках, в пястьях, в коленях. Будто тяжелая каменная плита навалилась на его грудь, давила его, и сердце билось так безумно, как у подранка. Ему надо ехать, ехать скорей домой, сдвинуться с места! О, Боже, что это с ним… зачем это, прочь, не надо…
На него с обеих сторон машины, сквозь стекла, уже чуть тронутые хрустальной кистью мороза, глядели бледные холодные мертвые лица.
Слева – Анна. Справа – Голицына.
Он задрожал сильнее. О, да он как коньяка хватил. Нет, пока они играли с Лангустой в карты, никто не приносил им за столик никакого графина с коньяком. Это все табак, он надышался табаком, нанюхался.
Анна слева глядела печально и строго, белое ее лицо светилось кружевным льдистым покоем, холодом звезд. Он отшатнулся от стекла. Он понял – она прощала его.
Старуха справа источала грозный ужас. Митя сощурился, дрожа, всмотрелся в старухин фас. Она чуть повернула голову. Улыбка, злобная, издевательская, страшная, прорезала ее щеку, будто рана.
Митя шептал про себя: сгинь, пропади, это бред, я брежу, я переиграл, перекурил, перепил, пере-все-что-угодно, зажигание, газ, вперед, вперед, кати, олух царя небесного, заигравшийся шкет. Его рука, с изумрудом на пальце, дьявольски крепко, до побеленья, вцепилась в руль.
Он рванул с места. Машина странно содрогнулась, покатила по асфальту. Он выехал на ночную Тверскую, завернул на Никитскую. Ему под колеса бросился живой комок грязи и старых ободранных тряпок. Замерзший, гревшийся где-нибудь на корточках у яркого мрамора метро и выгнанный оттуда бомж метнулся ему под машину.
Митя еле смог направить “мазду” в сторону, его тряхануло, прижало к дверце.
Скосив глаза, он увидел слева все то же печальное белое, как густо напудренное, лицо мадам Канда.
Послать все это куда подальше! А эти… шапахаются по выжженной морозом, лютой Москве… забиваются во все теплые дырки, прячут носы в рукава, греют руки дыханьем… и запах от них, запах, запах… А он сейчас приедет к себе домой, в высотку на Восстанья, заберется под пушистый плед, засунет в рот кусок хорошей семги, семужки…
Его передернуло. Как железно, жестко передергивается затвор.
Ах, Митя, ты не подумал только об одном.
Тебе не мешало бы в Москве, в этой каменной зоне с каменными высотными вышками, с солдатами-снайперами, что прячутся на шпилях и башнях, выслеживая цель, купить себе, любимому, в подарок хороший револьвер. Ты об этом, мальчик, не подумал.
А ведь у этих чертовых сытеньких мопсиков, у Боба и Зямы, наверняка в задних карманах стильных брюк от Валентино заткнуты отличные пушки.
Ничего, он себе тоже пушку купит. В любом фирменном оружейном салоне. А еще лучше с рук. Поспрашивает завсегдатаев “Зеленой лампы”. Старые револьверы надежнее новых. Смазать маслом – и не нарадуешься. И – в десять очков. И – в это белое лицо, что мотается, маячит за стеклом, покрываясь колким мхом мороза, иглисто-острым инеем, звездчатым кружевом замогильного куржака.
Он гнал машину по Никитской. Миг, другой! До Кольца осталось так немного! Переехать его – и дома… И глядеть, глядеть, до звона в ушах, до рези в глазах, до одури, на картину, на изборожденное молниями черное небо и на золотые плоды в темной листве.
У Никитских ворот перед ним замигал светофор. Желтый свет, красный… Митя нажал на тормоз. Машина не останавливалась. Он жал и жал. Не останавливалась!
Он, судорожно искривившись, прикусив губу, схватился за ручной тормоз. Чуть не въехал в стоящий перед красным светофором “мерседес”. По его подбородку из прокушенной губы текла кровь. Он проскочил дальше, дальше. Ему не удалось тормознуть. Машина ехала неудержимо, двигалась сама по себе. Теперь она не остановится. Она въедет прямо в бешеный, сплошной железный поток Садового кольца. И его сшибет, расплющит, разорвет в клочья стальная оголтелая машинная стая. Вот она, расплата твоей жизнью, Митенька. Вот она!
Его глаза метались. Его лицо было все залито потом. Он открыл на ходу дверцу. Не сработали тормозные колодки! Они или стерлись, или сожглись, или… “Или их вынули”, – произнес насмешливый холодный голос внутри него. Вынули чьи-то чужие шаловливые ручонки.
Садовое, гудящее и дымящееся шумом и грохотом, выхлопными газами, морозными искрами, зелеными, как его изумруд, огнями такси, красными маками сигналов, ослепительными, как киношные софиты, огромными фарами, приближалось. Шевелящаяся железная река. Сейчас она поглотит его. Убьет. И его растерзанный, весь в крови, труп не будет нужен никому.
Анна. Старуха. Они настигли его. Настигли.
Машина едет слишком быстро, черт, он сломает ногу. Или руку. Или голову. Голову лучше всего. Увезут сначала в Склифосовского, потом в психушку. Заколют, залечат. Господи, какая благодать. Ты должен прыгнуть вон из машины. Ты должен прыгнуть, Митя, трус, рохля! Прыгай!
Он выпрыгнул из машины на ходу. Катясь кубарем по мостовой к тротуару, он видел, как его новенькая “мазда” неудержимо катится, вкатывается в дымящийся Апокалипсис зимнего Садового кольца.
Он слышал гул, лязг, грохот сталкивающихся железных повозок, проклятья и крики, заполошные, пронзительные. И свистки, свистки.
Лежа на животе близ обледенелого парапета, напротив выложенного цветной смальтой посольского дома, он поднял голову и увидел, как его машина, в окруженье врезавшихся в нее, панически тормозящих, лезущих друг на друга, как клопы-солдатики в дупле трухлявого дерева, бедных и богатых машин, перевернулась на бок и взорвалась.
Он видел взрыв. Он видел желтое, золотое пламя до неба – как волосы той золотоволоски в бане, что сидела на нем верхом, понукая его, погоняя. Он содрогнулся и подумал: если б я не выпрыгнул, я бы мог быть там, внутри. Мое тело было бы объято огнем. Не отрывая взгляда от горящей посреди сумасшедшего, вставшего на дыбы Садового своей “мазды”, он встал на четвереньки, скорчился от боли. Что он себе зашиб?! Все чепуха. Он жив. Все синяки, вся кровь и шишки, все разломы и переломы – на нем, живом. Жизнь! Жить! Выше счастья нет!
Он глядел на горящую машину, медленно поднимаясь с грязной, сверкающей алмазными блестками инея мостовой, шатаясь. Костер, гори, догорай. Он купит другую машину. Еще лучше. Еще краше. Если он жив – какие могут быть разговоры?..
Он сжал руку в кулак. Поморщился: больно! На мизинце, в белесом свете фонаря, сверкнул изумруд старухи Голицыной. “Мазда” сгорела, изумруд отыгран. Все уравновешено. Это коромысло, и он его держит на плечах. Все должно быть оплачено.
– Все должно быть оплачено, старик, – услышал он рядом с собой злой, смеющийся голос. – Ты жив, чего мы как раз не предполагали. Ну, если ты жив, гони обратно камешек. Мне он сильно понравился. Запрещенный приемчик, скажешь?.. Уж какой есть. Ты новичок, тебя просто пощекотали. Есть приемчики и покруче. Красиво горит машинка, а?.. Любуйся, любуйся. Это иллюминация. Когда холодно, важно погреться у костра. И при этом тяпнуть еще хорошей водочки, старик, да?.. желательно “Абсолют”… и остатки вылить Галочке на животик, хо-о-о-о!.. Давай! Не жмоться!
Митя перевел дух. Перед ним стояли двое.
В полумраке Никитской, в окруженье истерически кричащих людей, выпрыгивающих из машин и бегущих глядеть, что же там за катастрофа на Садовом, в белесом призрачном свете старых фонарей их лица были веселы и довольны, будто они только что вылезли из-за сыто, пьяно накрытого стола. Лангуста держал в руке тяжелый большой “браунинг”.
Боб стоял на шаг позади. В его кулаке тоже плясал увесистый револьвер.
Вот они, их пушечки, Митя. Ты же так по ним скучал.
– Давай камень, сука, не тяни! – крикнул Лангуста, теряя терпенье. Они оба, и Лангуста и Боб, были хорошо навеселе. Но рука у них не дрогнет, Митечка, пулю они радостно всадят тебе в живот, в печень, а может, прямо в сердце, сентиментально всхлипывая. Не жилось тебе, Митенька, в Столешниковом, не ходилось тебе в комнатенку к дурочке Хендрикье, не елось ее жареной вечной рыбы, не игралось в карты с Сонькой-с-протезом – не в преферанс, не в покер, не в кинга, не в вист, а в нищего, жалкого дурачка, с обвислым мокрым ртом, с выкаченными глазами, обритого, в тюремном колпаке, с колокольчиком в руке.
Не игралось! Подавай тебе, милый, другие игры!
– Убери свою бездарную пушку, Лангуста, – задыхаясь, прохрипел Митя, как бы со стороны, изумленно, слушая свое шумное дыханье, свой хрип. – Убери ее к чертям. Перстень мой. Ты его не получишь.
– Понравился он мне сильно, сука, понимаешь?!..
Крик Зямы сотряс морозную тьму вокруг Митиного лица. Митя видел – дула наставлены на него, и они жадно дрожат. Эти ребята выстрелят – недорого возьмут. Нет, зачем, именно дорого, таким редким, Царским перстеньком. Николай Александрович, Царь Великия и Малыя и Белыя Руси, и думать не думал, что его подарком вот так грубо, пошло станут распоряжаться.
Они выстрелят, Митя! Гляди – Лангуста уже поднимает свой неподъемный “браунинг”. Зубы Зямы скалятся, и на его румяном, с ямочками на щеках, курносом личике балованного сыночка он читает лишь одно: сейчас я тебя застрелю, падла, сдерну перстень с твоей поганой лапы и убегу, и, пока сюда кандыбают менты и прочие ненужные свидетели – а свидетелям и пригрозить пушкой можно, все это безобидные столичные раззявы, – мы уже успеем уйти. Далеко-далеко. Отсюда не видно.
Лангуста наставил дуло ему в лоб.
– Долго думаешь! Гони!
Митя улыбнулся прыгающими губами. Схватил себя за локоть, цапнул за кисть, прикрыв ладонью изумруд.
– А ты что не стреляешь?! Стреляй!
И в то время, как Лангуста, решившись, направив револьвер прямо Мите в лицо, прикоснулся пальцем к курку, Митя с проворством фокусника сдернул с пальца изумрудный перстень и протянул его на ладони Лангусте. Дрожащая, ненавидящая улыбка не сходила у него с замерзшего лица, как приклеенная.
– Ах ты, какие мы добрые, какие мы щедрые, – зло, тяжело сказал Лангуста, надевая перстень себе на палец. Он напялил его не на мизинец, как Митя, а на безымянный. У Лангусты руки были худее. – Благодарствую. Вы не обеднеете, царь Крез. Мы полагаем, в ваших тайных закромах достаточно таких вот изумрудиков и алмазиков, как этот.
Лангуста смеялся ему в лицо. Смеялся над ним.
Митя провел руками по лицу снизу вверх, от подбородка ко лбу, словно умываясь. Он стирал с лица холодный, соленый пот. Грязные, ползавшие по асфальту мостовой руки испятнали бороду, скулы, подглазья.
– Ты прав, козел. У меня еще полно сокровищ. Вам и не снилось.
– По-моему, это правда, Бобка, – обернулся Лангуста к приятелю. – Неплохо бы основательно пошерстить паренька. Да кто ж его разберет, может, он важная птичка. Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда!.. – запел он шутовски, засвистел сквозь зубы. – Может, мы его тут попугали слегка, Бобка, а нам за него по шее дадут. А шея-то у человека одна, Бобка, разве не так?.. мы же не змеи горынычи… А какие у тебя еще сокровища остались, мон шер ами?.. может быть, ты с нами подобру-поздорову поделишься?..
– Пошел ты, сволочь. Я все равно тебя найду. Я знаю, гад, кто твой папан. Я…
– Пожалуешься моему фазеру? – Лангуста закинул голову к ночному фонарю, свистнул, любуясь играющим на пальце изумрудом. – Смешно!.. Только попробуй!.. Вякнешь ему – мои пацанчики тебя отделают лучше, чем визажист-мастерюга… всего раскрасят… по первому разряду… и пикнуть не успеешь…
Сауна по первому разряду. Разборка по первому разряду. У них все по первому разряду, Митя. И что-то одно должно быть – по последнему.
– Видишь, какой ты девственник, Митенька, – воркующе, ласково вымолвил Зяма, – у тебя с собой, мальчик ты мой, даже пушечки нет. Чтоб отстреляться. А мы тертые калачи. Мы всегда отстреливаемся, если на нас нападают. Это мы гигнули тебе твои тормозные колодки, шляпа. Горит “маздочка”?.. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!.. Спокойной ночи, приятных сновидений, простак! Шулером ты никогда не станешь. Я не играл с тобой на честность. Я просто поддался тебе. Чтобы проверить тебя, умеешь защищаться ты или нет. Проверил. Не умеешь. Это тебе урок, дурак. Умнее будешь. Забудь дорогу в “Лампу”. А если вспомнишь…
– Погоди, Лангуста, клюкву давить, ты же, может, с ним еще помиришься, – на особенно настойчиво выдавливал из себя лохматый Боб. – Не гони лошадей…
– Лошади уже все прибыли! – крикнул Лангуста визгливо. – Перекладные отменяются! Ямщик желает отдохнуть! И щи сюда, и огурчик под водочку!.. Копти небо, мужик. Два совета: заведи себе пушку и бабу. Ты совершенно не умеешь работать с бабами. Я в бане поглядел. Дилетант.
Зяма плюнул сквозь зубы. Утерся. Выматерился. Очаровательно, игриво, светски улыбнулся, как будто ничего и не было. Спрятал пушку в карман. Повернулся. Пошел. За ним поплелся хмурый кудлатый Боб, как оруженосец за хозяином.
– Эй, ты, Паша! – оглянувшись, слабо позвал Боб, шаря глазами по сторонам. – Где ты там завалялся!.. Валяй, к месье Ляббе опоздаем, мы же договорились… хватит пялиться на этого богатого кобеля…
Он, Дмитрий Морозов, богатый кобель. Божественно. Лучше не придумать. Ему казалось: он в мрачном вонючем, пахнущем носками, сапогами и дешевыми духами кинозале смотрит черно-белый старый фильм про себя, под названьем “Богатый кобель”. Идет название, титры, публика равнодушно глядит, жует карамельки, щелкает семечки, целуется.
И крупно – на экране – он, мертвый, на мостовой Большой Никитской, и его висок залит кровью, и его рука, разжатая, бессильная, валяется на снегу обочины, и на пальце – нестерпимое сиянье изумруда. Все. Забыть. Как его и не было. Это все старуха подстроила. Это все… она…
К нему вразвалочку подошел третий из поганой троицы, Паша Эмильевич, сын Эмиля, которого Митя никогда не знал и не узнает, провались все куда подальше. На рожице Паши было написано нехитрое, сытенькое удовольствие зрителя, поглядевшего нехилый, с выстрелами и мордобоем, боевичок и выползающего из кинотеатра, подняв благодарные поросячьи глазки к небу: спасибо, Боже, что ты дал мне хлеба и зрелищ, а большего я и недостоин.
Паша подошел к нетвердо стоящему на ногах, покачивающемуся Мите – все-таки его сильно ударило об асфальт, он ничего не сломал, зато потроха отшиб, и головой стукнулся крепко. Паша потрогал Митю за плечо. Дернул его за длинную черную прядь волос, падающих на черную куртку от Версаче.
– Митя, – тихо сказал он. Не “ты, парень”, не “эй, козел”, а – “Митя”. – Ну их в задницу. Я же все вижу. Это Лангуста, он еще тот синий попугай. Едем ко мне. Я без машины. Они меня зовут, но я на них плевать хотел. Снимем тачку и едем. Тут недалеко. На Тверской. Плюнь на все. Забудь. Завтра Зяма тебе перстень отдаст. Я его знаю. Ну, может быть, не отдаст. Это его личное дело. Он бы выстрелил в тебя по правде. Я его хорошо знаю. Он слегка крэйзи. Клади на все на это. Едем. Там у меня отец дома. Я тебя с ним познакомлю. Забавный он у меня. Он такой забавный!.. Он занимается всем-превсем. Он считает, у нас в Магадане золота больше в мильоны раз, чем на Аляске. Он занимается конъюнктурой мировых рынков… о, он босс! И до того душевный парень мой отец!.. Выпьем, развлечемся… когда он дома, это праздник, это елка круглый год…
Митя отвел от своей груди Пашину ладонь. Господи, какие же они были еще молодые. Какие они все были еще дети. Как они играли в мафиков, во взрослых. Котировки цен, ведущие фондовые индексы Европы.
А на деле – понравился мне этот зеленый перстенек, так я ж у тебя его сворую. Митя неожиданно для себя улыбнулся. Тело болело и ныло, и фонари сверкали над их головами, как люстры в бальном зале.
– Изволь, – сказал он напыщенно, странно. – Лови машину. Вы мне здорово напоганили. Я нынче безлошадный. Но это ненадолго.
И они с Пашей, поймав неказистую машинешку, быстро прикатили к Паше домой; и Эмиль, отец Паши Эмильевича, сам открыл им дверь, круглый, низкорослый, с седой, жиденькой, нависающей на самые брови челочкой, с изогнутым острым носом, с черными гитлеровскими усиками над верхней губой; Эмиль катился колобком, всплескивал круглыми ручками, качал головой туда-сюда, как китайский бронзовый бонза, и, странное дело, он совсем не был смешон или пухло-мещанист, а наоборот, мужествен и суров, в его сжатом кулаке Митя читал: всех согну в бараний рог!.. – а в улыбке хитрых губ – мягкой, мягкой соломки вам, господа, подстелю, падать больно не будет.
Может быть, в нем просвечивала, как галька сквозь воду быстрого ручья, еврейская кровь. Его фамилия была Дьяконов.
“Эмиль Дьяконов, очень рад”, – так он и представился, больно пожимая руку Мите, и Митя вытянулся, как на плацу, понял, кто перед ним.
Дьяконов входил в число пятидесяти самых богатых людей новой несчастной России, с хрустом разорвавшейся на богатых и бедных, и, в отличие от Мити, на которого деньги свалились из грустных смуглых влюбленных рук мадам Канда, Эмиль Дьяконов сделал свою финансовую карьеру сам, своими руками, – а инструментами его были люди, да, живые люди, иным инструментом ЭТО сделать и было невозможно. Эмиль властно заявил: никакого отчества!.. что я, старик!.. – и Паша, потягивая из плоского бокала французский коньяк, незаметно подмигнул Мите: ну что ж, король забавляется, играй с ним, жеребенок, в его игру. И Митя играл.
Митя играл как мог, и, ему казалось, все виртуозней и виртуозней. Он представлялся и выпендривался, он не чувствовал боли в ушибленном теле, голова после коньяка уже не кружилась, мысли плыли прозрачно, как перламутровые рыбы в чистой воде.
Эмиль, невзирая на поздний час, прошествовал в спальню, вывел оттуда щурившуюся на свет, заспанную жену – странным было сочетанье седых, белых, снеговых волос с гладким, без единой морщинки, молодым лицом.
Скорбная складка крашеных губ, презрительные щипанные бровки, поднятые домиком. Сколько ей?.. Если б его спросили, Митя, растерявшись, дал бы ей и тридцать, и шестьдесят. Внешне она была не пара мужу.
Колобок, скорее, каравай Эмиль, эта его жуткая фашистская челка, эсэсовские усики, рачьи глазки – и седая стройная красавица, уставшая от бешеной жизни мужа, где за каждым баксом на счету стояло чье-то убитое тело, чьи-то слезы и вопли, вставшие навек заводы, обанкротившиеся заправилы, пускающие сами себе пулю в лоб. Ее муж был строитель. Он строил дома из людей и сам разрушал их до основанья.
Лора мило улыбнулась и предложила гостю сына настоящего китайского чаю с лимонной сушеной коркой, из самого Шанхая. “Ночь, две ночи не уснете, поверьте мне, – холодно пояснила она, бросая ложку заварки в японский фарфоровый чайник; увидев на стенке чайника рисунок колонковой кистью, изображающий японочку под зонтиком на мостике, Митя вздрогнул. – Бессонница полнейшая. Когда мне надо не спать… – она поправилась, – не надо спать, я шлепаю в чайник три ложки заварки. И чувствую себя духом святым. Парю над землей.”
Митя вежливо осклабился. Прихлебывая чай, он почувствовал, как поднимается над креслом, парит, зависает. Лора цепко глядела на него. “Вы гипнотизерка”, – неудачно пошутил он. “Евреи, кладите больше заварки”, – сухо ответила госпожа Дьяконова.
И застольная беседа текла, текла, пока им всем не надоело. А до рассвета было еще далеко.
Спать после шанхайского чая и впрямь не хотелось ни капли. И тогда сидящих за огромным, изящно сервированным для чая столом прошибло откровенье. Расклеиться, расслабиться, расстегнуться, разговориться. Какой это древний соблазн, искушенье.
На миг Мите показалось – прядь рыжих волос там, за хрустальной горкой, в проеме двери… но Паша уже бубнил: папка, объясни Митьке все про акции “Лукойла” и “Газпрома”!.. он же не понимает ни черта!.. – а Лора, насупив подрисованные выщипанные бровки, куда-то отлучалась и уже несла на подносе новую порцию бутербродов и горячих тостов с сыром впридачу с новой, невскрытой бутылкой легкого “киндзмараули”, – и он снова успокаивался, улыбался, трепался почем зря. Потрясенье от потери перстня, ночная игра, глупое стоянье под дулами пацаньих пушек, взорвавшаяся, охваченная столбом пламени “мазда” – все развязало его язык. Митька, у тебя язык без костей!.. Куда тебя несет!.. Эмиль водил выпученными глазами. Лора подперла ладонью щеку, слушая Митю, как слушали пустынные бабы, должно быть, Христа там, под сгоревшими маслинами, под неплодными смоковницами.
– У меня, Эмиль, неслабо баксов на счету, – заплетаясь, весело толковал Митя, потирая костяшками пальцев пушистую бороденку, – так я чувствую, вы как-то… ну, мне Паша говорил… с Америкой связаны, так не поможете ли вы мне забросить мои денежки в Америку?.. в американский банк?.. чтоб надежней было… а то у нас здесь, в России, вы лучше меня знаете, вы, умный… все лопается, трещит по швам… – Эмиль важно кивал: ну что ж, заброшу, какой пустяк. – И вообще, Эмиль, вы знаете, я такой тупой, ну, тупее некуда… так я вас прошу, будьте моим… ну, вроде как покровителем!.. Мне так не хватает в Москве, здесь, твердой родной руки… дружеской, старшей… чтоб я мог опереться… я могу наломать дров, накрутить глупостей, сжечь мосты… я все могу!..
– Он все может, – подтверждал Паша.
– И вот я прошу вас… ну прямо Христом Богом… мне это очень важно… возьмите надо мной опеку!.. будьте моим опекуном, как сказали бы в доброе старое время!.. ну, шефство возьмите, что ли… а я в благодарность… ведь мы подружимся, Эмиль, да?.. ваш портрет напишу… у вас очень необычное лицо… своеобразное… римское какое-то… да, вы римлянин, вы древний римлянин… вы Сулла, вы…
– Договаривай, мальчик: Нерон, – весело кивал Эмиль, потягивая коктейль, приготовленный Лорой, через соломинку.
– Ну да, Калигула!.. я бы вылепил вас, если б был скульптор… но я немного живописец… я вам покажу свои картины…
Он осекся. Сглотнул. Картины. Картина. Та, единственная картина. Что висит у него в спальне. И он, просыпаясь, каждый раз видит, как убегают двое несчастных, мужчина и женщина, от Божьей карающей грозы. Черт ли в ней, в картине. Ему стали являться призраки. Его преследует старуха. Его преследует Анна. Пошла картина к едрене-фене. Он продаст ее.
Он продаст ее еще раз!
И продаст… не за бесценок…
Он услышал тот же холодный, нежный голос внутри. “Хороший ход, мальчик. Отличный ход. Я так и знала. Взявшись за гуж, ты не сказал, что не дюж. Иди вперед. Иди дальше. Иди…”
Он затряс головой. Опять! Опять эти призраки!
– Лора, Лорочка, еще, пожалуйста, китайского чаю…
– Пли-из…
– А что это мы с тобой, Митя, странно как?.. ты меня на вы, я тебя на ты… а наш брудершафт где же?!..
Когда они выпили, сплетя руки в локтях, и нужно было чмокнуться, Митю охватил беспричинный страх, будто бы он был голубой и ему надо было поцеловать такого же голубого, стонущего от сладострастия. Он еле коснулся губами сладких, кровавых от “киндзмараули” губ Эмиля.
– Ну вот я и твой опекун, почти… отец, – прокряхтел Эмиль, приглаживая потной пухлой ладонью свою дурацкую челочку, – а ты – мой сын. Теперь у меня есть еще один сынок, Лора!.. как тебе это понравится?.. и рожать тебе не надо, а вот он тут, в наличии, имеется!.. художник, значит, у нас новый сынок-то… та-ак, та-ак… и что же сынок малюет в тиши мастерской, позволь отцу полюбопытствовать?.. глаз да глаз за вами нужен, за богемой!..
Ты же не сказал ему, Митя, сколько у тебя на счету. Ты же не сказал. Он посмеется. А может быть, изумится.
– Я пишу все, – жадно сказал Митя и втянул ноздрями душистый воздух, в котором смешались ароматы Лориных духов, оплывшего воска – в подсвечниках, по старинке, горели, слезно стекая, тонкие свечи, – жареного сыра, красного терпкого грузинского вина, коньяка, табака. – Я пишу что в голову взбредет. Папочка со мной замучается. Да, я богема. И чтоб я не… растранжирил себя, я призываю папочку следить за мной пуще глаза. И потом… у сыночка есть одна картинка…
Митя, ты слишком много сегодня выпил. Митя, у тебя сегодня взорвалась машина. Митя, молчи, если можешь молчать. Тебя же никакая скотина не дергает за язык.
– Не простая картинка, – выдохнул Митя, нацепляя на вилку фамильного серебра – ого, Лора-то не парвенюга, а, небось, хорошего роду, и реликвии семья сохранила… да нет, дурень, это они все купили – в антикварных лавках, на старинных аукционах в “Альфа-Арт”!.. – а золотая. И мышка не бежала, и хвостиком не махнула… Одним словом… такая ценность… открытие… мировое…
Он изрядно, о стыд, плел кренделя языком. Лора подлила ему в чашку чаю, усмехнулась. А сынок-то запьянцовский, не иначе. И на что нам такой подарочек?.. Эмиль встрепенулся, по-собачьи, как легавая на охоте, наклонился вперед. Эмиль сделал стойку. За пьяным бормотаньем названого нового сынка он почуял: правда, все правда, и пахнет хорошей наживой. За коньячным бредом парня, которого он видит в первый раз, – Аляска. Клондайк. Юкатан. И не надо расспрашивать. Не надо встревать. Он все сейчас сам скажет.
– Папочка, Эмиль… ха-ха!.. ты понимаешь, я убил женщину… фр-р-р-р!.. противно… но крови не было… не было крови… я без крови обошелся…
– Па, он притворяется, – равнодушно пожал плечами Паша, разрезая ломтик ананаса. – Он же такой скоморох. Он мухи не обидит. Художник всегда такой. Я не знал, что он художник. Он никогда не говорил.
– Из-за картины… а может, ее убил тот, кто написал картину… ну, сам Господь Бог, ха-ха-а-а!.. ведь нас всех Господь Бог сам написал, и где-то он попал мазком в “яблочко”, а где-то облажался… обмишулился… холстик кисточкой проткнул… эх и картина, папаша!.. если у тебя есть пушка – застрелись… меня хотели застрелить из-за колечка… из-за поганого колечка, да я б его сам в сортир спустил, на черта мне оно… а что было бы, если б они увидели картину?!.. то-то и оно… Тенирс… первая треть семнадцатого века… настоящего Тенирса в музеях мира раз, два и обчелся, так же, как и Вермеера… и она, она, родимая, у меня дома висит… такая медная дощечка, и размерчик хреновый, так, пятьдесят на шестьдесят… а мне мерещится дощечка ме-едная!.. – завопил он внезапно, оборвал крик, смущенно потупился, помял неслушными пальцами скатерть на столе. – Эмиль, милый, если ты теперь папа, то слушай… я хочу… помоги мне продать эту открытку… эту почтовую марку… ведь Тенирс все-таки на дороге не валяется, как ты считаешь?!.. товарищ Сталин – он бы продал… и в Америку, в Америку преимущественно… ты вот мне объясни, папа, что такое Кристи?.. А что такое Сотбис?.. давай эту мазню туда запичужим, а?!.. и сбагрим!.. и бабки поделим!.. и ты, папа, возьмешь процент… такой, какой сынок захочет…
Эмиль слушал, застыв, не шевелясь. Казалось, он прядал ушами, как стреноженный конь. Пашка старательно жевал ананас. “Кислый”, – капризно поморщился. Лора вроде бы не слушала. Она смотрела. Она смотрела на бормочущего ахинею гостя. С кем бы его свести, какие бы денежки из него повытрясти. Познакомить с Генриеттой?.. Она, сучка, не клюнет на него. В ее вкусе сивые лапти. Этот похож на волка и на охотника одновременно. Потом, он, хоть и богато одет, рожа у него – как с задворок. Нувориш. Выпялился. Его надо еще обтесывать, гранить. И только тогда выпускать в свет. А она не Пигмалион. С Инессой?.. Вертихвостка. Денег не дождешься ни от нее, ни от него. Будет один треп и вздергиванье хвостиком. С Анной Иоанновной?.. Стара она для него. Если она приплатит хорошо и ему, и ей, тогда еще имеет смысл. С Региной?.. С Ингой?.. Да, пожалуй, с Ингой. Эта птица не для золотой клетки. Она искусно играет. И никому ее не переиграть. Даже самой Лоре. Лора подлила пьяному “сыночку” горячего чаю, с отвращеньем посмотрела на его длинные пряди, купавшиеся в чашке. И остричь. Уничтожить богему. Когда он успел разбогатеть? Что он лепечет про картину?.. Тенирс, Вермеер… Господи, и кого это Пашка все время подцепляет в этом своем казино, уж лучше бы девочек подцеплял и прыгал с ними в спальне до одури…
– Ты, сынок дорогой, не хотел бы для начала показать свою картинку эксперту?.. – начал было Эмиль, и Митя тут же оборвал его, радостно скалясь:
– Уже показывал!.. Все схвачено!.. И даже бумажка есть… с подписью, с печатью… музей… фирма…
– Так, так… У меня в Париже, на Филипсе, есть один друг… Да, да, один друг, Венсан. Ты слышал про аукцион Филипс?.. Нет?.. Да про что ты вообще слышал, сынок?.. Впечатленье, что ты жил в бочке, как Диоген, и вдруг бочку расколотили, и ты вывалился наружу, голый, беспомощный и смущенный… Что, разве не так?.. Ну ладно, хватит шуток. Я сообщу Венсану. Венсан поможет тебе вывезти ее. Вся проблема с вывозом произведенья искусства за границу. Мы подделаем ее, ты ее закрасишь смываемой краской, гуашью, и я заплачу небольшую пошлину в Министерстве культуры, будто это я купил ее на Арбате у уличного мазилы, в подарок родне, парижским дуракам… Такой расклад устраивает?.. Тогда … выпьем?..
Митя с удовольствием выпил. И расклад его устраивал. Еще больше его устроил расклад его самого, уже ослабевшего до потери всякого сознанья, на мягком разложенном диване. Лора понаблюдала, как мертвецки спит, оглушительно храпя, новоявленный сыночек. Усмехнулась. Подошла к форточке и распахнула ее. Пусть свежий зимний ветер ворвется в комнату, выветрит табачный фимиам, коньячный перегар.
У Лоры в громадной квартире Дьяконовых на Тверской была своя собственная, отдельная спальня. Она, расстелив чистое хрустящее белье, возлегла, уткнулась острым локтем в подушку, раскурила мятную сигаретку, сунув кругляш валидола под язык.
Шутка ли, скоро рассвет. Опять бессонная ночь. С этим Эмилем, с этим Павлом никогда по-человечески не отдохнешь.
На черта она в свое время, уже достаточно давнее, родила Эмилю ребенка. Такой же бешеный, неуемный вышел, весь в папаню.
А тут еще этого придурка из казино приволокли на хвосте. Впрочем… Она неглубоко, играючи, затянулась. Валидол медленно всасывался, утишал сердцебиенье. Это все китайский чай и “киндзмараули”. А у нее возраст. Чепуха, она женщина без возраста. Ей это все говорят. Да и зеркала не врут. Вот когда начнут врать зеркала, тогда… о, тогда посмотрим.
Этот тип из казино, этот пацаненок, изо всех силенок притворяющийся светским львом и мафиозо, довольно любопытен. Занятен он. Откуда он вылез?.. Выговор у него правильный, но не московский. Вместо “сначала” он с упорством маньяка говорит “сперва”. Так говорят в Сибири. И это “однако”. Однако часто он сие словцо вворачивает, к месту и не к месту. Однако, двако…
Его рассказ про картину увлекателен. Лора ни одной минуты не сомневалась в его правдивости. Выудить из дурачка картинку – Эмилю раз плюнуть. Но Эмиль, хитрый, ушлый лис в общеньи со своим братом, с хищными бизнесменами и банкирами, оказывался абсолютной богемной шляпой и широкой русской душой, даром что в нем текла семитская кровушка, тет-на-тет с простым народом, верящим Эмилю, как Господу Богу, просительно на него глядящим.
Этот Дмитрий… Нет, он далеко не дурачок. Он просто выскочка. У него хватка. У него пристальный, зверино выслеживающий взгляд. У него нервные, тонкопалые сильные руки, руки художника, менялы-банкира, хорошего стрелка, ювелира. Он далеко пойдет. Он впишется в ИХ КАРТИНУ. Но пока он начинающий художник, подмастерье, и должен слушаться мастера. Она уцепила зубами сигарету. Ее рот раздвинулся в улыбке, которую увидало лишь зеркало. Слушаться ее.
А уж она ему поможет. Она его ногой подтолкнет, неслышно, незаметно, к той тропинке, по которой он должен бежать, как заяц, не оглядываясь на роняющих слюну собак.
С чего начать?.. Сигаретка докурилась, весь пепел осыпался в старую розовую рапану на зеркальной полочке.
Решено, она позвонит Инге и пригласит ее, пока все свежо и интересно. Она, великосветская сводня, которой щедро платят за услуги не такие косули, как Инга, и не такие салажата, как этот… Митя, а люди ранга ее мужа или еще покруче – мужики и бабы из президентского окруженья, из слоев высокопоставленных бандитских мафиози, имен их не принято называть даже в самом интимном кругу, их знают по кодам, кликухам, лэйблам, – она, великая Лора Дьяконова, положила себе заниматься этим малолеткой, этим…
Стой, Лора, стой, оборвала она себя. Разгрызла кроху валидола, раздробила зубами – крепкими, белыми, сплошь вставными; сделала фарфоровые в Нью-Йорке, и недурные. Этот парень не прост, ты же чуешь. Делай на него ставку. Делай. Если не он тебя обыграет, так ты его. Итак, ты звонишь Инге, закидываешь блесну; она приходит, ты кидаешь ее – наживку – Дмитрию; и берешь с обоих за услуги.
Ее прельщаешь его молодостью, преспективностью и богатством… о, что Сынок богат, это она расчухала сразу!.. а его – тем же самым в ней, родимой, плюс… плюс ее непревзойденной эротичностью. Она прижмет пацана вилами к стене и прошипит: такая сексапилка одна на всю Москву, на весь Париж, на весь Нью-Йорк и Шанхай, ха-ха. Просто Кхаджурахо, храм Кандарья-Махадева, танцы наложниц, виртуознейшая, блистательная феллация.
Я плохого товара не предлагаю. Проводите время вдвоем сколько хотите, но заплатите мне за обоюдный подарок. И это будет справедливо. Если мальчик не поймет, то Инга ему все популярно объяснит. Инга знает, на что клюет. У него она выманит гораздо больше, чем одноразово заплатит мне.
Лора вытянулась, выгнулась в постели. Кружевная длинная ночная сорочка задралась, обнажив стройную, сухощаво-поджарую ногу. Да, с такими еще приличными, очень даже комильфо, мощами не стыдно появляться хоть в тусовочном Майами-Бич, хоть на диких пляжах Бенгалии, где тебя могут запросто сожрать акулы, если ты зазеваешься. О поклонниках думаешь?!.. на фоне-то мужа…
Какой он муж ей. Она поморщилась. Лимон он кислый, а не муж. Бобик сдох давно, и она успела поплакать на его могилке и заказать панихиду. Подумай лучше о картине этого Морозова-Коньячного, Лора. Эмиль лопух, он сразу стал прикидывать: Венсан, Филипс, провоз багажа, Шереметьево, поезд Москва – Амстердам, вагон до Парижа, автобус, идущий прямо от “Метрополя” до Елисейских Полей, то-се… А можно проще сделать. Совсем просто. Проще простого. И она подскажет мужу ход. Глупому мужу, соображающему лишь в покупке и продаже акций, не более того. Но и это в жизни уже кое-что. За мужика, не умеющего делать и половины тех вещей в мире крутого финансового бизнеса, какие умел делать господин Дьяконов, Лора ни за что бы не пошла замуж.
Да, она подскажет ему. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Мальчик выболтал и так уже предовольно. Она сделала выводы. Картина будет у Эмиля. Стоп-стоп. У Эмиля!.. хм…
Она перевернулась в постели со спины на живот. Под задранной рубахой ее красивый живот ощутил приятную мятную прохладность крахмальных простыней. Зачем же у Эмиля. Может она иметь в этой жизни не семейные, не принадлежащие кому-то, а свои личные дела. Картина будет у нее.
Митя проспался, Митя выспался всласть, и его благополучно разбудили, вырвали из небытия как раз к тому времени, когда в гостиной необъятной двухъярусной квартиры в фешенебельном сталинском доме на Тверской, совсем недалеко от Митиного, блаженной памяти, дворницкого Столешникова переулка, был уже накрыт стол для скромного вечернего кофе – с таким размахом скромности и непритязательности, что свойствен был лишь дому Дьяконовых: сервировка для кофейку выглядела по меньшей мере, как великокняжеский либо щедро-купеческий ужин – с обязательными салатами, с осетриной и черной икрой, с расстегаями и горячими жюльенами в стальных цептеровских мисочках, а кофе подавался в последний момент и затмевал все, обжигающе горячий, вперемешку с мороженым, изюмом и традиционным коньяком.
Дамы любили лить коньяк в кофе – это было понятно и объяснимо. Лора медленно потягивала чистый коньяк из бокала. После кофе засовывала себе в рот неизменный валидол, закуривала сигаретку. Пашка им не помешает – Пашка опять рванул в казино. Экая зараза, чума, холера. Эмиля дома не было – он укатил на важное финансовое свиданье. Верней, на финансовую дуэль.
Эмиль был председателем совета директоров крупнейшей энергетической компании России и резко выступил против председателя правления, младореформатора из Нижнего Новгорода, который ни много ни мало, взялся бесконтрольно привлекать кредиты и напривлекал их на кругленькую суммочку – Эмиль сболтнул ей нехотя, что примерно, ну ты знаешь, лапочка, я не считал… на триста миллионов долларов… – и, собака, подложные документы при этом использовал!.. и вот он, Эмиль, решил его пошерстить как следует и с должности сместил, ведь он еще, молодец среди овец, хитрюга и ворюга, умудрился на личные свои нужды просадить десяточек казенных лимонов!..
“А какие такие нужды у молодого человека?..” – якобы наивно, красясь перед зеркалом к приему гостей, спросила Лора. “А такие!.. – огрызнулся Эмиль, утягивая на толстой короткой шее яркий, как красная фара, галстук. – Эти провинциалы, выдвиженцы проклятые!.. Выгрызть себе подземный ход до самого Кремля готовы!.. Грузы возил из Нижнего в Москву, какие хотел, шестикомнатную квартиру в Москве купил, на Якиманке, вбухал в евроремонт наши баксы, в Штаты летал сколько угодно раз за семьей – они у него отчего-то там ошивались, ну да, там неслабо, то в Йорке тусуются, то во Флориде на песочке балдеют, – офис отделал, как дворец китайского императора… у, стервь!..”
Говоря “наши баксы”, Дьяконов подразумевал – “мои баксы”. Лора повернула от зеркала наполовину накрашенное лицо. Ненакрашенный глаз глядел тускло, сонно. Она ничуть не выспалась. Едва уснула – позвонила красавица Инга. Сама. И Лора встряхнулась, как птица, сделала бодряцкий голосок, ибо от веселости и очаровательности ее соблазняющего тона, от живости рассказа зависело, клюнет Инга или не клюнет. Клюнула!
“Дерись, муженек, бесстрашно, вздувай бицепсы!.. С ними, с молодыми, надо только так!.. Все равно мы – их – обставим!..” – проворковала Лора, целуя мужа в висок. Эмиль, ругаясь, исчез. Митя шумел водою в душе. Лора представила себе голого, под струями душа, высокого, худощавого Митю. Он должен быть мужик что надо. Она видит сквозь одежду.
Стол в гостиной был накрыт не Лорой – расторопными горничными. Лора распоряжалась, указывала, придирчиво щурилась, поправляла, среди салфеток, ножи фамильного серебра и вазочки с конфетами.
Две горничных, перемигиваясь, ловко расставляли по столу тарелки, салатницы, блюдечки с икрой, графины. Сделав дело и получив из рук хозяйки почасовую оплату в баксах, девушки книксанули и удалились. Так, хорошо, сейчас они придут. Две девочки. Две классных ресторанных халды блестящего, не подкопаешься, пошиба – Инга и Регина. Регина и Инга. Ах, как обрадовалась Инга, когда Лора мяукала с ней по телефону! “У девочки сейчас точно затишье, гранд-пауза, точно никого нет на горизонте третьи сутки, – озорно-ласково думала Лора, поправляя перед зеркалом круто завитую на раскаленные щипцы седую прядь, – она обрадовалась, как борзая, которой подкинули живого зайца и завопили: ату его!.. Ату Митю, Инга!.. А с ним, с родненьким, я уже поговорила…”
Да, с Сынком она уже поговорила. После того, как он, отряхиваясь, поднимая вокруг патлатой головы тучу брызг, вылез, как мокрый кот, из душа. Мальчик тоже клюнул. У него заблестели глазки. Когда глазки блестят – это хороший симптом. Лора без обиняков выложила все про условия.
Мальчик не застеснялся, не стушевался. Он оказался умницей.
Он сунул лапку в карман белоснежной – и кто ж это так тщательно стирает ему рубашки?.. – выходной рубахи, вытянул пять бумажек по сто долларов. “Это за вечер с ней, – просто сказал он. – Я хочу ее видеть. Если она такая, как вы говорите, Лора, я в долгу не останусь”. Экий ты славный, Сынок, подумала она снисходительно, и глаза ее, увлажнившись от умиленья, замаслились.
Темно-синие, в стальной отлив, с лунной поволокой, загадочные глаза Лоры. Эмиль женился на ней, как она признавался позже сто раз, именно из-за этих боттичеллиевских таинственных глаз в сочетании со странной сединой, что убелила голову Лоры еще смолоду.
Звонок! Это они!
– О, проходите, проходите, гостьюшки дорогие! – Лорин звонкий веселый голос перекрывал птичий щебет девушек в прихожей. – Мы уж заждались!.. Регина, какие потрясающие серьги, это подарок?.. купила?!.. но ведь это же…
– Да, да, совершенно верно, это скифское золото, музейная вещь!.. Их носила какая-нибудь… Табити-Змееногая… прямо из кургана!..
Девочки появились на пороге. Митя встал со стула, облаченного в чехол. Он отдал пятьсот баксок из вонючей тысячи Лангусты только за то, чтобы увидеть красавицу, одну из двух красавиц, приглашенных оборотистой и хитрой мамочкой Лорой нынче на ужин. И он ее увидел. И он заставил себя плотней примкнуть отваливающуюся от восторга нижнюю челюсть к верхней.
– Садитесь, дорогие мои!.. – Лора пела, как в опере. – Коньячку с мороза!.. Мужа дома нет, есть три грации и художник… Сынок, тебе пища для размышленья! Нарисуй нас как-нибудь , а?.. в свободное от работы время…
Митя глядел неотрывно на ту красотку, что села напротив него, визави, и тоже не сводила с него глаз. Ах, черт, черт. Зачем ты в маске, девочка. Что за маскарад. Это все карнавальные выдумки Лоры. Та, другая, выставляет напоказ свое личико, и, надо признаться, оно миленькое у нее. Длинные реснички, она ими хлопает, как заводная кукла; прозрачные серые глазенки, пухлый розовый ротик – ну, Буше, где ты там, перевернись в гробу, восстань и с ходу напиши девочкин портрет, и тебя купит сам король Людовик Шестнадцатый, жаль, башки у него давно уж нет, да и доктор Гильотен в земле сырой. А эта… Та, которую Лора так интимно, так по-домашнему именует – Инуля…
– Инуля, тебе что положить?.. Икорочки?..
– Ах, Лоретта, как можно меньше вниманья мне!.. Я только с банкета… нас укормили… вот от кофе и от соков я бы не отказалась… Люблю апельсиновый… можно и грейпфрут…
Сказала – и остро, пронзительно сверкнула глазами из-под маски на Митю.
Он смотрел, смотрел. А что ему еще оставалось делать! Говорить с дамами он не умел. В голову с похмелья не лезло ничего, кроме затертого банала – “вы прелестны, как никто”, “мы с вами где-то встречались”. Легкий холодок страха нежной кисточкой мазнул ему по спине, по хребту. Какая тщательная маскировка, при всем при том, что красоту Инги невозможно было скрыть, разве что под противогазом.
Волосы, судя по всему, густые и длинные, были забраны в пучок и убраны, закутаны в цветной атласный пестрый платок, закрученный и завязанный сзади бантом; одна вьющаяся прядь, отливающая в рыжину, выбивалась из-под платка, скользила, как темный ручей, вдоль шеи.
Маска, сшитая из темно-зеленого мягкого бархата, прикрывала половину лица Инги, и яркие алые, не знакомые с помадой губы под маской смеялись. Смеялись и глаза в прорези маски. Митя, всмотревшись, ахнул. Ярко-зеленые, переливающиеся влагой, обольщеньем, сияющим торжеством, две крыжовничины, две зеленых виноградины. Мало ли у кого бываю зеленые глаза, Митя. На свете очень много красивых девушек с зелеными глазами. Это ничего не значит.
Почему она в маске, Митя?! Почему она в маске?!
Застольная беседа. Для кого-то это легкий жанр. Митька, осваивай. Тебе не раз еще придется… Он, улыбаясь, протягивая зеленоглазке вазочку с мороженым, как бы случайно наступил под столом ногой ей на ногу. Старинный запрещенный прием. Бабы всегда его хорошо понимают.
Инга выдернула ногу из-под его настойчивой ноги. Ее алые губы раздвинулись в улыбке шире. Она была невозмутима. Она незначаще болтала, она искусно притворялась ничего-не-понимающей, приятно-проводящей-время-спасибо-уже-поздно. Пора идти. Региночка, нам пора!.. Мамочки нас по головкам не погладят. У девочек есть строгие мамочки?.. О да, есть! И они за нами следят!.. А у этих мамочек… случайно не усики над губкой растут?..
Лора видела, как томится и изнемогает Митя. Инга, стервоза, милым смешливым политесным равнодушьем довела его до белого каленья. То не глядела на него, попивая кофе и болтая о женских пустяках с ней и с кошечкой Региной, и он сводил дергающиеся брови, то, будто невзначай, касалась рукой его руки: подайте мне, Митя, вазочку с изюмом!.. люблю грызть изюм… – и он млел от незаслуженной награды.
Э, Сынок, да и у тебя давно женщины нет. Разве только Пашкины проститутки… в их массажных притонах, в их замусоленных записных книжках: девочка по вызову…
– Митя, – сказала Инга, осторожно наклоняясь к нему, как если б он был стеклянный, и бережно беря его за руку, за пальцы, – Митенька, я так рада, что познакомилась с вами. Давайте дружить. – В ее устах это прозвучало как: “Я хочу тебя как можно скорее.” – Я чувствую, что мы с вами родные души. – А это прозвенело в пахнущем кофе воздухе похоже на: “Но я не дам тебе так сразу”. – Митенька, а вы и правда художник?..
Последний вопрос звучал ответом. Зеленым взглядом из-под бархатной маски она выговорила ему ясно: “Я и так это знаю”.
– Ну да, балуюсь иногда, – засмущался Митя. Тут же нагло вскинул голову. – Неужели по прическе не видно? У меня длинные волосы, как у Рафаэля. И я, как Рафаэль, умру от горячки.
– Моцарт тоже умер от горячки, и его похоронили в могиле для бедняков, – сказала Инга весело и пригубила кофе. – Его зашили в мешок, посыпали известью и кинули в общую могилу. Я была в Вене и пыталась найти его могилу. Бесполезно.
Лора, насмешливо блестя серо-синими глазами, закурила. Дым обволок ее призрачной живой сединой.
– Могилу… Зачем живому, живущему искать могилу?.. Думать о мертвецах?.. Мертвецы – это мертвецы, а мы – это мы! Две разных цивилизации! И не надо о них!..
– Даже молиться?.. – вздернула пухлыми плечиками Регина. Выставила из-под ультракороткой юбчонки маленькую аппетитную ножку в ажурном черном чулке. У тех, в сауне, проституток тоже было черное белье и черные ажурные чулки, вспомнил Митя.
– Ишь ты, умоленная!.. – пыхнула ей дымом в лицо Лора. – Сначала в ресторанах покутишь, а потом в церковь бежишь молиться?!.. Не согрешишь – не покаешься, так, что ли?..
Они с Лорой затеяли странный, для эдаких циничных дам полусвета, как они, в двенадцатом часу ночи, замысловатый богословский спор, переместились на диван; Регина разлеглась на мягком диване, как настоящая кошка, замурлыкала. Какие натасканные во всех областях духа эти роскошные столичные ресторанные оторвы. Веровать, верить, во что верить, зачем верить…
Митя, не отрывая глаз от Инги, встал из-за стола. Она встала тоже. Они стояли друг против друга, и он чувствовал дикий жар, исходивший от ее грудей под платьем, от ее тела, от ее расставленных под юбкой ног; она закинула руку за голову, и он захмелел от запаха ее пота, что прошиб, перекрыл все импортные парфюмы, впитанные ее нежной бархатистой розовой кожей.
Мадам Канда была смуглая… Эта – белокурая, может, светлая шатенка, он не видит ее волос, коса надежно упрятана… О, она не красит губы – когда они будут прощаться, уславливаясь о встрече, он поцелует ее… Поцелуй за пятьсот баксов – как это романтично, черт возьми!..
– Черт непременно тебя возьмет, Митя, ты уж не беспокойся.
Кто это сказал?.. Она?.. Вошедший Эмиль?.. Подшутивший над ним Пашка, вышедший из-за гардины?.. Они с Ингой стояли в прихожей одни. Никого не было.
– Снимите маску, – сказал он глухо и приблизился к ней.
А может, он сдернет с нее маску, а там… лицо дурочки Хендрикье. И в волосах, под платком, – жареная камбала. Или она снимет медленно маску сама, а под ней – страшный, адский лик, один из тех, что приходил в пустыне к святому Антонию и пугал его. Он не святой Антоний. Он никогда не будет живописать ужасы. Он будет писать лишь красоту. Он любит красоту. Красоту, богатство, покой, довольство, наслажденье. А игра? Что ж, поиграть надо, это полезно для здоровья. Иначе можно закиснуть. А он не кислое молоко. Он еще молодой и сильный зверь. Он еще невыносимо хочет эту красивую девушку под маской. И он заплатит и Лоре, и ей, и самому Господу Богу за то, чтобы…
– Я не сниму маску, – улыбнулась она. Зубы влажно, соблазнительно блеснули. Розовый кончик языка показался между ними. – Я не собираюсь этого делать по вашему приказу. Я сделаю это, когда будет надо.
– Тогда расстегните платье, – сказал он так же тихо и хрипло и сделал еще шаг к ней. – Я хочу поцеловать вашу грудь.
Она, все так же улыбаясь, расстегнула один крючок, другой. На ней не было ни лифчика, ни комбинации. Груди, наливные, как яблоки, с торчащими, пылко воздетыми сосками вырвались наружу. Темные соски глядели, как глаза. Митя наклонил лицо. В глазах у него темнело, ноздри ловили пряный, пустынно-жаркий запах умащенной кожи. Когда он коснулся губами ее груди, она негромко засмеялась.
Мадам Канда стонала, когда он только касался ее, а эта – смеется. Но Боже, какой волнующий, какой пряный и терпкий смех. Это смех Астарты. Это смех Женщины, что от века, от сотворенья мира жила на земле. Он нашел губами ее сосок, вобрал в рот, втянул, стал ласкать языком, нежно покусывать. Его ладонь легла на ее вспотевшую под тонкой тафтовой тканью спину.
Когда он хотел оторвать лицо от ее груди, теряя сознанье, заводясь, тычась в нее отверделыми чреслами, как умалишенный, она властно притиснула его голову снова к себе.
– Целуй еще. Мне понравилось.
“Ты тоже заплатила за меня деньги”, – изнемогая под тяжестью собственной страсти, догадливо подумал он.
Регина наконец оторвалась от болтовни с великосветской Лорой. Инга так и не сняла маску. Надевая зимнюю пуховую шляпу с загнутыми полями, она по-прежнему завлекательно улыбалась Мите ярко-алыми губами. Он удостоился чести поцеловать ее грудь – сначала одну, затем другую. Он целовал ее грудь до умопомраченья. Паркетный пол в квартире Дьяконовых уходил у него из-под ног. Губы она так и не протянула ему.
Теперь он спать не будет. Будет вертеться, вздыхать, мечтать о ее губах, о ее потном бешеном животе. О ее теплой, белой, розовой, как раскрывающаяся речная лилия поутру, роскошной плоти, полной соблазна. Она делала все верно. Обученная. Прожженная.
Он оставил ей свой адрес, телефон. Она не оставила ему ничего. “Так будет лучше, – улыбнулась. – Я не люблю трезвона. Я не люблю, когда мне мешают. Я люблю дома отдыхать. Мой дом – моя крепость.” Он согласно кивнул. Почему бы девочке не иметь прихоти. И вполне резонные.
Девушки исчезли. Пашка не появлялся. Ясно было – он застрял в казино. А, собственно, почему в казино? Почему у Пашки не могло быть личной жизни…
Митя натянуто молчал. Лора курила сигареты одну за другой, нервно ссыпая пепел во все, что угодно – в пепельницы, в шкатулки, в ракушки, в хрустальные вазы, где лежали конфеты, в кофейные блюдечки. Она заметно нервничала. Ах, нервы, женские нервы. Вон у них в коммуналке в Столешниковом, у Соньки-с-протезом, у старой Мары, у бессловесной дурочки Хендрикье – никаких таких нервов не было. Просто не водилось. А эти светские львицы, тигрицы… до чего нежны, обратно их надо, в пустыню, под палящее солнце…
– Идем со мной в мою спальню, Митя. Посиди со мной… – она затянулась, выдохнула дым, – Сынок. Что-то мне опять не спится. Хоть китайский чай я сегодня не пила.
“Ты же весь заведен, взведен, как курок, мальчишка, иди ко мне, и я тебя возьму. Я возьму тебя голого и с потрохами. Я возьму тебя и все твои тайны с тобой впридачу.”
– Только недолго, Лора. Я, в отличие от вас, что-то вдруг захотел спать.
“Да, я весь на взводе, я весь горю, пылаю, плыву, теку, весь содрогаюсь в спазмах ужаса и взрываюсь, как снаряд, слепну от нестерпимого света, но я хочу спать один, я все равно не буду спать с тобой, потому что ты жена Дьяконова, потому что я записал его в отцы, потому что ты вроде как моя мать, и это почти кровосмешенье, смешное, нелепое, светское, условное, гадкое, неизбежное”.
– Ты расскажешь мне, Сынок, о себе. Я ведь хоть и твоя мама, а не знаю о тебе ничего.
“Чем больше я выужу из тебя, тем будет лучше для меня. Я буду знать, как действовать с тобой. Любишь ты помедленнее или погорячее. Я возьму тебя тепленького. Я не имею в виду твой драгоценный золотой кол. Твою коновязь, вокруг которой ходили многие стреноженные дуры-лошадки. И еще будут ходить полжизни. Мне твой лом не нужен. Мне нужна твоя собственность, твое второе “я” – я же прекрасно вижу, что ты Собственник, – чтобы она могла перекочевать ко мне, стать моей. И только моей. Я научу тебя, как жить. Я проучу тебя. Я вышколю тебя. И ты так же будешь делать с другими”.
– Что смогу, то расскажу, матушка. Я не красноречив.
“А вот это правда. Не тяни из меня сведенья. Дай мне лучше пару, тройку хороших крепких сигарет. Не твоих вшивых, дамских, с тошнотворным запахом мяты”.
Они встали и прошли в спальню Лоры. На полке близ зеркала валялись пачки “Кэмела” и “Данхилла”, раскрытая коробка гаванских толстых сигар. Она села на кровать, на атласное одеяло. Не успел он оглянуться, как она привлекла его к себе.
Отбиваться было глупо. К тому же он весь горел от недавнего прикосновенья к нежной груди, к вызывающе торчащим соскам Инги. Лора сама стащила с него костюмные штаны. Когда он торопливо, без долгих обрядов, вошел в нее и грубо забился в ней, подвывая и хохоча от неимоверного облегченья, он со смехом подумал о том, что вот скрипуче откроется дверь, и в спальню войдет изумленный Эмиль. Ну и что, будто впервые он эту мизансцену увидит. Эта седая собачка брала след многих. Это многих славный путь, ну, и его тоже, Господи, прости.
Это был сон. Ну конечно, это был сон.
Всего лишь сон, а как же иначе.
Он шел, раскинув руки, балансируя, по парапету. Внизу бурлила река. В реке вода была зеленая, зеленая, яркая на солнце, как глаза Инги под маской, как глаза той сумасшедшей женщины с Арбата. Почему-то ему во сне было ясно, непреложно и бесповоротно, что эта зеленоглазая река – Сена, а парапет – парижский, хоть он ни разу не был в Париже. Никогда я не был на Босфоре, Дарданеллов я не проплывал.
Он шел, скользя, чуть не падая – парапет был мокрый, в Париже только что прошел дождь, а ему надо было обязательно пройти вот так, ведь он поспорил, он шел на спор, он поспорил с одним дураком, что девушка, что сейчас глядит во все глаза на его цирковой бесплатный номер, все равно будет его. “Она все равно будет моей!” – крикнул он этому французскому остолопу; а остолоп отвечает ему на чистом русском языке: “Ах ты сука, ты еще ответишь, я тебя убью, я вызываю тебя, ведь она – моя жена, ты, гад!”
И он, дойдя до конца парапета, хочет прыгнуть вниз, на асфальт, но этот идиот внезапно выхватывает из кармана револьвер и стреляет в него, – и, чтобы пуля не разнесла к чертовой матери ему грудь, он прыгает с парапета в струящиеся, холодные, ярко-зеленые солнечные воды. И плывет, резко выгребая, взмахивая руками. Ему надо переплыть на другой берег. Ему надо доплыть.
Оглянулся. Ба! Та, что все равно будет его, плывет за ним, вместе с ним! “Вернись, дурочка, утонешь!..” – кричит он, и ему в рот вливается грязная вода. Вблизи вода не изумрудная, а грязная, нефтяная, мутная, мусорная. И по воде плывут красные, розовые круги. Кровь. Кого убили?! А черт знает кого!
Он оборачивается. Она тонет, хватая воздух ртом, выбрасывая из воды бледные, изящные французские руки. И кричит что-то по-французски. Что-то вроде: “Не забывай!.. Никогда не забывай!.. Я твоя!.. Я люблю!..” У, дура. “Je t’aime” – что толку в этих пустых словах, когда люди умирают, когда люди не могут больше спать друг с другом. Она тонет, и он не может ее спасти.
Он доплывает до берега, а берег – это уже Россия, и дюжие вахлаки, и тупорылые бандиты уже стоят на берегу с распростертыми объятьями, уже, усмехаясь слюнявыми губищами, ждут его. “Где картинка?!” – “Продал”, – отвечает он, дрожа, сам не веря себе. “Врешь, дрянь! – кричит тот, что ближе всех к нему на мокром песке стоит, и замахивается на него рукой, а в кулаке пистолет, и сейчас он рукояткой ему по виску даст, и он свалится на песок, и вона захлестнет его. Хорошо бы – навек. – Врешь как цуцик!.. Ты ее замалевал… ты на ней беззаконный рисунок начертил бессмысленно!.. А мы смоем краску!.. А мы смоем краску, дрянь, твоей же кровью!..”
И он стоит, спокойно подняв лицо, и солнце бьет в его лицо, и тот, главный бандит, тот, что впереди всех, стреляет в него.
И он падает, падает, падает, и летит, и срывается в пропасть, и падает все ниже и ниже; а на его вытянутых руках почему-то – перстни, перстни, перстни, золотые, серебряные, с изумрудами, с сапфирами, с брильянтами, а под его раскинутыми в панике паденья ладонями – золото, золото, золото, купюры, купюры, баксы, фунты, франки, марки, вся разномастная денежная армия людей, выдумавших деньги для непонятного самоудовлетворенья, для тайного нравственного онанизма – чем больше я получу, тем сильней я наслажусь, тем убедительней и важней, и радостней и значимей и счастливей для себя самого стану я в этом мире.
И он летел в кошмарном диком сне, и падал, и хватал скрюченными руками воздух, и орал, орал во всю глотку, ибо он не знал, не умел остановить паденье, – а перед его глазами вставала, будто откуда-то из-под земли, рыжекосая, зеленоглазая нагая блудница; он знал, что она блудница, и он покупал ее, чтобы переспать с ней, а сейчас она вставала из недр тьмы перед ним, как царица, и приближала к нему голые груди, и смеялась, и кричала ему: да, Митя, да, под твоими руками богатство, под твоими руками власть, весь мир под руками твоими, а ты падаешь, и сейчас упадешь и разобьешься, потому что я так хочу! Потому что мне сладко глядеть, как ты падаешь и разбиваешься, и кости твои собирают люди, чтобы похоронить! И не соберут, потому что зимней ночью их сгрызут дикие звери! Падай! Мне не жаль тебя!
“А если я заплачу тебе?!” – закричал он, стараясь перекрыть оглушительный свист ветра в ушах и ужас стремительного паденья.
“Заплатишь?!.. – Хохот рыжекосой блудницы засверкал, заискрился вокруг него тысячью падающих зимних звезд. – Чем ты мне заплатишь?!.. Зелеными баксами?.. Они не нужны мне!.. Я богаче тебя!.. Богаче всех людей, вместе взятых!..”
“Я заплачу тебе… собой!..”
“О, собой!.. Дорого же ты себя ценишь… Кому ты нужен, жалкая человеческая козявка?!.. Цари проходили по лику земли и становились букашками! А ты, дворник… иди скреби свою Петровку!.. Подбей свою широкую лопату жестью!.. Ты думаешь, я баба, и мне нужен ты, мужик?!.. Все мужики мира – мои!.. Мои-и-и-и!..”
“Что тебе надо?!.. все – возьми!..” – крикнул он в последнем исступленье. Земля приближалась. Он кровью чувствовал ее неодолимое притяженье. Только хохот, нескончаемый, заливистый хохот слышал он над собой в вышине, во тьме.
Когда он упал и разбивался, разлетался на тысячу кусков, он понял все. Он понял, что прощенья ему нет. А он, брызгая осколками плоти, красными каплями души, успел простить всем.
Солнце било сквозь шторы. Он проснулся в гостиной. Один. На диване. Одетый.
Кто одел его?.. Лора?.. Горничные?.. Пашка?..
– Ну, вставай, вставай, Сынок. – Ворчливый голос колобка Эмиля покатился к нему сверху, сбоку. – Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Я уже позвонил Венсану в Париж. Он требует обязательно цветную фотографию картины, желательно не одну. И экспертизу Пушкинского музея, заверенную подписями всех главных и печатями и переведенную на французский. Ну, с этим Лорка моя справится как-нибудь, она знает язык в совершенстве. Париж – родной город, ма пароль. У нас же в Париже, кроме друга Венсана, мой родной сын Андрюшка живет. Прямо на Елисейских Полях, между прочим. Женушка у Андрюшки – просто персик, цимес!.. полный отпад… Ну, и картинку переправляем автобусом. Раз в месяц от “Метрополя” автобус в Париж идет. На границе никто особо обыскивать не будет представителя российских спецслужб. Шарман, сюперб, а-а?!.. га-а-а!.. знай наших!..
Эмиль растолкал Митю, хулигански подмигнул ему. Судя по всему, сраженье с нижегородским младореформатором, пролезшим без мыла в мощнейшший энергетический концерн, увенчалось успехом. Он весь дышал, брызгал, лучился успехом, счастливым исходом битвы. Да не битва там была, а бойня. И Эмиль напоминал мясника, наломавшегося над тушей на рыночном распиле.
Митя зевнул, потянулся, привстал. Ночь с Лорой приснилась ему. Разумеется, приснилась. Не будет же он рассказывать свои бредовые сны милому папочке.
Эмиль, выкуривая утреннюю сигарету, выпивая утреннюю чашку кофе, уже видел, рассматривал, осязал картину. “А она на меди?.. А это правда Тенирс?..” – переспрашивал он, как дитя.
Когда он сказал Мите, сколько за нее можно будет выручить на Филипсе, Митя чуть не схватился за сердце. Дурак. Какой же он дурак. Надо было самому ехать в Париж, вести ее под мышкой, любой контрабандой. Да куда ж ему, идиоту, дилетанту! Рубикон перейден. Его Тенирсом занимается сам Дьяконов. Чего ж простому дворнику еще желать.
КРУГ ТРЕТИЙ. РЕВНОСТЬ
Инга и Регина замучали его приглашеньями на званые банкеты, затаскали по ресторанам. Рестораны девочки предпочитали валютные.
Инге нравилось, что все вокруг говорят по-английски, хотя сама она по английски не говорила. Или, может быть, язык она знала, но скромно помалкивала.
Регина вела себя в ресторанах, как счастливое балованное дитя: болтала, смеялась, слизывала с пирожных и тортов сливки и ягоды, обмахивалась веером, курила сигареты одну за другой, отказывалась от одних блюд, заказывала другие.
Мите приходилось ублажать обеих девиц. Инга таскала Регину за собой повсюду, как принцесса – пажа. Зачем она ей была?
Часто Мите хотелось убрать эту живую заслонку, отодвинуть невежливо, а то и выбросить, как скомканную салфетку. Инга ловила его сердитый взгляд, взглядом же останавливала его, проблеснув виноградинами глаз из-под бархатного овала.
Она так и не снимала маски. Маска лишь менялась – Инга надевала то синюю, с золотыми блестками, то ярко-красную, ставившую на белое лицо кровавое пятно, то беспросветно-черную, всю в серебряных звездах.
Карнавал продолжался. Митя уже не спрашивал, когда она ее снимет. Завлекаловка сыпала бенгальским огнем. Инга все еще не отдалась ему – она сознательно, игрово и жестоко отдаляла вожделенный вечер соитья. Она позволяла Мите целовать себя; розовые щеки Инги пахли клубникой, розовые губы раскрывались зовуще, но, когда Митя, возбуждаясь, начинал гулять нетерпеливыми руками по всему ее телу под шелковым платьем, она чинно, как институтка, отстранялась, и изумрудная серьга в ее ухе насмешливо вспыхивала напротив ослепших от поцелуев Митиных глаз.
Он, еще не переспав с ней, содержал ее. Он покупал ей платья и меховые пелеринки для театры у Нины Риччи, жемчужные колье – в ювелирном на Новом Арбате, заказывал оригинальное шматье у Славы Зайцева, у Кати Леонович. Он смотрел на нее как пес, которому вот-вот дадут кость. И точный же расчетец у нее был. Она назначала ему свиданья редко – так редко, чтобы он не успел обозлиться от ожиданья, перегореть и подзабыть ее, а соскучиться в меру, так, чтобы, увидев ее, совсем потерять голову.
И он все же, шутя, играючи, выцыганил у нее номер ее телефона. “Я не буду сильно надоедать, – сказал он ей мирно. – Я буду иногда падать с неба. Золотым дождем. Как Зевс на Данаю”.
Да, любовь тоже была игрой, и Митя это хорошо видел.
По совету папаши Эмиля, которому Митя рассказал все, происшедшее в “Зеленой лампе” – да Пашка, вероятно, давно уже выложил эти кровавые страсти по Лангусте любимому папуле, – Митя не посещал больше казино; Пашка зазывал его туда; Митя отшучивался: “Как-нибудь потом, пока обожду, а то Зяма подстережет меня и выстрелит в меня из-за угла, из-за пальмы. Пусть выберет себе другую мишень”.
Ему было тяжело видеть человека, выманившего у него Царский изумруд.
Время от времени в своей квартире он залезал за сгрудившиеся на полке книги-ужастики, разворачивал наволочку, перебирал, как Гобсек, украшенья и иконки, любовался, усмехался. Ну, дудки, теперь он уже никому не отдаст ни одно из сокровищ. Он или сохранит их для себя, для домашнего музея… а не начать ли ему собирать антиквариат, начало положено – краденый Тенирс, Царские подарки старухи Голицыной, – или выгодно, сногсшибательно выгодно продаст, и, скорей всего, не здесь. За границей. Разумеется.
Он уже кое-что знал про аукционы. Он разнюхал, что в Центральном доме художника на Крымском Валу находится галерея старинной живописи и антикварных вещей, знаменитая “Альфа-Арт”, приехал туда, выманил у худенькой манерной, как придворная дама эпохи рококо, пышноволосой экспертши толстенные тома каталогов Филипса и Кристи и еще одного мощного аукциона в Амстердаме, зарылся в фолианты, а вынырнул оттуда с четкими сведеньями о подлинной стоимости живописной работы на меди, у него в высотке на площади Восстанья хранящейся.
Его Тенирс – а Тенирсов, как он выяснил, было два, старший и младший, отец и сын, а может, два брата, а еще лучше – два однофамильца, – был гораздо знаменитее, а соответственно, неизмеримо дороже собрата. Такая маленькая медная дощечка, искусно выпачканная кучкой кисточек, зажатых в кулаке мастера, по особым рецептам выделанным голландским маслом, – а ведь масляную краску изобрели именно в Голландии за триста лет до Тенирса, и изобрел ее Ян ван Эйк, – на Кристи стоила до тридцати миллионов долларов, на Филипсе – немногим меньше.
Если б он не убил Анну и она увезла бы картину в Японию или в Америку, она могла бы на ней сильно подзаработать, считая ее дешевой московской покупкой. Миллион! Зато, плевать на все, у него есть миллион. Правда, уже распотрошенный чуть-чуть. Но это мертвому припарки.
Он пошерстил еще свой счет, купив вместо японской “мазды” – правильно Бог отнял у него машину, а то бы она вечно напоминала ему о Японии, об Анне – красивый белый “форд”, недорогой, но верткий и юркий, удобный и красивый. Зачем ему суперавто? Все должно быть утилитарным. Но долгим завистливым взглядом он провожал роскошные “шевроле” и аристократические “феррари”, скользящие по широким и узким кривым улицам Москвы, как раньше, при Калите и Годунове, разодетые боярыни скользили по московским снегам среди нищих, клянчивших милостыньку, и юродивых Христа ради.
Ресторанные посиделки с Ингой и Региной продолжались, и Митя приустал уже от дамского общества – он всегда жил бок о бок с мужиками, и попасть в такой щебечущий бесконечно цветник – Лора, Инга, Регина, их подруги, то и дело устраивавшие салонные балы, приемы, вечеринки, дни рожденья и дни ангела, – значило крупно отвлекаться от настоящих, мужских дел и поступков, которые он призван был совершить. А что он мог такого могучего сделать, мужского?
Он вперся, как таран, в мафиозный мир, и для него было важным, безотложным – продвинуться вперед в мире денег. Он ничего не соображал в деньгах, цифрах, счетах. Он попросил Эмиля: научи. Эмиль отмахнулся: Лора научит, попроси ее. Он попросил. Она повела плечиком под атласным халатом: каждый урок программы “Инфобухгалтер” на компьютере – одна ночь со мной. Она так прямо ему и сказала, глядя в глаза. Он наклонил голову, прижал руку ко рту. Его чуть не вытошнило при одном воспоминании об ее остром запахе, так не похожем на свежий и тонкий ландышевый запах Инги.
Дело было слажено, в отсутствие Эмиля и Пашки он спал с Лорой, успокаивая вздрюченную Ингой плоть и встопорщенные нервы, а Лора вознаграждала его, ковыряясь с ним в компьютерных бухгалтерских программах, накинув на голое, неостывшее после бешеной постели увядающее тело атласный красный халат.
Митя начал кумекать кое-что. Он стал разбираться в индексе потребительских цен, в колебаньях курса доллара, в стоимостях государственных бумаг, он уже знал, кто по-настоящему правит рынком, а кто только притворяется, что стоит у кормила власти; он фиксировал котировки Центрального банка, он уже знал, в чем смысл иностранных инвестиций.
Он смотрел в рот Лоры, полный прелестных вставных американских зубов, и запоминал все хорошо и напрочь, ибо память у него была свежая и молодая, а то и записывал в маленькие стильные записные книжечки, которыми снабжал его Эмиль, вполне по-отцовски заботясь о его мелочах и аксессуарах.
Знал ли Эмиль о том, что Митя – Лорино развлеченье? А если б знал – что бы было?.. Закатил сцену?.. Посмеялся от души?.. Эмиль слишком хорошо, вдоль и поперек, знал свою жену. И ему нравилось все, что она делает. По крайней мере то, что было ему известно.
А тем временем война на Кавказе шла и шла, и зимняя кампания разгоралась, и генералы, самые маститые, вели войска на Грозный, пытаясь уничтожить боевиков, а боевики сражались так, будто целый народ, разницы никакой не было. Выстрелы и взрывы гремели там, в горах, а в Москве и других городах России гремели другие взрывы – один за другим взлетали на воздух дома, и на третий день, с воплями и рыданьями, хоронили мирных жителей, возлагали, всхлипывая, венки на могилы маленьких детей и любимых стариков, спокойно спавших, когда взрывы уносили жизни – дома террористы взрывали глубокой ночью либо под утро, чтобы убить наверняка – ведь ночью все отдыхали у себя дома.
Митя, разворачивая по утрам газеты, купленные в киоске на Красной Пресне, окунался в известия – крупным черным шрифтом, в траурной рамке: СНОВА ВЗОРВАН ДОМ В МОСКВЕ. Улица академика Ферсмана… улица Губкина… улица Перерва…
Террористы не дремали. Митю страх не охватывал. Ну да, и его высотку могли взорвать, и под его дом могли подложить… что они там подкладывают?.. тротил, термояд?.. о, всего лишь гексоген…
Гексоген производили на закрытых военных заводах России. Какое он имел отношение к Чечне? И откуда ребята-боевики брали оружие? Тайна сия велика была.
Помогал ли им преступный мир, русские продажные спецслужбы, профессоналы международной торговли оружием или иная мафия – Митя не знал, так же, как не ведали этого тысячи, миллионы россиян.
Он пожимал плечами. Война! Она идет всегда. Она все никак не кончится. Она не кончится никогда. Лишь прервется на миг. И обрушится на землю опять, как черный снег. И черной метелью заметет все живое.
Метелью денег, Митя, не забудь, метелью денег. Ты же прекрасно понимаешь, уже поднаторев в изучении денежных операций, как и каким способом можно нажиться на войне, на любой – от вшиво-локальной до катастрофно-мировой. Люди, что развяжут Третью Мировую, ни перед чем не остановятся, чтобы чертовски заработать на ней, даже перед ядерной зимой. Да и во всех ужастиках все равно лицемерно написано про спасительные бункеры, где главари отсидятся до наступленья последнего пепельного мира.
Иногда перед Митей брезжил призрачный холст, картина, которую он мог бы написать. Горсть пепла, выженная земля, руины; в пепле, посреди холста, валяется на камнях, ярко горит зелено-золотым светом золотое, с хризолитами, колье Великой Княжны Татьяны Николаевны. И все. Ни зверя, ни человечка, ни сожженного взрывом танка. Только ветер, излучающий смертоносные бэры, ветер свистит вокруг.
Митя думать не думал, что нос к носу столкнется с людьми, страстно и молитвенно, с истовостью мусульманина, творящего намаз, приближающими этот час пепла и пустого ветра, дующего в душу.
Инга назначила ему встречу в ресторане гостиницы “Интурист”. “Ты будешь наконец одна… или опять с Региной?..” – не выдержав снова грозящего ему созерцанья хорошенькой и надоедливой спутницы, спросил Митя. Ему плохо удалось скрыть раздражение в голосе. “Если тебе неприятно видеть нас вместе с подругой, мы можем вообще не видеться”. Ухо Мити не обманули веселость и тихий смешок. “Нет, нет, что ты, я буду ждать тебя… во сколько ты освободишься?..”
Он пришел в “Интурист” в восемь вечера. Все глаза проглядел, стоя в холле, рядом с входом в ресторан, переминаясь на темном сукне ковра, бесцельно слоняясь мимо газетных автоматов и стойки администратора.
Инга не пришла. Что-то случилось?
Его впервые в жизни охватил беспричинный, дикий, лютый, как сибирский мороз, страх. Ему захотелось вернуться в дом на слом в Столешниковом, броситься в каморку к дурочке Хендрикье, забыться у нее под мышкой, погрызть ее жареную вонючую рыбу.
Ему захотелось спокойного нищего прошлого.
Неведомое предчувствие грядущего ужаса сжало его уже подзакалившееся в ненавязчивом цинизме сердце могучей мускулистой ручищей в черной кожаной перчатке. Где она?! Ее убили!
Первая, погибельная мысль. Он закинул руки за спину. Не поддаваться истерике. На него из зеркала глянуло бледное, гладко выбритое лицо. Эка он побледнел. Длинных богемных волос уже не наблюдалось. Он коротко, модно постригся. Он стал похож не на художника, а на всех этих молодых людей с белозубой улыбкой, в моднючих смокингах, с кейсами в руках, с невидимым “ТТ” в заднем кармане. Да, он стал как все. Он не должен был отличаться от всех. И все же он отличался.
У него взгляд был сумасшедший. Да, да, сумасшедший, бешеный. Знавший то, чего не знал никто вокруг. Может быть, он обладал… способностями?!.. Чушь, Митька, ты же не Нострадамус. Купи на книжном развале и перечитай его идиотские “Центурии”. Что все в них находят?.. Ну, бред и бред зарифмованный, и все про европейских королей, все про тогдашние войны, про тогдашние сверженья с трона. Вот если б этот бородатый Мишель и вправду об Афганистане или о Чечне написал, Митя бы, может, ему и поверил.
Она не придет, сказал себе Митя угрюмо, а он уже проголодался, свиданье свиданьем, а жратва жратвой, желудок просит своего. Он крупными сердитыми шагами прошествовал за столик, уселся, подозвал официанта.
Официантик, смазливый паренек лет восемнадцати, обернулся к клиентам за столиком напротив, бросил извиняющимся тоном: “О, экскьюз ми, плиз!..” – и наклонился к Мите. С его запястья свисала салфетка. Весь он был чистенький и ухоженный, как новоржденный поросеночек. Такого бы – заливного, с хреном.
– Что желаете?..
– Что-то ведь по-настоящему желаю, – жестко сказал Митя, окидывая поросеночка сверлящим взглядом, – сам я не знаю только, чего. Ну, принесите мясное ассорти… и чего-нибудь попроще, лапоть мяса, ну там антрекот, лангет. И бутылку… хм… красного. “Киндзмараули”.
Любимое вино Лоры. Он наморщил лоб. Пьяным не напьешься, но слегка подзабудешься.
Поросеночек едва успел принести заказ и отскочить от его стола к другому, как он услышал – рядом с собой, сзади себя – хриплое дыханье, странное грубое сопенье. Оглянулся. За его ссутуленной над принесенным ужином спиной стояли четверо. И вид у них был отнюдь не вызывающе-сопливый, как у щенков, играющих в мафиков, у Лангусты, Боба и Пашки. Заросшие черными бородами и бритые морды были учтивы, с виду даже веселы. Только в глаза подошедших к нему людей не надо было смотреть. А он посмотрел. И он увидел.
Странное оцепенение, будто он хлебнул браги или сибирской медовухи, сковало его ноги. Если б ему сейчас крикнули: встань, Дмитрий!.. – он бы не встал со стула.
– Привет, га-спа-дин Морозов, – сказал с явным восточным акцентом чернобородый, по виду – старший из четверых, измеряя Митю взглядом закройщика: сколько одежки и какого качества можно выделать из Митиной дорогой кожи. – Рады видеть вас. Поговорим, если па-зволите.
Митя кивнул. Холод обнял его лоб. Револьвер, когда он, дуралей, купит наконец револьвер!
Чернобородый мужик, высоченный, как он сам, уселся, жестом пригласив остальных сделать то же. Стулья скрипнули. Митя переводил взгляд с лица на лицо. Холодный и колючий венец все сильнее, нестерпимей сдавливал его затылок, лоб, виски, как обручем. Он не мог знать, кто они. Он знал твердо: ему – хана.
– А вы похожи чем-то на волка, га-спа-дин Ма-розов, – чернобородый взял в толстые коричневые пальцы ножку хрупкого ресторанного бокала, – на хорошего, большого, красивого волка. Если бы вы отрастили бороду, мы бы приняли вас за нашего человека, честное слово. Па-смотрим. Если вы будете ха-ра-шо… правильно себя вести, мы, может быть, и примем вас в нашу компанию.
– Что вам угодно? – ледяно спросил Митя. – Для начала представьтесь.
Волк и четыре собаки, окружившие зверя. Да какой он волк. Так, тщедушный волчонок. Он еще не знает, как вести себя в стае. Он еще тычется мордой в замерзшее дерьмо. Он еще громко скулит, подняв морду к звездам, когда все вокруг, прижав уши, молчат.
– К чему лишние церемонии, – внезапно грубо, оскалившись, бросил бородатый. – Эмиль сдал нам тебя. Со всеми потрохами. Мы не шантажисты, да-ра-гой. И не убийцы. – Митя перевел глаза с лица на лицо – у них были морды закоренелых убийц, а руки… Топорные пальцы, цепкие фаланги, запястья в шрамах, кулаки как головы младенцев. – Мы предлагаем тебе отличную сделку. Лучше ты не придумаешь, даже если будешь думать так, что твоя голова задымится. Ты даешь нам свою картинку. Мы сами везем ее на Филипс. Видишь, мы даже тебя не убиваем, мальчик. – Бородатый выдохнул – Откупорь-ка “киндзмараули”, Тимур!.. – Выбритый до лиловой синевы Тимур взял в грубые руки бутылку, чуть не выронил. Щелчком пальцев подозвал официанта, жестом показал: штопор, неучи, бутыльку забыли открыть. – Мы тебя не убиваем и старинную мазню твою не крадем, мы благородные, мы просто помогаем найти тебе хорошего покупателя, а взамен берем из денег, заплаченных за твоего Леонардо, процент, который… – Он взял наполенный Тимуром бокал. Темно-красное вино выплеснулось на белую скатерть, сладко запахло. – …нас устроит.
Митя хранил молчанье. Он вообще был молчун. Он мог не разговаривать со своими дворниками – с Флюром, с Рамилем, с Янданэ – сутками, днями, неделями. Здесь тебе долго молчать не дадут. Эмиль. Папаня. Так вот как все оно обернулось.
– Вы врете, – как можно спокойнее сказал Митя. – Вы все равно меня убьете. Так лучше давайте сразу. – Он знал: сразу не убьют, им прежде всего нужна картина. – А если я…
Ему самому стало странно – как такой простой ход не пришел ему в голову сразу.
– …откуплюсь от вас?!..
Бородатый переглянулся с сообщниками. Зоговорил на своем языке, гортанном, восточном. Спутники слушали не перебивая. Их лица темнели, наливались злой кровью. Потом бритый выдавил по-русски:
– Брехня, Магомед, чем он может откупиться. Если бы она знала, она бы сказала, что у мальчишки есть еще стоющая вещь. У него есть то, что нам надо взять. И немедленно. Скоро начинается аукцион в Париже. Повезем картину посуху. Это же медь. Таможня в Шереметьево не пропустит. А до Парижа на колесах – двое суток пути. У тебя котелок варит?!.. Скорей надо делать дело!
Бородатый выставил вперед ладонью заскорузлую смуглую руку. Другая рука сновала возле рта, мохнатой бороды – с сигаретой.
– Не спеши, Тимур. Я думаю, мы на черном козле по Парижу не проедем, только – на белом коне. На то мы и джигиты. Ты же прекрасно понял, как ловко я перекупил партию взрывчатки с завода и запродал ее Салману и Рустаму. А Салман работает не только на эту раздолбанную Москву. Он работает и на другие регионы тоже. Нам нужны деньги. Нам они нужны всегда и везде. Здесь наметилось крупное, хорошее дело. Неужели мы будем его терять?! Только не нужно торопиться…
Он отвел сигарету от бороды и крупно глотнул из бокала.
– …”ненуно тодопиза”, помнишь японский анекдот?..
Митя сухо кивнул поросеночку-официанту, принесшему на подносе, среди горы чужих заказанных блюд, его мясной лапоть-лангет. Брякнул тарелку перед ним. Унесся на всех парах.
– И чем же ты, мальчик, собираешься от нас ат-купиться?.. наличкой?.. что тоже само по себе неплохо…
Митя отрезал ножом мясо, разжевал его, и, когда глотал, ему показалось, что оно, как кость, встало поперек горла.
– Драгоценностью. Она стоит столько же, сколько картина. Картина дорога мне… – он прокашлялся, – как память. Я с ней не хочу расставаться. Если я буду ее продавать, то как-нибудь уж сам продам. А может, и не продам никогда. – Он врал. Надо было врать как можно правдоподобней. Его голос дрожал и срывался – пусть они понимают это как хотят: как благородное негодованье, как слезную жалость воспоминаний. Как жгучий страх. Умирать не хочется никому. Смотри, Митька, у них ушки на макушке. Они ждут, что ты им сейчас скажешь. Как ты им складно соврешь. Они не верят ни единому слову! – Эта драгоценность… хризолитовое большое бальное колье. Оно из чистого золота, и золота там… о Боже мой, сколько там золота. Золотые виноградные листья, золотые гроздья… ягоды – виноградины – из чистейшего хризолита, это редкий камень, ну, вы знаете… – Говоря о камнях-виноградинах, он вспомнил глаза Инги. И глаза той рыжекосой, что так немыслимо посмеялась над ним на Арбате, на Красной ночной площади. – Эта вещь – из драгоценностей Семьи последнего убитого русского Императора. Колье одно… стоит, думаю, двух таких Тенирсов… Не Леонардо, кстати, вы ошиблись… а Тенирс… тем более, Тенирсов было два, а вы же не знаете, какой – у меня… Может, вас дезинформировали, и у меня хранится тот, другой, за которого и двадцати вшивых штук не дадут… откуда вы знаете…
Он тоже вытащил сигареты, закурил. Отлично, Митька, руки твои не дрожат. Все-таки ты получаешь школу. Скоро ты так вышколишься, что любо-дорого будет поглядеть.
Ах, жаль, Инга не пришла, она бы увидела тебя в деле. Она бы, наконец, влюбилась в тебя, не только ты в нее. Он все больше платил за нее денег Лоре, хотя не так давно Лора дала ему тонкий намек: еще пару тысяч – и она твоя, я ее уломаю, девушку с характером. Он посмотрел в холеное лицо сводни. Чуть не плюнул в него.
А ночью, когда Эмиль укатил к друзьям – сразиться в преферанс, опять вонзался в нее на обитом бархатом диване, на свежевыглаженном кружевном белье.
Бородач докурил первым, замял окурок в пепельнице. Оглядел напарников. Долго не думал. Ему была одна малина – что картинка, что золотишко. В золоте он лучше и больше понимал, чем в странной, никому не нужной, кроме идиотов-коллекционеров, живописи.
– Давай свой выкуп. Идет. Мы согласны. Может, так будет еще проще.
– Только при свидетелях. Причем вооруженных. Я не хочу, чтобы вы меня ухлопали почем зря.
– Давай сейчас. Время не ждет никогда. Едем к тебе. Или в то место, где хранится твоя цацка.
Митя думал мгновенье.
– Хорошо. Едем. Это ко мне домой. Я звоню своему свидетелю, жду его здесь, у “Интуриста”, он приезжает на своей машине, мы все вместе, в двух машинах, едем ко мне. Ваша машина стоит внизу. Мы поднимаемся в мое жилье с моим свидетелем и с вашим человеком. Они оба, вооруженные, ждут меня на лестничной клетке. Я выношу колье. При моем свидетеле передаю его вашему… – он чуть было не сказал: обормоту, – подельнику, он выносит его из дома и передает его вам. Устраивает?..
В черных хищных глазах Бородатого просверкнула искра уваженья к смышленому парню. Он сжал руку в кулак на белой скатери, и коричневая рука напомнила Мите выворотень, выкорчеванный из чернозема доброй мотыгой.
– Недурно придумано. Все разложил по полочкам, старик, па-здра-вляю. Есть только одно “но”. Если твой чертов свидетель вдруг начнет стрелять в моего чи-лавека?.. А?.. И они убьют друг друга, так, невзначай, играясь, а ты подберешь колье – и деру через черный ход?..
– Им смысла нет палить друг в друга, – стараясь оставаться невозмутимым, ответил Митя. – Это бессмысленно во всех отношеньях. Дайте мне, наконец, съесть лангет. И закажите себе что-нибудь. Надо же подкрепиться перед вечерним спектаклем.
Бородатый ожег его откровенно уничтожающим взором. Почесал ногтем заросшую щеку. Подозвал официанта. Пока он, тупо, близоруко уставившись в меню, перечислял поросеночку все, что компания могла бы тут распробовать, Митя пытался прислушаться к тому, о чем говорили за столом спутники Бородатого.
Из обрывочных русских фраз, вставленных ярким серебром в беспросветную витиеватую чернь кавказской речи, он узнал, что разбойного вида мужики занимаются взрывами мирных жителей в городах России и покупкой дорогостоящего разнообразного оружья в городах Азии, Европы и Америки – словом, Зимней войной в Чечне, навязшей у всех в зубах, как острая щепка, расцарапавшая десну и рот до крови.
– Ну что, пошли?.. – После ужина Бородатый вскочил из-за стола, как на пожар. – Мы ждем тебя в машине. Звони своему свидетелю. Жди его. Арриведерчи. Если обманешь или уйдешь – пулю в лоб…
– Да куда он уйдет, Магомед, – перебил его бритый, – разве только вознесется с крыши к небу…
Митя расплатился по счету с розовым поросеночком. Он так и не допил “киндзмараули”. Проклятые мафиози. Проклятые.
Когда он подходил к телефону-автомату в холле, чтобы позвонить Инге – кому ж ему было еще звонить?!.. ну не Лоре же, в конце концов!.. хотя что это за такая “она”, ведь о “ней” же сболтнул один из бандитов, а не об Эмиле!.. – и судорожно искал в кармане карточку, ему пришло в голову, что можно ведь совсем дать деру из этой поганой надоевшей, преступной, жуткой страны России. За кордон. За бугор. С концами. Со всей требухой. В тот же Париж. La duce France. Умотать – и не видеть, не слышать. За те деньги, что еще болтаются у него на счету, словно дерьмо в проруби, за эти сотни тысяч паршивых баксов он с тем же успехом может купить себе квартиру и на Шанз Элизе.
Он не думал, что он дозвонится до Инги.
Он думал, что она развлекается где-нибудь с вечной Региной – уж не лесбиянки ли девочки, подозрительно нежничают!.. – в другом, более веселом месте, не в унылом “Интуристе”. И странно, мелодично, как бой старинных часов, прозвенел в трубке ее голос. Это шутки мембраны. Это тишина звезд, повисшая по обоим концам провода.
– Инга?..
– Дмитрий?..
Почему в ее голосе, нежном и звучном, будто поющем, всегда слышится легкая, обидная насмешка, будто бы перед ней цыпленок, только что вылупившийся из яйца, и он не может склюнуть зернышко, и падает, задрав голые лапки?..
– Инга, я попал в переплет. Помоги мне. Приезжай. Одна подробность. У тебя есть оружие?
Молчанье в трубке. Он воочию видел, как она улыбается.
– Есть.
– Захвати с собой.
– Кого-то надо отстрелять?.. знаешь, Митя, я не киллер…
– Тебе и не надо быть им. Тебе надо немножко, полчаса, побыть свидетелем.
Она звонко, ярко захохотала. Будто в черном смоляном небе разорвался, вспыхнул сумасшедший цветной салют.
– И что я должна свидетельствовать?..
Он отчего-то увствовал – она сама знает, что. У него было чувство, что его просвечивают насквозь. Он сжал трубку в руке. При одной мысли о том, что сегодня, сейчас он ее увидит, у него занялось дыханье.
– Ничего особенного. Я на твоих глазах передам одному подонку одну клевую вещицу, и он от меня отцепится. Не слишком красивая история, прости. Ну, такая обычная история. В Москве такие разборки на каждом шагу. Что, объяснить тебе все в подробностях?..
– Не надо. Я не так глупа. Я приеду к тебе. Куда?..
– К “Интуристу”. Я буду мотаться у входа, за стеклянными дверями. Ты увидишь меня. Мой “форд” на стоянке рядом. Эти бесы ждут меня в машине. Мы поедем с тобой ко мне. Они – за нами. Не бойся ничего. Стрелять они не будут. Вообще никто не будет стрелять. Обычная дипломатическая предосторожность.
– Бесы?.. Так ты сказал?..
Голос Инги снова смешливо дрогнул. Бесы, да, бесы, разве можно иначе назвать людей, что кладут взрывчатку под сонные ночные дома. Кровь, и боль, и визг, и женский плач, и осыпающиеся руины, и стекла, выбитые взрывной волной – как выдавленные глаза. Свобода. Так вот какая она. Зачем только она есть на свете, свобода. А тебе хочется тюремной решетки, Митенька?!.. По централу тоскуешь?!.. Если тебя заловят с пушкой в руках – централ тебе будет обеспечен. Ха! Ты откупишься. Ты богат. Ты откупишься от всего. И от смерти… тоже.
– Сволочи, одним словом. Приезжай, Инга. Ты… – он замолк. Слышал, как бьется под ребрами, как сердце старательно гонит кровь по жилам. – …будешь в маске?.. что ты за венецианка, черт возьми…
– Да, черт, – спокойно сказала она. – Разве тебе не нравится моя очаровательная маска?..
– Черт с тобой. Приезжай хоть в маске, хоть без маски, хоть вываляйся в меду и перьях, но приезжай скорей. Какой у тебя револьвер?..
– “Браунинг”. Новехонький.
– Это дело. Ты разбираешься в оружии?.. Ты мне поможешь купить пушку, о’кей?..
Он, стоя у настенного ободранного телефона, услышал в трубке серебристый смех, будто иней, сверкающий в фонарном свете, вызвездил светлый, голубой норковый мех у горла морозной зимней ночью.
Она приехала моментально, он оглянуться не успел. Обе машины заскользили по черному шоссе вдаль, мимо дико горящих фонарей, мимо исступленно мечущихся реклам. Зачем жизнь?.. Зачем жить?.. Чтобы ошибаться и рисковать; чтобы покупать и откупаться; чтобы обманывать и быть обманутым. А что лучше – обманывать или быть обманутым?.. Хрен редьки не слаще. Эмиль предал его. А кто же такая “она”?.. Та, что знает о картине. Лора?.. Все станет ясно завтра. И завтра же утром он, вместе с советчицей Ингой, купит хорошую пушку – хоть в оружейной лавке, хоть с рук. Девочка шустра неимоверно, она знает продавцов, кто недорого возьмет за хорошее оружие. А что, если… Он, держа руки на руле, чуть не скорчился за рулем от смеха. Что, если он купит револьвер у этих, восточных рахат-лукумов?! То-то они обрадуются! Лишние баксы в карман! Нет, нет, он не хочет иметь с гадами больше никаких дел. Он швырнет им колье – и постарается забыть их, забыть. Так же, как он забыл дворников. Иезавель. Снегура. Анну. Лангусту. Так же, как он забудет… Эмиля?!.. Нет, Папаша вечен. Его Россия не забудет, не то что жалкий Митя Морозов.
Машины проутюжили пространство, остановились у его дома. Черный “мерс” и белый “форд”. Лебедь и ворон. Белые начинают и выигрывают, Митя. Ты же игрок. Так играй блестяще. Твои нюни и сопли никому не нужны. Тем более – Инге. Она должна смотреть на тебя восторженно. Гляди, ее глаза под маской сверкают, как два зеленых кабошона. Как два хризолита на том колье, что ты должен сейчас отдать в чужие грязные руки навсегда.
– Эй, вы там, вылезайте!.. вылезли?.. где твоя квартира, показывай!.. Знаменитый домик у тебя, прямо скажем… Аристократический… Хотя здесь, как и везде в Москве, немало одяшек подзаборных живет… Были бы деньги – все, мальчик, можно купить, и да-рагое и дешевое, вах…
Инга выскочила на снег. Бородач поедал ее глазами. Вот это свидетель! Такую бы – умыкнуть, в мешок и в багажник, и гнать, гнать машину до самого Бреста и дальше, через границу. Ее нежно-зеленая, под цвет глаз, крашеная дубленка мела полами поземку.
Она держала руку в кармане, и Митя понял – “браунинг” там. Ее лицо было радостно как никогда, губы улыбались. Мите казалось – она заводная кукла, она улыбается всегда и хлопает ресничками. И не засыпает, если держать ее все время стоймя.
Бородатый коротко кинул:
– Тимур!.. Ступай с ними!..
Они вошли в роскошный просторный подъезд высотки, отделанный цветным мрамором. Тимур восхищенно огляделся. И мгновенно в его сощуренных черных, как смола, глазах с синими восточными белками появился резкий блеск ненависти. Да, мужик, с каким бы удовольствием ты взорвал и этот домишко!.. Символ величия прежней красной страны – той страны, которой уже нет на карте… Так же, как нет и Империи… Бритый бандит, нагло вытянув из кармана пистолет, направил его на Митю и Ингу. Инга выдернула “браунинг”. Улыбающиеся алые губы не дрогнули.
– Лифт?.. Пешком?..
– Лифт. Последний этаж. Выше только шпиль и небо.
Когда они выскочили из лифта, бритый Тимур процедил, не убирая пистолета:
– Дверь оставьте открытой. И без баловства.
– Какое баловство, ведь двадцатый этаж, – зло бросил Митя, копошась в замке. – Стойте тут!
Инга держала револьвер небрежно, как женскую безделушку, как зеркальце, вытащенное из косметички. Тимур ненавидяще наставил ей дуло в алый смеющийся рот. Митя исчез за приоткрытой дверью. Тимур нахмурил брови. Забеспокоился. Инга насмешливо глядела на него зелеными ягодами глаз из-под серо-голубой, в цвет дубленки, маске.
– Па-слушай, да-рагая, – маслено, вкрадчиво, сладко спел лиловощекий колючий Тимур, задрав вверх, в потолок, дуло пистолета, – а что ты все время в маске?.. У тебя на щеках проказа, что ли?.. Или сифилис?.. Или ты не хочешь, чтобы мужчины тобой любовались?.. сними…
Он протянул руку к маске. Движенье Инги было мгновенным и незаметным. Тимур злобно ворочался, как прибитый медведь, на холодном полу, потирая ушибленный локоть, поднимаясь с трудом. Он ожег Ингу огнем черно-маслянистых глаз, но больше не сунулся.
– Понял, – откровенная злоба зазвенела в его голосе, – все понял. Ты тоже умеешь веселиться. Да я тебе повода не дам. Грусти, букашка. У меня таких, как ты…
Он оборвал себя. Сжал в ушибленной руке пистолет, поморщившись, придвинул дуло к Ингиной груди, к яремной ямке. Она стояла и улыбалась как ни в чем не бывало. Тимура затрясло. Что там так долго делает этот куренок?!
– Поди туда! – крикнул он. – Проследи за ним! Мало ли что… Все равно вам вдвоем с двадцатки не убежать!
Шаги Инги четко и сухо зазвучали, каблучки сапожек застучали по паркету; она вошла в Митину квартиру, она шла к нему, навстречу ему, выставив вперед дуло револьвера, держа в руках оружие, как держат факел в темной и страшной пещере.
А квартира была вся залита светом – Митя включил весь свет, что был в доме, все люстры, все бра и торшеры, настольные лампы. Господи, бывшие хозяева живут во Франции. Почему бы ему тоже там не жить. Никто не будет наставлять на него там новомодные многозарядные пушки. Никто не будет посягать на его священную собственность. Он сам будет распоряжаться ею. И своей жизнью. Которая тоже – его собственность.
А хотел бы он, чтобы Инга стала его собственностью?! Со всеми ее бархатными масками, со всеми ее назойливыми подружками… Да. Да. Тысячу раз да.
Она подошла к нему. Улыбка играла на ее губах. На сей раз – печальная.
– Извини, – попытался отшутиться он. – У меня не хата, а скворешник. Ты видишь, это же седьмое небо. Я же не Дьяконов. И поместий у меня нет пока, и усадьб. Но это ничего не значит, Инга. Я…
У него чуть не сорвалось с губ: “Я делаю тебе предложенье все равно, я измучался, я вожделею тебя, я хочу заплатить за тебя не деньгами, а судьбой, мне надоела вся эта дразнильная тягомотина”, – а вместо этого, доставая с полки наволочку с самоцветами и порывшись в ней, сказал, протягивая Инге тяжелое золотое колье:
– На. Держи. Отдай им. Пусть подавятся.
Инга расстегнула дубленку и заткнула револьвер за корсаж сильно открытого платья. Приняла из рук Мити колье. Ее глаза потемнели. Искры, бешеные, сыплющиеся зернами, как от языков костра в ночи, жадное любопытство, слезный восхищенный блеск, без слов говорящий: это – мое!.. – вот во что превратились ее спокойные зеленые глаза. Как меняет человека вещь, если придется ему по сердцу.
Митя видел превращенье Инги. Он был подавлен. Он стоял у шкафа, у незавязанной наволочки с сокровищами с бессильно опущенными, как плети, руками. Она подняла лицо от колье, поглядела на Митю.
– А мне оно самой нравится. Я бы… и сама не прочь.
О извечная тяга женщины к блестящему и роскошному, о тайная любовь женщины! Мужчины думают – женщины любят их, а женщины любят то, что мужчина может им купить, и это – драгоценность; все ювелиры мира работают на женщин, все убийства мира – из-за горстки блестящих камней, из-за шматка золота, из-за вшивой инкрустации на эфесе сабли… Доколе мир не прейдет… Он смотрел на Ингу, рассматривавшую колье цесаревны Татьяны Николаевны, как зачарованный. Они оба молчали.
– Хорошо, – сказала Инга, и улыбка опять тронула кистью ее веселые алые губы. – Хорошо, я отдам колье. Или… не отдавать?..
Их глаза скрестились, и в один миг он прочитал там все, что должно было произойти сейчас. Он швырнул наволочку с побрякушками на кровать. Инга повернулась, быстро пошла к двери.
Они оба, дрожа, вышли к Тимуру, на лестничную площадку. Тимур затравленно, исподлобья взглянул на них. Пистолет бешено плясал в его руках, будто он сильно замерз здесь, в подъезде, и трясся.
Инга вскинула револьвер. Осечка! Она грубо и резко передернула затвор, опять взбросила руку с “браунингом”. Тимур опередил ее. Митя ощутил сначала горячее и мокрое, липко текущее по руке под курткой, а потом – боль, неистовости которой не было предела. Боль разрасталась и туманила сознание.
Инга выстрелила. Тимур выстрелил тоже. Митя слышал: выстрелы, выстрелы. Он пошатнулся. Боль росла и ширилась. Ему показалось – он закричал. Падая, он ударился головой о стенку. Все померкло перед ним.
Последнее, что он увидел, – мотающееся на весу в крепко зажатом кулаке Инги золотые виноградные тяжелые листья царевниного бедного колье. Детей расстреляли, а колье живо. Где справедливость. Где.
Соседка нашла его перед порогом его квартиры, утром; Митя лежал, уткнувшись головой в коврик для вытиранья ног. На лестнице везде – на ступенях, на перилах, на стенах – светились красным брызги, потеки, лужицы крови.
Соседка заквохтала, как клушка, завсплескивала руками, и Митя вспомнил, как Сонька-с-протезом клекотала на коммунальной кухне, когда кто-нибудь из дворников, отчаянных молодых головорезов, являлся домой после ночной попойки, заканчивавшейся потасовкой, дракой: ах, ах!.. да что ж это, такие приличные ребята и так друг другу морды бьют!.. “А это, Сонечка, русское веселье такое”, – говорил, выплевывая кровь, Гусь Хрустальный, успокаивающе щлепая Соньку по живой-здоровой руке.
– Что ж это!.. Что ж это за безобразие!.. Ах ты, горе-то какое!.. Вас хотели убить, Дмитрий Павлович!..
– Да… может быть, хотели…
“Хотели, хотели. И вот я жив”, – подумал о себе торжественно Митя, а соседка, лопоча, поднимала его, прижимала его окровавленную голову к груди, хватала его за простреленную тяжелую руку, и он стонал и морщился, пытался встать на колено, опять падал на сырой, пахнущий кошками пол подъезда.
– А дверь-то у вас открыта, Дмитрий Павлович!.. А вдруг вас ограбили!.. Ну, давайте, давайте, потихоньку, полегоньку… “скорую” сейчас вызовем… потерпите… потерпите немного… я вам сейчас, пока “неотложка” не приехала, анальгинчику принесу… и йода, рану обработать… а то, не дай Бог, заражение…
Митя, опираясь на плечо квохчущей сердобольной соседки, вполз к себе домой. Ничего в квартире не было тронуто. Свет по-прежнему везде празднично горел. Он горел всю ночь. Утро лило синее вино в узкие окна. Наволочка с побрякушками валялась на кровати. Ее никто не похитил.
Соседка уложила его на кровать, и он прижался щекой к драгоценностям. Раненая рука ныла невыносимо. “Увезут в больницу, – обреченно подумал Митя, – надо бы все хорошенько запрятать…” Соседушка убежала за лекарствами, вызывать врача – он остался один. Он остался один на свете. Опять один. Эмиль предал его. Проклятый Папаня. Он не будет больше никогда ему звонить.
Приехал врач, обработал раны, поцокал языком: да-а, серьезно.
От больницы Митя отказался: нет, спасибо, соседка у меня добрая, она за мной присмотрит, я ей заплачу. И медсестру из поликлиники вызову, тоже за хорошую плату, чтоб уколы делала, какие вы назначите, и повязку поменяла.
Врач пожал плечами. “Как знаете… если не боитесь загноения, гангрены…” – “Ух ты, какие страшные слова, – произнес Митя, улыбаясь через силу, – я сам страшный. Не бойтесь. Я выздоровею быстро. Я кошачий король. У меня не взяли ни одну из моих девяти жизней”. Врач, пыхтя, вкатил ему уколы – в ягодицу, в сгиб худой руки. “Что худой какой, молодой человек?.. Кушать больше надо!.. И все калорийное, калорийное!..” Хорошо, покорно согласился Митя, я попрошу, чтобы соседка купила мне осетрины. Это, что ли, самая калорийная еда на свете?..
Один из уколов, видимо, был снотворным. Митины веки закрывались сами собой. Он закрыл глаза с чувством великого облегченья.
Господи, до чего чуден мир, придуманный Тобой. Вот он лежит в своей квартире в высотке на Восстанья, смотрит на белый солнечный день в узкое стрельчатое окно, благословляет красоту летящего снега, синего неба, и ему не страшно умирать.
Господи, спасибо Тебе, что Ты даешь мне умереть в такой дивный светлый день, в сиянии и торжестве, под воркованье голубей на стрехе, при предчувствии весны, пронизывающим весь широкий воздух. Где Тимур? Где Магомед? А Инга? Их никого нет. они тебе приснились, Митя. Одна смерть, ласково наклонившаяся над тобой, – реальность, и какое счастье, что она так торжественна, проста и празднична. Как все просто, оказывается. И как светло.
Край иконы св. Дмитрия Донского врезался из-под наволочки ему в щеку, когда он уже заснул, провалился в сияющую бездонную пропасть.
Он позвонил Эмилю.
Он нарушил свой зарок.
Эмиль предал его – теперь он предаст Эмиля. Но виду не подаст, как, когда, каким способом. Он лежал, болел, уединился; кавказские разбойники не появлялись – они же не знали номер его квартиры, хотя Тимур вполне, тысячу раз, мог ее запомнить.
И с тем же успехом мог и забыть – перестрелка его с Ингой могла кончиться для него отнюдь не победно. Митя ничего не знал. Не знал, где он, где Инга. Он набирал, днями и ночами напролет, номер Инги. Телефон молчал. Может, утром бомжи, матерясь и крестясь, вытащили из высотки наружу два трупа, испуганно кинули на мостовой, чтоб кто-нибудь сжалился, подобрал.
… … …
Они с Эмилем собирались в славный город Париж. Неопасная рана Мити затянулась без последствий. Они летели не только на аукцион произведений искусства, старого и современного, называемый Филипс, а еще и к старшему сыну Эмиля, знаменитому физику Андрею Дьяконову, молодому гению, чуть постарше Мити, уже сделавшему головокружительную карьеру во Франции: перед Андреем распахнулись двери Сорбонны, его приглашали наперебой Америка и Канада для научных изысканий и смелых опытов; Папаня в науке не смыслил ни шиша, однако всячески поощрял старшего, радовался его успехам, отваливал ему – из необъятного родительского кармана – баснословные суммы на обустройство во Франции. А Андрей в Париже не растерялся.
Видать, все Дьяконовы были не лыком шиты. Андрюшка сам стал лепить, строгать, сколачивать – не кустарно, а мастерски, на русский плотницкий лад – французскую свою карьеру. Отец кричал ему: “Удачная женитьба – уже полдела!.. не бегай на блядскую Пляс Пигаль, не суйся в подвальчики в Латинском квартале!.. гляди на богатых, на знатных девчонок!.. помни: Париж стоит русской грязной вонючей литургии!..” – и он мало того что внимал отцу – накрепко запоминал поученья.
Из сонма изящных отпадных богатеньких француженок, среди которых были девушки – отпрыски старых французских графских и даже королевских родов, из кучки барышень – детишек банкиров, коммерсантов, глав кортелей и синдикатов, гремящих на весь свет, младший Дьяконов выбрал девицу не столь родовитую, сколь обеспеченную – она сидела на денежных мешках, и у нее была собственная, громадная, как дворец, квартира на Елисейских полях из восьми комнат, – и такую красивую, что на нее на улицах оглядывались все мужики – от мала до велика.
Дочь одного воротилы из семейства Рено, Изабель сознавала свою красоту, свое положенье в обществе, но нимало не кичилась этим. Это и было первым чудом.
Вторым чудом было то, что эта фея по уши втрескалась в Андрея, положившего на нее сперва холодный глаз: вот эта краля будет моей!.. – и расчухавшего всю сладость любви лишь потом, когда они уже вовсю продавливали в любовных танцах роскошные диваны в ее апартаментах на Елисейских.
А третьим чудом было то, что они поженились, устроив свадьбу, о которой говорил, шумел, писал весь Париж, где невеста была в платье, купленном прямо из коллекции Коко Шанель, а жених был наряжен в древнерусский костюм, специально сшитый для торжества вездесущим Славой Зайцевым.
Изабель заявила, что она так любит Андрэ, что готова креститься в православие. Французы гомонили вовсю вокруг звездной молодой четы. На лекции Андрея в Сорбонне стекались тучи студентов и тинейджеров, судачащих меж собой: это тот, что был на своем венчании в наряде последнего русского Царя.
Супруги Дьяконовы устраивали на Елисейских Полях приемы не хуже посольских, давали званые обеды. Андрей уже заправски болтал по-французски – бойчей любого тараторки-южанина. Изабель блистала. Она рождена была, чтобы блистать – не яркостью, а нежностью и мягкостью. Более нежной француженки свет не видывал. Светлые, в золотинку, текучие волосы, нежно-серые огромные глаза, улыбка бледно-розового, чуть растрескавшегося, будто от пустынной жары, рта, талия уже, чем у осы, ножка маленькая, как у куколки, нервные хрупкие руки, умеющие так пытать и жечь мужчину медленной нежной лаской – Изабель была воплощеньем грации, хрупкости и самозабвенья, и Андрею часто казалось: сожми он ее в объятьях чуть крепче – она сломается, хрустнет, умрет.
И Митя, вместе с Эмилем, должен быть отправиться в Париж прямо в роскошное логово на Елисейских, прямо в объятья преупевающей парижской пары; Эмиль, рассказывая о делающем карьеру в Париже старшем сыне, сытенько гладил себе животик, жирно блестел усатым круглым лицом, и челка над его лбом весело топорщилась.
Дьяконов гордился Дьяконовым. Яблочко недалеко упало от яблони. То ли еще будет. “Если Андрей научится моим приемам в технике жизни – у него будет успех больший, чем у меня”, – замечал Эмиль, кладя в рот за чаем чайную ложечку варенья из лепестков роз. Митя думал: а разве возможно иметь больший успех?.. В Париж они собирались основательно – продумывали одежду, записывали, что взять из мелочей, покупали подарки Андрею и Изабель – а маленького там пока не намечается?.. нет?.. значит, ползунки не покупать?.. – а что касается картины…
Картину отправляли в Париж с надежным человеком посуху, посыльный должен был доехать сначала поездом до Праги, от Праги – до Парижа – автобусом. Митя замалевал масляный слой легко смывающейся гуашью. Посыльный укладывал медную доску в чемодан с искусно сделанным двойным дном.
Эмиль должен был узнать, кто из знакомых таможенников-поляков дежурит в день приезда посыльного в Брест, чтобы хорошо, щедро подкупить их: он прекрасно знал, как поляки падки на деньги, на любой заработок, на любую, хоть нищую, копейку; а уж когда они увидят баксы, особенно в таком количестве… ребят даже не придется убирать иным, более жестоким способом, чтобы ставить на их место, на время проверки поезда, своих.
Лора молча, выкуривая очередную сигаретку, глядела на предотъездные хлопоты. Хм, действительно… Сынок. И думать не думала она. При мысли о том, что она не увидит любовника месяц-другой, ее нутро сводила судорога досады. А ведь она к нему привыкла. Она не сможет обходиться без него. Любопытно, спят они с Ингой или еще нет?.. Она знала, как Инга любит мучить мужчин. Лора знала об Инге, об ее характере, ухватках, привычках, заморочках все или почти все.
Она только не знала главного – кто такая Инга. Откуда она.
Откуда бы ни была – свой куш Лора от нее всегда получала, и в этот раз уже получила; а этот глупый, но бойкий и хищный волчонок пусть натачивает зубки и коготочки, пусть учится жизни – со всеми бабами, что подсовывает ему судьба.
И с ней, с Лорой, великой!
Лора считала себя великой. Она считала Эмиля изделием своих рук. Она пролетела с картиной, это да, она зря наняла этих чеченских костоломов; кавказские волкодавы не задавили, не загрызли ее хитрого волчонка, и она до сих пор не поняла, почему все так произошло, отчего взявшие след ищейки внезапно потеряли его, сбились, поджали хвосты, ушли в сторону. И никто из четырех не позвонил ей; и Магомед исчез, как сквозь землю провалился.
Неужели Эмиль?.. Нет, он не мог перехватить. Он не знал ничего. Он же не влез бы к ней под черепушку, под густую седину. Значит, мальчик сам справился. Не слабый мальчик. Она ставит ему “пять”. Первую пятерку в зачетке. Но как, как?.. Что толку ломать голову. Картина осталась у него. И они с Эмилем уже отдали ее нарочному, а тот отвезет ее в Париж, даже не подозревая, что у него там, в хитрой кожаной чемоданной складке, так тщательно упакованное, будто для отправки в Космос.
Пашка пропадал где-то днями и ночами. У Пашки была своя загадочная жизнь.
Андрей жил в Париже жизнью некоронованного короля. Если б он взял фамилию жены, он писался бы – Андрей Рено. Красиво.
Андрея Эмилю родила не она. Андрея Эмилю родила какая-то знатная дама, бывшая когда-то, давно, его женой. Или – не бывшая?..
Эмиль сто раз менял паспорт. Он терял его, его у него похищали, он стремился очистить аусвайс от мазни печатей и штемпелей предыдущих браков, чтобы перед следующей охмуряемой избранницей выглядеть чистеньким и благородным; он делал себе новые паспорта, новые прописки, новые корочки и штампы поплевывая в потолок, посвистывая, швыряя на это деньги смеясь, и только детей переносили ему из паспорта в паспорт честно, без купюр.
У Эмиля было шесть детей. Андрея и Пашку Лора знала – слава Богу, собственный сын был знаком ей до косточки и волосочка, – а были еще два сына и две дочери, о которых Лора не имела ни малейшего понятия, кроме того, как их зовут. Имена, отчества и фамилии стояли в графе с пометкой: “ДЕТИ”. Эмиль всех записал на свою фамилию, даже если они, бедняги, и родились вне брака. Все они были Дьяконовы.
В день отлета Лора приготовила Папаше и Сынку, руками горничных, отменный обед, изобретенный ею самой: русские домашние пельмени, русские кулебяки, русские блины с красной икрой, русская медовуха, русская водка – все русское, пусть эта еда напомнит им о том, что они живут в России, чтоб не заслонили им там все парижские прибамбасы русскую крепость и силу.
Она смотрела, сквозь табачный дым, наклонив над тарелкой седую голову, как ее муж и ее любовник жадно, аппетитно едят, ухватывая ложки – а она положила им нарочно хохломские, расписные, – поднимая рюмки и звеня ими, хохоча над будущими неизвестными приключеньями, источая здоровый грубый мужской дух.
Летите, голуби, летите. Она тут без вас не заскучает. Почему молчит Ингин телефон. Укатила на юг?.. На Канары?.. В дурацкую Анталью?..
В Анталье турки стреляют на пляжах в русских, они возненавидели туристов, на песок льется кровь, а многих наших мафиози это-то и привлекает: щекотка нервов, острые ощущения!
Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, Киплинг прав. Как хорошо, что ее мужчины летят все-таки на Запад. Где же Инга с ее вечной, странной склонностью носить маску на людях?.. Лора видела ее без маски. Лора поклялась бы, перекрестилась и побожилась, нимало не веруя в Бога, что более красивой, чем Инга, бабы она не видела никогда в жизни.
В Шереметьево она не поехала их провожать. Зачем? Самолет улетит и без нее. И, если грохнется на посадочную полосу, взорвавшись, то тоже без нее.
Она легонько чмокнула на прощанье Эмиля; поднялась на цыпочки, целуя Митю – седая королева целует своего пажа.
Митя поежился от прикосновенья холодных змеиных губ, чуть подкрашенных перламутром. Отцепил Лорину руку от своего локтя – она больно нажала пальцами на его еще не совсем зажившую рану, нанесенную пулей Тимура.
Когда они сели в машину Эмиля и шофер, дуя на замерзшие руки, бодро воскликнул: “Ну, господа французы, вас прямо к Триумфальной арке подбросить?!..” – он понял, до него дошло, наконец, что он летит в Париж, в настоящий Париж, – и сердце подпрыгнуло в нем высоко, как обломок льда, ударенного наотмашь, расколотого дворницким ломом.
Андрей встретил их в аэропорту “Шарль де Голль” – издалека было видно высокого, не в пример низкорослому папочке, дородного, видного, с лицом тонкой и благородной лепки – ого, породистый!.. – подумал Митя весело, – просто и в то же время изысканно одетого молодого мужчину, что стоял и зазывно махал руками, будто юнга на мостике – морскими флажками, обращая на себя вниманье.
– Эй!.. Э-э-эй, папа!.. Милль дьябль, папа, ты что, ослеп, что ли, как Гомер, окончательно?!.. я здесь, здесь!
Эмиль, подхватив под руку Митю, приблизился к размахивавшему руками рослому красавцу. Красавец грубо и фамильярно притиснул круглую морду Эмиля к своему серому габардиновому плащу, расцеловал его в лысеющую макушку.
– Привет, привет, ну, мы с Изабель уже, к чертовой мамочке, и заволновались!.. Этот твой проклятый самолет опаздывал на час!.. Летайте, граждане хорошие, самолетами “Аэрофлота”!.. Экономьте время, экономьте время!.. – запел он на мотив “Похоронного марша” Шопена. – Ну, как долетели?.. В порядке?.. В пакетики не блевали?.. Стюардесс не обольщали?.. А я тут, в лучших традициях порноромана “Эммануэль”, едва не переспал прямо на виду у всех честных пассажиров с одной хорошенькой мулаткой, я тут по университетским делам в Марокко слетал!.. чуть было не развелся и снова не женился – так хороша!..
И Митя все то время, пока Андрей шел с ними по гулким залам аэропорта, выуживал багаж, расспрашивал Митю, кто он да что да зачем, слушая веселые ответы и ничему не удивляясь – ну, Митя так Митя, ну, названый братец, еще лучше, лучше мальчики, папа, чем девочки, если б ты мне сеструху приволок из Москвы, да еще хорошенькую, я не знаю, что бы тут у нас было, на Елисейских, филиал “Мулен-Руж”?!.. – погружал их в новенький, только с конвейера, “рено” – ну как же, муж урожденной Рено должен, обязан был кататься в фамильной карете!.. – и болтал разные разности про их недавнюю счастливую семейную жизнь, про Париж, про подскочившие цены – не у вас одних, господа, инфляция!.. – все это время, пока они в верткой машинешке ехали в центр, пробираясь по шоссе, шоссейкам, улочкам предместий, выруливая на гладкие, как масло, парижские автострады, весело скалясь ажанам, строго глядящим из-под смешных конфедератских козырьков, Митя думал о том, как хорошо не только деньги иметь, но при этом еще и голову на плечах, как же умен этот молодой жеребец, как он счастлив, как владеет той жизнью, что вручена ему абсолютно случайно – и которой он распоряжается по своему усмотренью, как хочет и как может, и никто не вставляет ему палки в колеса, не кладет под его “рено” бомбу с часовым механизмом.
Андрей выехал на площадь Этуаль.
Митя увидел прямо перед собой, в сером призрачном тумане, Триумфальную арку с распялившей глотку в неистовом крике, обернувшей голову к повстанцам каменной Марианной. Рельеф Рюда основательно изгрыз парижский смог.
Марианна, поющая “Марсельезу”, изрядно почернела. Ее надо было чистить, мыть с мылом. Сауну ей устроить. Потереть губкой ей груди, живот… Машины крутились вокруг Триумфальной арки, как белки в колесе, – и не вырваться. Андрей рассмеялся. Крутанул руль.
– Держитесь крепче, сейчас мы обманем всех! – крикнул он и круто взял влево. Юркий “рено” чуть не сшиб мордатый мощный джип, вывернувшийся из-за поворота. Чудом улизнув из-под носа джипа, Андрей уже несся по Елисейским Полям, лихо, как хулиган-Ванька-извозчик, остановившись около семиэтажного старинного прошловекового дома напротив громадного, светящимися всеми огнями, фирменного магазина “Andre”.
– Заметьте, – пошутил он, – и лавка имени меня уже!.. Все мое собственное… Поступило предложенье: а не переименовать ли Париж в Андриж?!.. а что, тоже красиво…
Они, таща втроем за собой тяжелую московскую поклажу – и к чему они с Эмилем купили столько подарков?!.. что, в Париже нет русских самоваров?!.. или, к примеру, парчовых гардин на окна?!.. или бра в виде свечных шандалов?!.. или, на худой конец, сладостей, да их везде навалом, но вот Эмилю вступило в голову приволочь в Париж торт “Прага”, земляничное варенье из Тарусы, тульские пряники, – Изабель же никогда не видала и не едала тульских пряников!.. мы же из России летим, черт побери!.. – взобрались, наконец, к заветной двери. Андрей, отдуваясь, держа в руках наперевес два чемодана, носом нажал на звонок.
За дверью зашустрили, замельтешили мелкие быстрые шажки.
– Изабель! – загрохотал Андрей. – Это мы! Не копошись! C’est vraiment, ты же знаешь, крошка, я не люблю ждать!.. а ты у меня копуша!..
Дверь распахнулась. Мите в лицо ударил свет из светлого, прелестного личика, из прядей разлетающихся вокруг головы, тонких лучезарных волос. Прозрачные глаза заливали его светом. Он отшатнулся. И от лица открывшей им дверь тоненькой девушки отлила кровь, будто бы она увидела на пороге не живых людей, а привиденья.
– Кэс-кэ-сэ “ко-пу-шья”, Андрэ?!.. я не понимай… говорьи франсэ…
– О, дура моя, дура!.. – Андрей бухнул об пол в прихожей чемоданы отца, обнял девушку и припал к ее губам губами. – О моя прелесть, ромашечка моя!.. Копуша – это, знаешь, самая лучшая женщина в мире, самая красивая и умная… только она немножко медленно двигается!.. Lentemente!..
Он выпустил из объятий жену, ласково подтолкнул ее: иди, хлопочи, накрывай на стол! Сделал широкий жест: проходите, чувствуйте себя как дома…
Митя прошел анфиладой комнат в громадную, как королевская бальная зала, комнату, чуть не поскользнулся на гладком навощенном паркете. В нос ему ударил запах свежей мастики и тонких женских духов.
Он сел в массивное старинное кресло – не из Лувра ли Андрей его стащил?.. – и огляделся. По стенам висели картины. Много картин. Работы старых мастеров. Взгляд художника, острый, наметанный, насмотренный, безошибочно определял если не автора, то эпоху и стиль.
Вот старик итальянец – или Гвидо Рени, или даже сам Караваджо. Вот школа Рембрандта, но это не Рембрандт, нет его волшебного света, а весь антураж и сюжеты – его. А вот и французы, как же во Франции без французов. Неизвестный Курбэ – голая животастая натурщица стоит перед зеркалом, стыдливо заслоняется от художника скомканной простынкой не первой свежести. Парижский пейзаж – либо Писарро, либо Сислей, – бульвар в туманной дымке весны, первая зелень, спешащая вечно толпа, черные юбчонки гризеток. Все подлинники. Никаких копий. Хорошо воспитывают свою девочку господа Рено. К подлинности приучают.
А вот и она. Жена Андрея.
Молоденькая женщина вошла в гостиную, и снова на Митю хлынул невыносимый свет.
– Чьто вас… – она очень плохо говорила по-русски, но героически старалась, – принейсль?.. Аперитив?.. Соль-еный орешки?..
Митя не отрывал глаз от юного светлого, нежного, как золотой одуванчик по весне, тонкого лица.
– О да, – сказал он рассеянно. – Можно чего-нибудь выпить с дороги. Правда, в самолете мы пили коньяк три раза. Мы ведь летели в бизнес-классе, и нас кормили на убой.
– О… – она вся залилась краской, покраснели ее шея, щеки, ключицы в низком вырезе белого платья, – чьто такое… “убой”?..
Митя не смог объяснить. Он встал с музейного кресла – Людовик или Филипп, а может, Хлодвиг восседал на нем?.. – шагнул к девушке и взял ее руки в свои.
– Убой, – сказал он почему-то шепотом, – это такое состоянье, когда тебя убивают, Наповал. Пиф-паф – и нет тебя. Все. Умер.
– Пиф-паф, – весело повторил Изабель. – Охота. Дуэль. Стреляй. Ха-ха-ха!..
Они вместе захохотали: она – весело и взахлеб, от души, он – натянуто и скованно, и будто мрачные железки, оковы, кандалы или пули, перекатывались у него в горле. Он покосился – стол был уже накрыт, белые салфеточки торчали острыми треугольничками и пирамидками, сверкали ножи, батарея бутылок – о Франция, страна вина и сыра!.. – высилась над тарелками, да и про сыр Изабель не забыла – он был подан на огромном широком блюде, занимавшем полстола, и на блюде этом валялись, лежали, разбросались, разложились веерами кусочки десяти сортов сыра – и желтого, и голубого, и зеленого, с плесенью, и острого пахнущего камамбера, и ноздреватого, испещренного зияющими дырами швейцарского, и лионские круглые кенели, и бретонская брынза. Эмиль и Андрей ввалились в гостиную, уже приняв душ, свежие, порозовевшие, с мокрыми волосами, выбритые.
– Ох ну мы щас и выпьем! – закричал Андрей с порога. – Господи, какое счастье поорать по-русски в этой утонченной, шут ее задери, стране, где все, едва начав работать, только и ждут обеда, а обед здесь – священное время, два часа, с двенадцати тридцати до полтретьего, и в это время – нишкни!.. никого не потревожь!.. француз – ест!.. c’est act sacrale!..
Уселись за столом, стали разливать чудесно пахнущее вино по рюмкам и бокалам, громко и оживленно говорить, Андрей перемежал грубые русские восклицанья нежным французским щебетом, когда наклонялся к своей половине, Изабель отвечала ему нежной улыбкой, подняв к нему милое личико, – но, когда она оборачивалась к Мите, и ее глаза наталкивались, сами того не желая, на Митины пристальные, угрюмые глаза, ее ротик приоткрывался, непрошеная краска взбегала на ее щеки, она тяжело дышала, отворачивалась, и она понимала, что беда ей, что она погибла ни за что, так просто, почем зря, что ей надо бежать, сочинить какую-нибудь глупую историю про недомоганье, про боли в животе, взять билет на воды, на курорт, в Санари, в Сен-Тропе, – и знала, что никуда не убежит, не денется, что хочет остаться, смотреть в эти глаза, целовать эти губы, что останется и погибнет.
Она сама не подозревала, что погибнет не она.
Митя влюбился в Изабель внезапно и сумасшедше. Все на свете заслонило нежное личико Изабель, само излучающее свет, один свет.
Невероятная тяга к той московской аристократической проститутке под бархатной маской, к загадочной Инге, при виде такой чистой и открытой прелести, которая была рядом, лишь руку протянуть, которая сама шла в руки, очарованная, завороженная, сама всего хотящая, – быстро, в одно мгновенье, превратилась в любовь.
Они не знали, как им быть, несчастным, молодым, смертельно влюбленным. Изабель выходила за Андрея Дьяконова, перспективного русского физика, подающего огромные надежды ученого, преподавателя Сорбонны, совершенно спокойно, наполовину по расчету – он был ей симпатичен, не больше, да и Андрей, она это знала, выбрал ее не просто так, а еще и оттого, что она была Изабель Рено, – она никогда не была в него влюблена, никогда!.. и, Боже мой, как же они спокойно, хорошо жили, каким светлым и безоблачным было их семейное начало!.. и она молила Бога: о, пусть так будет всегда, Андрей и в быту легок, и в постели хорош, не лучше и не хуже, чем все jeune hommes, что были у нее до него, – и вот все рухнуло в одночасье. Какой Дьявол прислал из Москвы этого черного беса?!.. зачем он здесь…
Они еле дождались ночи, когда все, напившись вина, чаю, аперитивов, объевшись блюдами французской кухни – Изабель готовила сама, она, при всем их богатстве, не держала горничных, – разбрелись по спальным комнатам, – и, выскользнув в коридор – Изабель в ночной сорочке, Митя в джинсах на голое тело, – обнялись так пылко, что оба задохнулись. Митя прижался животом к ее животу, горячему, такому близкому под рубашкой.
– Я сказаль Андрэ, чьто я пошьоль туалет, – зашептала она около самых его губ, – я знай, чьто ты… тут… чьто ждать менья…
Он взял ее тут же, в коридоре, ведущем из одной анфилады в другую – малютке Рено принадлежал, видно, целый этаж в старинном доме на Елисейских, а, может быть, и два. Когда он, стоя, прижавшись к стене, подхватил ее под мышки, как обезьянку, и повесил на себя, и проник в нее одним резким ударом, он закричал от восторга, и она в ужасе, содрогаясь от счастья любви и горя измены, закрыла потной полудетской ладошкой ему рот.
… … …
Куда бы он он ни пошел в Париже – перед ним маячило светлое лицо Изабель. Он воображал, как бы он уплыл с ней на корабле по Средиземному морю куда-нибудь далеко – в Африку, в Индию – через Суэцкий канал; как бы любовался с ней на египетские пирамиды, на изваянья богов и героев, на чужую непонятную жизнь далеких странных народов, как бы в роскошной каюте, на мягких диванах сплетались бы их жаждущие друг друга тела.
Инга?.. Иногда, закрыв глаза, он вспоминал о ней. Он видел перед собой, перед глазами только бархатную маску – то мышино-серую, то небесно-голубую, то ярко-алую, как кровь. Как он вожделел эту женщину! Это столичную, распутную суку…
Он заплатил за нее Лоре деньги…
Он вспомнил ночи с Лорой, и его с души заворотило. Ну, что ни делается, все к лучшему.
А сегодня он вспомнит, что он все-таки художник, что он когда-то был художником и когда-нибудь, дайте срок, еще будет им, и прогремит на весь мир, и все будут лежать у его ног – все лучшие выставочные залы, все галереи, вся пресыщенная публика, объевшаяся и рыгающая, которую ничем уже не удивишь, и на модных вернисажах ребята-концептуалисты уже доходили до того, что выпускали голого бритого по-бандитски мужика, и он кусал посетителей за ноги, как собака, а потом, на глазах у всех, совокуплялся с собакой, гладя ее по голове и крича: “Моя жена!.. Моя жена!..”
Сволочи. А просто потому, что нету сил в душе для настоящей живописи. Настоящая живопись – там, в Лувре. И у него в башке. Он покажет всем, что такое настоящая живопись. Он покажет всем, кто его настоящая жена.
Он чувствовал Изабель своей женой. Чертова мистика! Но это было так.
В Лувр он направился пешком – от Елисейских Полей до набережной, откуда просматривалась тюрьма Консьержери, где томились когда-то французские несчастные короли, попираемые восставшей чернью, и до серо-коричневой громады Лувра одно удовольствие было пройтись. Митя уже освоился в Париже, а Изабель была его очаровательным гидом.
Какие все-таки изворотливые лисицы эти француженки! Впервые и так стремительно изменила мужу, и так искусно, тонко скрывает измену. Улыбается Андрею. Готовит вкусней прежнего, за обедом кладет мужу лучший кусочек. Когда убегает на свиданье с ним, Митей, – а они уславливались о грядущем свидании дома, рядом с ванной, в кухне, в курительной комнате, в кофейном барчике – таилось в огромной квартире и такое укромное местечко – комната под сводами, выкрашенная в черный цвет, оборудованная под уютную кофейню, и жаровни с песком там были, и бар, где стояли вина и коньяки, и как хорошо было в этой комнате, удрав от Эмиля и Андрея, целоваться, чувствуя ее нежную лапку на своей жестоко отверделой остро-штыковой плоти, – щебечет Андрею: о, милый, я тут ненадолго отлучусь, часа на два, в ателье, я заказала себе на лето сногсшибательный синий костюм из валлийской шесрти!.. ты просто закачаешься!..
Хитрит и думает, что шьет черными нитками, а на поверку нитки все равно оказываются белыми – как ты ни крути, как ни затягивай силки.
Но в Лувр он пошел один. С Изабель он не смог бы погрузиться в картину – он погружался бы мысленно в нее, в ее горячую, дико трепещущую женскую живую перловицу. Один на один, бродя по залам, он оставался с Эль Греко, с Сурбараном, с Лененом, с Тицианом, с Гойей. Шатаясь кругами по залам, он все хотел набрести на Тенирса – и все не мог. Французского он не знал, и не мог расспросить смотрительницу: как, куда, где.
Он выбрел в зал малых голландцев внезапно, сам себе удивясь – ведь он прочесал, как гребнем, весь Лувр, и вдруг… Остановившись перед маленькой картинкой, он улыбнулся. Зима, замерзли каналы и дороги, и иней сверкает на ветвях разлапистых деревьев, и сквозь клубящиеся туманные снеговые облака просвечивает тусклое, как жемчужина в уксусе, зимнее солнце. И катят крестьяне, мастеровые, рыбники, чулочники в коньках по ледяному каналу в толстых полосатых носках, и как же их много, целая толпа – куда она катит, разнаряженная, праздничная?.. У веселых толстушек, – их юбки развевает ветер, – в руках корзинки, – а важные матроны сидят в санях, и их сзади толкают усатые слуги, и они смеются над госпожами беззлобно.
А, вот куда все они скользят! Каменный островерхий дом на краю ледяной реки, двери открыты, из трубы валит в сизое небо дым, на пороге, в расстегнутой шубе, сидит женщина, кормит грудью ребенка. Ничего особенного, женщина родила ребенка и кормит его, – а ведь все спешат к ней, к сидящей на пороге, и уже первые, кто доскользил, кланяются ей, ставят корзины на лед, на снег, выгружают подарки, и тот, бородатый старикан в чалме, что ближе всех стоит к ней, к матери, протягивает ей на вытянутых руках сияющее на солнце жемчужное ожерелье.
А далеко в заснеженных просторах, на снежных белых склонах, тоже люди – маленькие черные точки, как мушки; они идут, бредут, они тоже хотят увидеть – пастухи, кузнецы, молочницы, плотники.
Митя наклонился и прочитал под картиной: “Тенирс, первая четверть ХVII века. “Поклонение волхвов”.
Вот он, Тенирс. Как жаль, он не знает языка. Он расспросил бы, как, когда попала в Лувр эта работа, сколько она стоила, если покупали недавно.
Вчера вечером им доставили, в целости и сохранности, его Тенирса из Москвы. Нарочного откормили, отпоили и спать уложили. Он был вознагражден сполна. Подкуп польских таможенников прошел просто идеально, без сучка без задоринки.
Эмиль уже созвонился с легендарным протеже Венсаном. Филипс начнется через три дня. А в Париже февраль, а в Париже весна – в начале марта расцветут на газонах тюльпаны, их чашечки уже набухли, и негр перед собором Нотр-Дам, высокий черно-лиловый негр в ярко-красном шарфе, даже улыбается иногда, и белая – на черном – улыбка тоже кричит о весне. Кричат о весне и их с Изабель тела. А души?! Что кричат их души?!
Митя вышел из Лувра, встал у парапета на набережной Сены.
Острый шпиль Консьержери таял в солнечном мареве. Зеленая, изумрудно-серая река плавно струила свои вечные воды, втекая в безбрежный далекий океан. Мосты горбились над водой безмолвно и скорбно. Митя, ты продашь картину на Филипсе и немыслимо разбогатеешь. Ты будешь богаче всех Рено, вместе взятых. Ты сможешь предложить Изабель сладкую жизнь. Изабель уйдет за тобой. Она уйдет за тобой закрыв глаза, убежит сломя голову. Ты же знаешь об этом.
Он едва дожил до открытия аукциона.
В день, когда должны были везти картину на Филипс, он места себе не находил.
Андрей и Изабель, разумеется, были посвящены во все перипетии – а как же иначе? Изабель смеялась: о, как это возможно, за такую маленькую медную крашеную доску – и такие сумасшедшие деньги?..
Она закидывала русую головку в смехе. Она не верила. Андрей мрачнел. Перестал разговаривать. Только слушал, молчал, тяжело кивал головой. Эмиль кусал губы. То и дело прикладывался к аперитиву, бросал в рот горстями соленые орешки. Он, с согласия Мити, брал себе с продажи картины тридцать процентов, ведь он, по сути, был Митиным менеджером, вывез его в Париж, вышел на Венсана, на Филипс, Митька и пальцем не махнул.
Он, Эмиль, все сварганил – неужели ему не взять свои кровные?! Венсан, посмотрев картину тщательно, прищелкнул пальцами, потрясенно покачал лысой гладкой головой. Его тяжелые черепаховые очки сползли на кончик вспотевшего носа. “Гениально, – забормотал он скороговоркой, – гениально. Настоящий Тенирс. Публика с ума спятит. На Филипс в этот раз прибудет группа богатых американцев, известных в арт-бизнесе коллекционеров, то-то они раскатают губу!.. Я говорю тебе, Эмиль, дорогой, эта штучка пойдет, пойдет, и очень хорошо пойдет… двадцать миллионов с нее можно будет снять запросто… а то и больше, если аукцион раскочегарится… а про мой процент не забудешь?.. про мой процентик, совсем скромный, Эмиль, а?.. от пяти до семи, как у начинающего менеджера, ха-ха!..”
Митя ходил по комнатам, слонялся по паркету анфилад, потирал руки. На Елисейских Полях плохо топили, а на улице похолодало, и Андрей отапливал квартиру масляными обогревателями.
Митя в тоске завалился в черный кофейный бар. Там горел тусклый тихий свет за одним из столиков. Он подошел. Перед Изабель горела тонкая белая свеча – такие свечи Митя видел в соборе Парижской Богоматери, сам поставил одну такую перед картиной – холст, масло, – изображающей Рождество Христово. Медный таз, повивальная бабка, плачущее от радости лицо матери, голенький младенчик в полотенце, жемчужное ожерелье в руке пастуха. Опять ожерелье. Почему у католиков в храмах нет икон. Одни холсты. Он станет знаменитым и напишет картину для Нотр-Дам. А когда он умрет и пройдет пятьсот лет, ее тоже купят на Филипсе за двадцать миллионов долларов.
– Изабель… что ты тут сидишь…
Она, зареванная, сунулась к нему, уткнулась лицом в его живот, в потертые джинсы.
– Ничь-ево!.. плакать… нье могу… нье могу, Митья…
– Да что с тобой?!.. – Он погладил ее по русой голове, потом встряхнул за плечи и, отогнув ее голову, поглядел ей во влажные глаза. – Все поправим!.. Если тебя кто обидел – убью того!..
– У-бой, – склонив голову, как поникший на стебельке цветок, сказала Изабель. – Убой, Митья. Андрэ менья убой. Андрэ менья стреляй. Андрэ все знай.
– Что?! – крикнул Митя и, схватив крепко, прижал ее к себе. – Что ты сказала?!
– Андрэ знай, чьто мы с тьебе аматер… льюбовь, – рыданья снова заколотили в нее, как в запертую дверь.
– Ты ему… сказала?!..
– Он сам спросить… а я – отвечаль…
Девочка Рено была хорошо воспитана. Она была научена говорить правду. Правду, ничего, кроме правды.
Дело осложнилось, Митя. Дело ох как осложнилось. Пусть все горит синим пламенем. И сгорит. Машина ждет внизу. Эмиль поведет ее сам.
Андрей не поедет с ними. Андрей закрылся в своей комнате.
Знает ли Эмиль?.. Митя ощупывал глазами круглую рожу Папаши, фюрерские усики, чуть заплывшие глазки. Судя по всему – нет.
Изабель вышла помахать им рукой, когда они стояли на лестнице с резными перилами. Чао, крошечка, кивнул Эмиль весело, жди нас с победой. Купят картинку – купим тебе платьице от Диора, самое лучшее. И маленькую дачку на Ривьере, а хочешь, и на Севере, в Карнаке. Как пожелаешь.
Дело осложнилось, Митя, теперь жди подвоха. Отчего, когда ты спускался по лестнице, мимо тебя прошмыгнула рыжая, как лиса, женщина в темно-сером плаще, с яркими, как огонь, волосами, разделенными прямым пробором, и Мите почудилось, как его мимоходом ожег зеленый огонь диких веселых глаз. О, во Франции так много таких женщин – рыжих, зеленоглазых; говорят, такой масти ирландки, и в северной Франции, в Бретани, в Руане, в Париже, много рыжулек, белокожих и розовощеких – разбрызнулась по Европе кельтская кровь. Пробежала мимо, задела плащом, ни слова не сказала. Или это было виденье? Ни одна дверь не хлопнула вверху, в подъезде. Ни одна.
Ты бредишь, Митя, скорей бы на аукцион, в светлый, залитый огнями зал, в скопленье возбужденного народу, в переговариванье и воркотню, под крики аукциониста: “Три миллиона долларов – раз!.. Три миллиона долларов – два!.. Три!.. Продано!..” Ты ведь никогда не был на аукционе. Ты сейчас все увидишь впервые. Как долго Эмиль заводит машину. Как уже тепло на улице. В Москве метели, а здесь… Изабель сказала, что на юге, в Провансе, уже расцвел миндаль. Увидеть бы цветущий миндаль. Хотя бы однажды. И написать его. Темно-зеленый подмалевок, белила, кадмий красный.
Когда они завернули за поворот, обогнув Триумфальную арку, и ехали по полосе рядом с тротуаром, их обогнал импозантный “шевроле”. “Шевроле” прижал их к обочине, Эмиль выругался: что за дьявольщина, merde!.. – затормозил, открыл оконное стекло, загвоздил по-французски: собаки, подонки, а не пошли бы вы!..
Оборвал ругань, увидев, как глядит на него дуло револьвера. Митя забился вглубь “рено”. Идиот. Охламон. Ты не купил себе оружие. Ты не заставил Эмиля взять с собой на Филипс револьвер Андрея – ты же знал, что у Андрея револьвер есть, он сам его Мите показывал, когда еще Андрей ничего не знал… о них с Изабель. Ты просто индюк, Митя Морозов, и сидеть бы тебе в сибирской тайге весь век, не вылезать ни в какие Парижи.
Он уже знал, кто это и зачем прижал их “рено” к бордюру.
Наставивший револьвер крикнул что-то по-французски.
– Они велят нам поворачивать домой, Митя, – побледнев как смерть, сказал Эмиль. – Так им приказал Андрей. Иначе они будут стрелять. Парижские тайны, Сынок. Потерпи. Сейчас все выяснится. Завернем. Ну, опоздаем на аукцион. Какая разница. Потеряем полчаса. Сейчас я надаю Андрюшке по заднице и спрошу, какая муха его…
– Не муха, а я, – быстро сказал Митя. Эмиль закрутил руль, развернул машину. Конвоиры ехали следом. Папаня бормотал сквозь зубы французские ругательства. – Его укусил я. Я влюбился в Изабель. Вы уж простите. Наверно, с этим все связано. Какая-то месть. Чтоб мы картину не продали, что ли?..
Эмиль с удивлением поглядел на Митю. Потом его опухшее лицо враз осунулось, постарело. Грозный Дьяконов иногда позволял себе побыть просто усталым человеком.
– Я не удивляюсь, Сынок, что ты втрескался в Изабель, – глухо сказал он, тормозя. – Я бы и сам не прочь. Я и сам хотел. Как-нибудь потом. Да ты меня опередил. Бойкий. Я-то, старик, хотел ее купить. Молодость не купишь. Другого стержня себе не вставишь. Как это сказал один умный, не помню кто, француз, кстати: пока у меня есть язык и палец, я еще мужчина.
– Allez! – крикнул худощавый, черный стручок-француз, выскочив из “шевроле” и направив на Митю и Эмиля револьвер. Эмиль и Митя вышли не торопясь.
Под дулом прошествовали к дому, под дулом поднялись по лестнице, и Митя погладил рукой резные старинные перила. Папаша нажал на звонок.
Когда Андрей открыл дверь, черный стручок смешливо перекрутил револьвер в руке, игриво подмигнул и ретировался. Андрей, бледный как смерть, повернулся, прошел в гостиную. Они прошли следом. Повисло замогильное молчанье. Люстра над их головами лила на них тускло-золотой, молочный свет.
Наконец Андрей повернулся к ним, разлепил губы. Андрей не глядел на Митю. Митя смотрел на него во все глаза.
– Картина у меня, отец, и ты… отморозок недорезанный. – Он перевел дыханье. – Похищение из сераля. Я вытащил из вашего кейса Тенирса и засунул вам “куклу” в похожей упаковке. Я нанял людей, чтобы вернули “рено” домой. Вы оба… выполните мои условия, тогда… я вам ее отдам. Я, как вы понимаете, не вор, не рецидивист, не бандит, не олигофрен, не параноик. Ваш Тенирс не нужен мне. Мне своих Тенирсов достаточно.
Он кивнул головой на стены, увешанные картинами. Его губы прыгали.
– Оставьте в покое Изабель. Я обнаружил, что она уже взяла билет в Москву. Я порвал билет. Я запер ее. У друга. Отвез только что. Она не вылезет оттуда, пока вы не улетите. Никаких Филипсов, к чертовой матери. Улетайте! Улетайте!
У Эмиля краска мгновенно ушла со щек, как смытая водопадом. Митя испугался – не грянется ли Папаня в обморок. Митя видел, как рука Эмиля, толстые сарделечные пальцы шарят по карманам – ищут валидол, сустак.
– Андрюха, ты что, ты спятил, ты ревнуешь, чепуха, выкинь из головы, – тяжело задышав, поднял он круглую, как кочан капусты, голову к разъяренному сыну. – Мы можем не провезти картину назад. Нам надо продать ее здесь, в Париже. Я вывез ее с превеликими трудностями. Я потратил на это, дорогой сын, кучу деньжат. Мне не жалко деньжат. Деньжата – дело наживное. Мне жаль своих усилий. Я ведь не железный, Андрюшенька. Не забывай… – он хрипло вдохнул воздух, – не забывай, сколько мне уже годков. Великий Дьяконов может запросто сдохнуть. Конечно, ты сделал в Париже рывок. Но для того, чтобы сделать и второй, и третий, думаю, папа тебе еще ой как пригодится. Не швыряйся папой понапрасну. А Митю прости. Он глупо втюрился. Как влюбился, так и…
– Сдался мне он! Она, она сказала, что никогда не разлюбит его! – сорвался на истерический визг Андрей. Повернулся лицом к окну, словно устыдясь. Закрыл лицо рукой. Ну и мелодрама, подумал Митя насмешливо. Тем не менее его трясло, колотило. И крепко. Да, вот сейчас бы – выпить. Дерябнуть стаканчик. Хоть этого ихнего французского поганого аперитива. С резким запахом аниса.
– Изабель все равно удерет из любой вашей домашней тюрьмы и прилетит ко мне. – Будто со стороны, услышал Митя свой ледяной голос. – Я люблю ее. Она любит меня.
– Бред! К черту! Тогда…
Раздался смех. Идиотский, резкий, как в сумасшедшем доме, оглушительный, бесконечный. И оборвался. И снова повисло молчанье – тяжелое, как высунутый каменный язык химеры Нотр-Дам.
“Тогда будем стреляться, Митенька, – сказал в тот день Андрей, побледнев до цвета крахмальной простыни. – В лучших французских традициях. И русских тоже”.
Дуэль, Господи. Дуэль. Настоящая любовь и настоящая дуэль.
Так вот зачем он приехал во Францию.
А в Париже стояла чудесная, шумливая, горячая весна, февраль был на исходе, горячим дыханьем обдавал душу и лицо сумасшедший март, и все расцветало в садах, и пели птицы, и в Люксембургском саду девушки и дети кормили голубей, и жареными каштанами обжигали руки торопливо бегущие по делам прохожие.
Они выбрали для дуэли – Андрей так захотел – парк Монсо и вечерний час; там, за густо переплетенными ветвями могучих деревьев, возраст которых измерялся сотнями лет, удобно было расстелить куртки и плащи, развести расстоянья, нацелиться в грудь друг другу весело, с улыбкой – ха-ха, дуэль в Париже, и в парке Монсо в ветвях щебечут птицы, так послушай птичек напоследок, Митенька, не слушалось их тебе на Петровке, в Столешниковом переулке.
Эмиль не прекословил старшему сыну. Он понимал: он в бешенстве. Бешенству надо дать пройти. Бешенство надо лечить. Чаще всего его лечат временем. Время, он знал характер Андрея, на него не могло подействовать. Андрей ощутил себя собственником, а Изабель – вещью, которую у него из-под носа нагло крадут; и кто?! Был бы кто достойный. Такая московская шмакодявка. Из грязи в князи. “Однако”, “маленько”, “типа того”. Выраженьица подворотни. Он, типа того, выстрелит ему в сердце, и, типа того, уложит его на месте. Пусть его заловят ажаны, пусть он сядет в тюрьму. Никакие ажаны не увидят.
В парке в этот сумеречный час уже народу – никого. Добропорядочные бюргеры-парижане уже сидят давным-давно дома в этот час за бутылочкой, за мясным ужином и фруктами, за телевизором, а самые счастливые и умные – в борделях. Ему не надо было жениться. Ему не надо было заводить женщину в доме. Лучше б он два раза неделю спал в будуарном закутке с классной проституткой, чем в дворцовых покоях с этой…
Он начистил свой револьвер. Нанятые им киллеры, озорные ребята из квартала Дефанс, привезли ему еще один. Абсолютно два одинаковых револьвера. Два шикарных “кольта” последней модели. Тяжеленькие вещички, это верно. Ничего, рука не дрогнет. Отец в последний момент все пытался его отговорить. “Андрюшенька, деточка, может быть, не надо!..”
Эмиль закусил губу, вспомнив его мать. Его аристократическую, породистую мать, из князей, приближенных Царя, высокую, сухощавую, горделивую; в свое время она прельстила коротышку Эмиля тем, как посмотрела на него – сверху вниз, так, как богиня глядит на кошку. Чем прельстил ее Эмиль – загадка. Может, ничем особенным – княжеского роду дылда в то время была одна. Ей требовалось утешенье. Она утешилась, забеременела и родила. И тут же выгнала утешителя. Эмиль не был с ней обкручен ни по какому обряду – ни по-чиновничьему, ни по-церковному. Он записал сына, как и всех детей, на свою фамилию.
Они приехали в парк, когда хорошо стемнело. Сине-фиолетовое, как густой аметист, небо нависло над парком Монсо. Сильно, возбуждающе терпко пахло свежеоттаявшей землей, древесной корой, под которой ходили, бились весенние сладкие соки. Здесь север Франции, Митя. Здесь миндаль не цветет. Хоть перед смертью поглядеть.
Какая, к черту, смерть. Сейчас он застрелит этого фанфарона, этого зануду-физика, молодого профессора Сорбонны, ее ненавистного мужа, – но не всерьез, а понарошку, так, слабо ранит, чтобы Папаша не слишком переживал. И, ха-ха, они перевяжут неопасную рану этому русскому парижанину, мать его за ногу, погрузятся в машину и вернутся. И тогда уж выпьют. И тогда этот Андрэ, сука, расплачется, разревется, пьяный, и просто так подарит ему Изабель. Просто поймет: им друг без друга не жить.
Легкий ветерок мял, трепал ветки. Почки уже вздувались на них, дразня светящейся зеленью. Изумрудные бусины. Зеленые ожерелья. Зеленые глаза мира. К черту. К черту!
Эмиль сам дал ему револьвер. Андрей уже держал свой.
– Я никогда не думал, – слабая улыбка покривила дрожащие губы Эмиля, – что я буду секундантом на дуэли у своих… детей. Раз, два, три, четыре…
Эмиль честно отсчитал положенные шаги. Расстояние между дуэлянтами было закреплено. Андрей остался на месте. Митя пошел туда, где сиротливо стоял смешной кургузый Эмиль. Его челочку встрепывал ветер. У него были глаза лемура.
– Эй, полицейских поблизости не видно?.. – Голос Андрея заглушило звонкое птичье пенье. Он обетр потный лоб. – Если появятся – ты, папа, свистни!.. У, подонок, сейчас я всажу пулю в твой подонский живот. В тот живот, которым ты…
Митя не слышал. Он отошел уже далеко.
Митя забыл сказать им, отцу и сыну, только одно: он никогда в жизни не стрелял из револьвера. Стреляли только в него.
Ну, Бог дает и ему распотешиться. Смотри не оплошай, однако.
Они встали друг против друга. Птицы пели оглушительно.
– Сходитесь! – задушенно крикнул Эмиль.
Что надо делать?! Идти навстречу друг другу?!.. Или… прицелиться и просто стрелять?! А как… куда… Митя поднял револьвер. Он дрожал в его руке. Прищурясь, он видел издали лицо Андрея – покрывшееся красными пятнами, с глазами, сузившимися, как стрелы, с заострившимися скулами. Он видел, как в тумане, что Андрей поднял револьвер. И прицелился.
Он услышал звук выстрела – хлопок, такой легкий, что, казалось, это не выстрелили, а ударили доской об доску. Митя продолжал целиться. Андрей промахнулся.
Приближаясь к барьеру – преграде, возведенной Эмилем меж дуэлянтами из сухого хвороста, сложенного маленьким веничком, он резко, быстро оглянулся и посмотрел на Эмиля. У Папаши даже краска взбежала на щеки. Он понял: Андрей промахнулся нарочно! Он хочет помириться!.. Митя, медленно шагая вперед, видел: ни о каком мире не могло быть и речи. Андрей досадовал. Он злился. Он глядел Мите в лицо, люто ненавидя его.
Темнело. Уже на дорожках нельзя было различить, кто сидит на скамейках. Налетал теплый ветер. В туманно-синем небе загорались первые звезды. Как прекрасен мир, Митя. Неужели ты сейчас отнимешь мир, всю жизнь у этого человека, вчера еще не знакомого тебе.
Митя поднял револьвер, держа его в вытянутой руке. Он выстрелил не глядя. Вслепую. Он выстрелил просто потому, что на дуэли надо было выстрелить.
Но он хотел убить его, хотел.
Раздался крик. Андрей?!
Это кричал Эмиль, спеша к упавшему ничком, лицом в сырую холодную землю, недвижному Андрею. Он подбежал к нему, присел на корточки, перевернул сына на спину, руками, что ходили ходуном, ощупывал куртку, окровавленную рубаху, зияющую в груди рану, опять поднимал лицо к сумеречному небу и кричал по-русски:
– О Боже! О Бо-о-же-е-е! Андрюша-а-а!.. Андрюша-а!..
Митя подошел, тяжело ступая. Его ноги вмиг налились свинцом. Он еле приподнимал их. Да, значит, сколько б ты ни убил людей, это каждый раз страшно.
Едва он увидел рану, он понял, что все кончено. Андрей был сражен наповал. Какими пулями он зарядил револьверы?.. Такими, чтоб убивали наверняка, а не просто легко ранили. Разрывными?.. Блуждающими внутри человеческого тела?.. Митя смотрел на громадную красную дыру в груди Андрея и понимал лишь одно: Изабель его, Изабель у него в руках, Изабель принадлежит ему.
Эмиль встал с колен. Его лоб был в крови. Он выпачкался, трогал лоб кровавой рукой. Фюрерские усики над губой мелко, как у кролика, дрожали.
– Эмиль, – сказал Митя жестко и тихо. – Эмиль, теперь я буду вашим настоящим сыном. Взамен убитого. Вы усыновите меня. Чтобы вам не было так мучительно больно.
Дьяконов, бледнея все больше, кивнул. Его побелевшие, будто на морозе, губы шевелились. Но он так и не проговорил вслух, зачем он так быстро и покорно согласился с Митей. Ему были нужна картина, а значит, нужны и деньги, в которых она оценивалась. Ему нужна была квартира Изабель и все наработанные Изабель и Андреем бесценные связи в Париже. Он не мог так просто, так наплевательски терять то, что они вместе с Андреем завоевали во Франции. Хорошо. Митя убил Андрея – Митя встанет на место Андрея. Он ничего не потеряет. Все продолжится. Какой же Бог издеватель. Как Он ловко все подстроил.
– Я усыновлю тебя, – сказал Эмиль, отирая ладонью бегущие по щекам слезы и мелкий пот. – Я усыновлю тебя, сволочь. И ты женишься на Изабель. И ты можешь, сволочь, даже взять ее фамилию – Рено. Или ты больше предпочитаешь – Дьяконов?..
Митя не шелохнулся. Из-под бровей, сведенных в пушистую нить, он глядел на убитого им Андрея, на сгорбленного колобка Эмиля, на кольт в своей руке, странно пахнущий машинным маслом и порохом. Индульгенция им получена. Сейчас скорей домой. Подхватить тело на одежки, на две куртки – его и Эмиля – и в машину. Где картина?!.. И где Изабель… Она заперта у его друга. Она позвонит сама. Она скажет адрес. И он приедет за ней. Что ж, скажет он ей, так вышло, дорогая. Ты не плачь, потому что теперь мы можем делать все, что хотим.
И все, что должны делать.
Всю дорогу от парка Монсо до Елисейских полей Эмиль, сидя над телом Андрея, плакал в машине. Он плакал судорожно, обильно, взахлеб, как женщина. Митя, сидя за рулем, косился на него. От закаленного в жизненных боях политика, бизнесмена, банкира, мафиозо такой погребальной истерики трудно было ожидать.
– Где ты, Изабель?!.. Ответь…
– Же тэм, Митья… же тэм!.. Я у друг Андрэ… чьто Андрэ?!.. Он приезжай за мнье?!..
– Изабель, улица?!.. Я приеду за тобой. Рю деля Тур, одиннадцать?!.. но ведь в этом доме живет русский посол…
– Я у посоль… Приезжай… Андрэ порваль билет Моску… Он все порваль…
– Жди, Изабель. Теперь все будет по-другому. Мы свободны.
Секрет этой новой свободы Изабель поняла на Елисейских Полях. Она отшатнулась от мертвого тела Андрея, как от зачумленного. Прижала руки к лицу.
Целые сутки проплакала у себя в спальне, не выходя к столу. Эмиль, вместе с лысым бодрячком Венсаном, организовывали похороны, обзванивали агентства. Пробили престижное место на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, заплатив хорошие деньги настоятелю русского собора.
Митя, отыскав картину в куче роскошных тряпок, загромождавших шкафы Андрея, радостно гладил ее, и под его ладонью жили, мерцали шероховатости, складки и жилы масла – вся картинная живая плоть. Как давно он не писал маслом. Во времена Яна ван Эйка или Тенирса такую паузу в работе художника и представить себе было невозможно. А может, он уже не художник?.. Он тихо разъярился. Вот ужо он всем покажет.
Когда, после Филипса, они все втроем вернутся в Москву, ох он и развернется! В своем доме, в своей мастерской… Он закрыл глаза и представил себя в мастерской – в рубашке “апаш”, с палитрой в руке… и Изабель сидит на подиуме напротив, и он пишет ее, улыбаясь ей. Не жалко заплатить и мертвым Андреем за такое счастье. Вот оно, счастье. Он его искал и наконец нашел. И купил – опять за кровь; ну, да все в мире, видно, покупается кровью – или своей, или чужой! Иной цены – просто нет…
Русский посол Рогачев, приютивший Изабель по настоянию Андрея, и его супруга Лидия Олеговна расставались с Изабель, как с дочкой родной. “В Москву едете, душенька?.. о, в Москву!.. а мы здесь уже шестой год, и так скучаем по России, одни воспоминанья… вы с Андреем едете?.. одна?..”
Митя помнил, как Изабель беспомощно оглянулась на него. Ну не мог же он сказать Рогачевым, что Андрей Дьяконов мертвый, с простреленной грудью, лежит у себя дома, а они с Изабель летят в Москву вместе. “Вы не возьмете вот это с собой… угостите Эмиля!..” Пока ехали домой от посла, торт-мороженое в коробке растаял, превратился в сладкую сливочную лужицу, и две ягоды, раскисшие красные клубничины, плавали в нем, как кровавые лохмотья.
Когда Митя, посадив на колени Изабель, все рассказал ей во всех подробностях – и их разговор с Андреем на Елисейских, и дуэль в Монсо, – она, зажав ему рот рукой, прочирикала птичкой: все, все страшное позади, не думай ни о чем, мы похороним Андрея с миром, и я выйду за тебя, башмаков не износив, потому что все мы, женщины, Гертруды, все мы птички– синички, посади меня на ветку свою… Эмиль отворачивался к окну. Барабанил пальцами по стеклу. Филипс еще шел. Филипс еще не отгремел, но надо было спешить.
Они повезли картину на аукцион после похорон Андрея Дьяконова на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, на следующий день после погребенья и русских поминок, на которых были представители всех волн русской эмиграции. Первая волна пела песни времен Великого Исхода Дворян и гражданской войны, роняя слезу по Белой Армии; последняя, четвертая волна ни словечка не могла произнести по-русски.
Эмиль напился и наплакался вволю. “Никогда не думал, Сынок, что я похороню в Париже Андрюшку, убитого тобой, мать-ть-ть твою!.. эх, наулюлюкаться бы до потери свякого сознанья… да крепкий я мужик, не смогу… и от людей стыдно… Помянем Андрюшку, Митька… у, ты, убийца…” – “Помянем, – соглашался Митя и поднимал фужер. – Мы все убийцы друг друга, Папаша. Мы все убийцы”.
Он ударил краем фужера о хрустальную рюмку Папаши, полную водки, и на миг ему почудилось, как на дальнем конце стола, в скопленье обнаженных, цвета слоновой кости, плеч, черных смокингов и “троек”, в блеске ожерелий и колье пышностях дамских старомодных причесок мелькнуло рыжее, яркое. Огонь. И зелень. Ах, нет, это просто яркий изумруд блеснул в ухе одной дряхлой старушенции, еще, должно быть, помнящей самое Царицу Александру Феодоровну.
Аукцион уже подходил к концу – картин на стенах поубавилось, драгоценности со стендов исчезали, арт-менеджеры шустрили и прыгали в залах, покупатели бросались визитками, в залах, где шло самое торжественное действо и выставлялись наиболее ценные и престижные работы старых мастеров, оживление еще царило, но пик его уже отшумел.
Заявку на участие надо было подавать заранее, но вездесущий пробивной Венсан обошел всех чиновников, проник сквозь все препоны, и работа кисти великого Тенирса, абсолютно неизвестная ни широкой публике, ни знатокам-искусствоведам, была водружена на стенд для обозренья, и люди подходили, обозревали, вынюхивали носом тайну мазка и светотени, прикрывали глаза рукой, как от бьющего света, – восхищались.
Аукционист выкрикнул начальную цену – миллион долларов. Митя оглянулся на Эмиля. Мадам Канда, что бы сказали, если бы услышали, что ваш миллион – всего лишь начальная, робкая цена торгов. Что бы ты сказала, Анна.
Три, пять, шесть миллионов… Шесть миллионов пятьсот тысяч… Цена на картину росла неуклонно, мрачно, угрюмо, тяжело, неистово. Мите казалось – каждое объявленье цены бьет его наотмашь по лицу. “Семь миллионов раз!.. Семь миллионов два!..” У него захолонуло под ложечкой. Выкрик из зала:
– Десять миллионов!..
Эмиль сжал его руку. Десять миллионов раз, два… Когда аукционист, худой старец с рыже-седой шкиперской бороденкой, уже готов был выкрикнуть: три!.. – как новый крик разорвал спертый воздух: пятнадцать!.. И все ползло, ползло вверх медленно, мрачно и неуклонно, не останавливалось. Какая чушь, это все ему снится.
Двадцать миллионов долларов. Двадцать три. Двадцать восемь…
Ну остановитесь, идиоты.
Митя еще не понимал, что аукцион – это вид спорта. Такой же, как уклонение от налога; как отбиванье чужой жены; как охота на зверя; как охота на человека. Здесь охотились не столько на сокровище, сколько на ближнего своего: смять, растоптать его, унизить своим несметным богатством его, нищего соседа, выдернуть у него картину из-под носа – а пусть страдает, пусть копошится в тощем кошельке.
Эмиль так и не выпустил его руку – до тех пор, пока цену не взвинтили до тридцати шести миллионов долларов.
– Небывалый случай!.. Великий Тенирс!.. Открытие века!.. Великая работа, найденная на задворках России, на рубеже веков уезжает в Америку!.. Америка приобретает еще одну жемчужину, еще одно сокровище в коллекцию сокровищ, которыми Новый Свет располагает, к вящей зависти Старой Европы и гордости самих американцев!.. Позвольте представить вам покупателя!.. Юджин Фостер, к вашим услугам!.. Крупный галерист Соединенных Штатов, глава Мом-музеума и “Фостер-гэллери” на Манхэттене, пайщик знаменитой нефтяной компании “Нефть Америки”, талантливый политик, заявивший о том, что он будет баллотироваться на пост президента Америки не позже, чем через четыре года – ждать восемь лет Юджин не намерен!.. Позравляем Юджина с еще одной – и гениальной!.. – покупкой, приобретением в его блестящую галерею, уже ставшую муниципальной – мэр Нью-Йорка взял ее под свою политическую и административную защиту!..
Аукционист еще что-то кричал по-французски – Митя не понимал ни черта, Эмиль, тихо бубня, переводил ему вопли рыжебородого старика на ухо.
– Тридцать шесть миллионов баксов, Сынок, – замучавшись переводить поздравительный бред, бормотнул Эмиль. Пряди его челочки слиплись. Он слизнул пот с губы. – Победа, венсеремос, но пасаран. До чего здесь душно!.. Скорей на воздух…
Митя выпрямился во весь свой каланчевый рост. Потер ладонью щеку. Щетина. Он опять забыл, не успел побриться.
– А деньги? – сказал он четко и сам поразился – как резко, бодро звучал его ясный голос. – Когда мы получим деньги?.. И на чье имя, Папаша?.. На ваше?.. Только я их и видел тогда.
– В присутствии французского юриста, дурень, мы разделим их, и каждый, расписавшись на специальной бумаге, получит куш, причитающийся ему, – тускло пробубнил Дьяконов. – Ты просто скот. Картину Венсан записал на нас обоих, представляя ее на Филипсе. Мы оба хозяева. Только ты, дерьмо, первооткрыватель. Merde. Я с тебя за гибель Андрея еще не то должен был содрать… Сынок.
– Где ты хочешь, чтоб была наша свадьба?.. В Москве?.. В Париже?..
– Где ты сам хотеть… Где ты, Митья…
Изабель ничего не осознавала от счастья, горя, ужаса, от обрушившейся на нее судьбы. Платье, заказать снова свадебное платье! Она не думала, что можно выходить замуж дважды.
“Можно и трижды, и четырежды – до семисот семидесяти семи раз, как в Библии сказано”, – шутил Эмиль.
Папаша все чаще прикладывался к вину и коньякам в баре покойного сына. Мотался к нему на кладбище каждый день. Митя составлял ему компанию. Изабель, приходя домой после хозяйственных предсвадебных бегов по Парижу, заставала свекра и жениха в недвусмысленных позах изрядно принявших на грудь – один спал в кресле с рукой, спущенной до полу, другой, задрав ноги на фамильные, расшитые мамочкой Рено кружевные подушки с золотой ниткой – на диване, нещадно храпя.
О, русские люди, до чего вы забавные человеки. Гулять так гулять, страдать так страдать. О мон дье, неужели она скоро увидит снежную Москву, где волки и медведи гуляют по улицам, а в президентов и банкиров стреляют, как в зайцев и рябчиков?!.. где такие вот картины, как этот Божественный Тенирс, валяются на заброшенных чердаках у пьяниц-старушек в чудовищных… о, как это… ком-му-наль-ках…
– Митьенька, потшему ты пиль вэн?.. ви-но…
Он хватал ее в охапку, сажал ее к себе на колени, уваливал ее на себя – хрупкую, тоненькую, невесомую, как лепесток.
– Потому что я мужик, Изабель. Я русский сибирский мужик. Я по ошибке забрел в светское общество. Я как-то странно стал богатым. Ну да, я очень хотел стать богатым. Разбогатеть. И я… – Он набирал в грудь воздуху, чтобы выпалить ей, как на духу: “чтобы стать богатым, я убил человека, я женщину убил”, – и не мог. – И я как-то случайно нарвался на одного, на другого… мне помогли… все было так странно… так…
Он неловко умолкал и страстно целовал ее. Она, будто сбросив с плеч тяжкую ношу, облегченно и радостно целовала его в ответ, лежа, как белая киска, на его груди.
Ей не нужны были его исповеди.
Она сама не любила исповедаться кюре, зажевывая на евхаристии в Сакре-Кер сухую невкусную облатку. Она считала – и ей казалось, что правильно: мужчина имеет гораздо больше прав, чем женщина, на свои тайны, на свою личную жизнь, на свои… ей было страшно додумывать, но она договаривала про себя: на свои преступления.
Митя убил ее мужа. Он убил его честно, на дуэли. А если бы нечестно?.. Изабель закрывала глаза и улыбалась. Честно, нечестно. Может быть, она сама этого хотела. Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Или…
Никогда, никогда она не расстанется с любимым. Она будет всегда жить в метели, в пурге. Она готова есть из одной миски с медведями и мохнатыми русскими собаками. Она, Изабель Рено. Лишь бы с ним рядом.
Она заказала себе в лучшем ателье Парижа такое свадебное платье, какого не было ни у одной топ-модели, ни у одной кинозвезды, ни у одной королевы и принцессы мира. Она не хотела поразить публику; она хотела просто понравиться Мите. Белое, как лилия-нимфея, длинное платье, с лепестками-шлейфами, с лифом, сплошь расшитым крупными стразами, а по горловине – настоящими брильянтами.
Она будет выглядеть в нем на церемонии, как будто ее только вынули, выдернули из туманного свежего озера и на гибком стебле протянули Мите с поклоном: бери, владей.
Изабель постоянно дрожала, будто ее знобило. Все происходящее казалось ей непонятным, пугающим, странным. Закрывая глаза, она снова видела перед собой разверстую рану в груди Андрэ – а руки и губы Мити находили ее, гладили, целовали, и она вспыхивала вся, как ночной костер.
Жизнь в Москве!.. Жить в другой стране! Она примеряла на себя платье чужой страны и спрашивала себя: а каково это, а не умрешь ли ты от тоски по своей милой Франции, по своим веселым винам и озорным цветам в корзинах цветочниц на Монмартре и на Риволи, не будешь ли ты всю жизнь ломать язык, выговаривая странные русские тяжелые слова, и потом, Митя… он, такой чудный, такой любящий ее, вдруг черно насупливается, делается мрачнее тучи, и ей кажется – сейчас он полетит ураганом, сметет все вокруг… и ее тоже… Свадьба, свадьба… Пускай она будет как можно скорее. Все Рубиконы лучше всего переходить сразу. И навсегда.
Они зарегистрировались в парижской Мэрии – Митя, по приказу Папаши, нацепил черную “тройку”, как ухарь-купец, удалой молодец, и даже золотую цепочку Эмиль ему приделал – брегет, купленный в магазине “Андрэ”, торчал в кармане, а сверкающая цепочка свешивалась из кармана, вдоль пуговиц жилета, а Изабель поразила всех платьем-лилией, ей даже из зала кричали: лилия!.. – и Митя, после того, как они поставили закорючки в толстых книгах и их объявили мужем и женой, отчего-то вспыхнул весь, как маков цвет, до корней волос, он и не думал, что может так краснеть, как ребенок, – и внезапно взял, подхватил Изабель на руки, он читал об этом в книжках, видел это все в кино, ну, и что-то сработало у него внутри, что-то защелкнулось на душе, как наручники, – и так, с Изабель на руках, он прошел по ковру зала мэрии, и она прижималась лицом к его груди, и он шептал ей тихо, задыхаясь: не бойся, крошка, у нас все будет с тобой хорошо, все будет тип-топ, в Москве мы не пропадем, я куплю тебе в Москве отличный дом, ты будешь в нем хозяйкой, не хуже чем здесь, на Елисейских, тебе все там понравится, клянусь, и там совсем не страшно, в Москве, там очень даже весело жить, ты будешь там царица, богиня… моя белая лилия, мой пушистый котик… Не бойся, не бойся…
Он все упрашивал ее: не бойся, не бойся, – как будто Россия, как будто Москва были такой геенной огненной, такой дикой преисподней, куда и заглядывать-то было жутко, – не то что жить там.
В ту последнюю, перед отлетом в Москву, ночь в Париже они проговорили до утра.
О да, они любили друг друга, и все же им важно было высказаться, им невыразимо важно было расспросить друг друга – о чем?.. О событиях, бывших ранее, до их встречи?.. О том, откуда они вышли и куда они идут?.. О людях, которых они любили?..
Он убедился в том, какая же Изабель была девчонка. Ей рассказывать было совершенно нечего: домашний ангелочек, всеми любимый, престижный коллеж, Сорбонна, диплом врача, частная практика в Париже, каждое лето отдых в Провансе, на берегу моря, или в Арле, где в античном амфитеатре Изабель любила наблюдать корриду.
– Как… корриду?.. разве во Франции есть коррида?..
Она поднялась на локте голая, оперлась ладонью о подушку. На столе горела свеча. Ее светло-русые одуванчиковые волосы сияли, переливались. Щеки горели, исцелованные. Митя с удивленьем и ужасом чувствовал, как растет, страшней снежного кома, в его груди нестерпимая нежность.
Эта девушка, его жена, научит его нежности. Научит его человеческим чувствам, что начали было вихрево исчезать из него, выдуваться наружу. Он уже чувствовал пустоту, жуткую пустоту, что поселялась внутри, выжигая огромные незримые пространства в нем. Он усмехался, чувствуя это: а, все трын-трава!.. это так надо, надо быть таким, пустым и циничным, жестким и бесчувственным, чтобы жить в том мире, куда его забросило…
Рядом с Изабель, вместе с ней Митя ощущал себя человеком. Он возвращался к себе. Это было больно. Ему становилось очень больно от этого. Он припоминал себя того, Нищего Художника; видел себя, припадающего к голым коленям дегтярноволосой Иезавель; себя, шатающегося по тусовочному Арбату с двумя-тремя непросохшими холстами под мышкой – чтобы продать. А тут у него на счету будет – уже не лимон, а…
Юджин Фостер, рыжий веснушчатый весельчак, высоченный мужик из-за океана, скорее похожий не на крупного галериста, а на подгулявшего рослого бурша, расплатился с ним и с Эмилем наличными долларами. Когда у Мити в руках оказалось бессчетное количество зеленых бумаг, – валютные проститутки у “Интуриста”, он это знал, так же, как знало и пол-Москвы, называло баксы “капустой”, и это было похоже, он сидел будто в россыпях свежих капустных листьев, – у него все поплыло перед глазами, ком подкатил к горлу, он хотел разрыдаться – и не мог.
Эмиль протянул ему на ладони русскую московскую валидолину. “Рызгрызи, – посоветовал он. – Может, станет легче. Если ты не в силах пересчитать, дай, я пересчитаю”. – “Ты меня обманешь, Папаша, к чертовой матери, – ответил Митя весело и зло. – Я уж как-нибудь сам. Это ведь все не для меня. Это все для Изабель. Я сделаю ей такую жизнь, какая ей в ее дохлом Париже и не снилась”. – “Врешь, сосунок, – жестко сказал Эмиль, глядя на то, как беспомощно Митя копошится в разбросанных по дивану долларах, нервно закуривая, отпыхивая дым, – не для Изабель это. Ты спятишь на этом. Ты спятишь на деньгах. Потому что ты жалкий парвеню, Сынок. Потому что всю жизнь ты жил, преодолевая комплекс нищеты. Потому что ты привык считать все время жалкую копейку в своем дырявом кармане. И вдруг ты вторгся, внедрился… сюда. В нас. В наше нажравшееся, сытое тело. В мое тело, как гельминт. В меня. И ты готов съесть меня. Но съесть бездарно. Чтобы все подгребать под себя и никуда не вкладывать. Я отличаюсь от тебя тем, щенок, что вкладываю капиталы. Я их умножаю. А ты будешь их только копить… копить!.. Ты будешь трястись над ними, когда состаришься…” – “Если состарюсь, – солено, ядовито поправил его Митя. – Меня ухлопают, Папаша, твои же люди, если я им чем-нибудь не приглянусь. А я им точно не приглянусь. Ведь не приглянулся же тебе”. Эмиль исхлестал его словами – и Митя запомнил эти удары розги, эти рубцы, оставшиеся от грубого ремня. Отцовский ремень?! Плевал он… Однако… нищета… Он содрогнулся, лежа рядом с Изабель в постели. Какое чудо, что он никогда больше не вернется туда.
– О, коньешно, есть, Митья… коррида, и… как это… бик?..
– Да, бык… – Он обнял ее одной рукой, нежно поцеловал в пылающую скулу. – Рогатый бык… Не дай Бог мне никогда, женушка, стать рогатым…
– И это… как это по-испаньоль… тореро?..
– Да, да, тореро, матадор, как хочешь…
– Я нье любиль, когда бик – убой… убиваль… я всьегда плакаль… я хотеть бик – жить и тореро – жить… я хотель, чьтоб Андрэ – жить и ты – жить… но Андрэ умереть… а я хотель, чьтоби мы с тьебе жить – как это?.. тужур?.. вече-но?..
– Да, да, вечно, – забормотал Митя, ловя губами ее пальцы, гладящие его лицо, его висок и подбородок. – Да, Изабель, мы так любим друг друга, что мы будем жить вечно… я это чувствую… я…
Она закрыла ему рот ладонью. Ее ладонь пахла жасмином. Жасминовые духи, приятные. Женщины душатся и наряжаются, чтобы прельстить мужчин, но прекрасней всего они без одежд.
– Ты… льюбиль в Москве ла фамм?.. жень-шинь?.. говорить мнье…
Ну вот, вот они, эти дурацкие вопросы. Он знал, что до них дело дойдет.
Эмиль громко храпел в соседней комнате. Тихо лилась музыка из приемника, висящего на стене. Женщина есть женщина. А разве ему не интересно узнать, сколько мужчин было у Изабель, какие они?.. Нет. Неинтересно. И никогда не станет интересно. А вот ее это волнует.
– Конечно, любил. Куда ж мужчине без этого.
– И они биль… красив?..
– Красивые. – Он улыбнулся. Она отвела прядь волос у него со лба. – Конечно, красивые. Нет, одна была некрасивая. Маленькая девочка. Такая глупенькая. Похожая на рыбу. И есть она любила жареную рыбу. Она кормила меня рыбой.
Перед ним, как наяву, встала Хендрикье – с рыбьим ртом, с белесыми прозрачными косками, с веснушками на носу, с преданными собачьими глазами, всегда обращенными к нему с мольбой: не отвергай меня.
Он вспомнил весь быт дворницких трущоб в Столешниковом, гарь и чад на кухне, где алкоголичка Мара вбрасывала в себя, у горящих цветков газовых конфорок, рюмку за рюмкой дешевой “Анапы”, свои ранние, в пять утра, вставанья, одеванья дворницкой робы, – и иглы страха закололи его под лопатки: неужели это все было с ним?!..
– Дай сигарету.
– Кури вред, Митья. – Она, смешливо морща нос, протянула ему всю пачку, что цапнула со столика у кровати. – Я доктер, я знать. И как зваль та дьевочка?..
Он поглядел на Изабель – и внезапно понял, кого она ему напоминает. Хендрикье. Ну да, Хендрикье. Только умную, богатую, красивую. А не нищую дурочку-уродку с жабьей пастью, в крапе веснушек. Но все повадки Хендрикье. И светящийся взгляд Хендрикье. Да, этот тихий свет, этот всепобеждающий нежный свет Хендрикье, что пробьется сквозь любой металл, бетон и чугун.
– Хендрикье.
– О, как жена Рембрандт ван Рейн!.. – Изабель развеселилась, шаловливо перевернулась в кровати, играя, как рыбка. Нет, это бред. Да, ведь она разительно похожа на Хендрикье. Как он этого раньше не замечал. – Хендрикье Стоффельс?..
– Ну, у нее, наверно, было другое имя, это было просто прозвище, ну, кличка, ну… – Он затруднился объяснить наморщившей лобик Изабель, что такое кличка. – Это имя – ну, для смеха…
– Длья смех, а-ха-ха-ха-ха!..
Она долго, тихо, нежно хохотала. Митя прильнул губами к ее губам. Они целовались до головокруженья. Разомкнули объятья нехотя. Порозовевшая Изабель спросила, продолжая беззвучно смеяться:
– А… путан?.. Ну… ночная жень-шинь?..
– Проститутки тоже были, – пожал плечами Митя, – у кого их не было!..
Он вспомнил девиц в сауне. Передернулся.
– А… кто ты любить больше всех?..
Он задумался. Дал единственно возможный ответ.
– Тебя.
– А… кто тьебья любить больше всех?.. Больше – жить?..
Он лег на спину. Сигарета горела тусклым красным огнем в его отведенной руке. Изабель глядела на него сверху вниз. Они оба были голые, влюбленные и молодые, и вся прежняя жизнь казалась Мите сном. Вся прежняя жизнь нам всегда кажется сном. Она улетает, улетучивается, как дым. Ее не поймать. Тебе кажется – это все было с тобой, а на деле это Господь Бог просто поглядел занятный фильм с тобой в главной роли.
Он затянулся до звона в ушах. Он глотнул столько дыма, что он забил ему легкие, как газ смертнику в газовой камере. Перед ним, во весь свой маленький, статуэтковый росточек, живая, фарфоровая, мертвая, задушенная, в мастерской у Снегура, в японской квартире на проспекте Мира, встала Анна.
И запах жасмина, доносящийся от Изабель, обратился в запах лаванды.
– Одна женщина, – сказал он упавшим голосом. Снова воткнул в рот сигарету. Она дрожала в его сцепленных зубах. – Жена одного японца. Бизнесмена. Очень милая женщина. Она меня любила, а я ее не любил. Я встречался с ней. Очень стильная женщина. У нее – знаешь?.. – в доме на полках японские куклы сидели. И слушала она только японскую музыку. И больше всего любила апельсиновый сок. Или… грейпфрутовый.
Скорее бы закончился этот расспрос. Что она, как на допросе.
– А… где она сейчаль?.. – Изабель поправилась. – Сей-час?..
Ну, что ты дрейфишь, парень, что ты тушуешься. Дворник занюханный. Мафиозо недовинченный. Первый раз выстрелил в человека – и попал. Первый раз душил человека – и задушил. Что ж ты первый раз правду-то боишься сказать. Рот разинуть. Одно признанье – и нет у тебя Изабель. Это проверка. Это лакмус. А вдруг она тебя и такого… примет?..
Скажи ей: я ее убил. Скажи: она на кладбище в Москве. Или в Токио. Ты же и правда не знаешь, где господин Канда ее похоронил.
– Сейчас?.. – Он вел время. Он курил сигарету так, будто молился Богу, будто лакомился вареньем. Будто целовался. – Сейчас?..
Ты убил ее. Ну!
Изабель простит тебя. Неужели ты не видишь, что она – Хендрикье. Она простит тебя, заплачет над тобой, полюбит тебя по-новому, по-иному, и уйдет с тобой куда хочешь – в тюрьму, в ссылку, на пытку, на необитаемый остров. В… да, в смерть. Она умрет с тобой, если ты захочешь, так она любит тебя. Чего же ты боишься?!
– Уехала в Японию, – сказал Митя, сминая окурок в хрустальной пепельнице на столике. – Она не смогла бросить своего мужа. Он был очень богатый японский бизнесмен. А я был никто. Я был тогда дворник. Я был бедный дворник и бедный художник. Никто не покупал мои картины. А вот она купила.
Она купила ВСЮ ТВОЮ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ, Митя. Все, что происходит с тобой сейчас и еще произойдет. А ты не поставил ей никакого памятника. Ни золотого. Ни чугунного. Ни красками на холсте.
Это только Модильяни писал своих мертвых любовниц. Он будет писать свою живую жену. И ей совершенно незачем знать про ужасы его прежней жизни.
– О!.. – Изабель задохнулась от восторга. – Какой она добри!.. А ты… ты будет писаль менья?.. пентюр… живо-пис…
– Бесконечно, Изабель, – сказал Митя и обнял ее, горячую, беззащитную, хрупкую, светлую, смеющуюся, счастливую. – Я буду бесконечно писать тебя. Ты устанешь. Ты сама первая попросишь о пощаде.
Господи, какое счастье, что они скинули – с плеч долой – эту картину, что так жгла Мите душу. И он, и Папаша теперь при деньгах, и немалых.
Решено: они с Изабель покупают особняк – негоже ему держать такую французскую принцессу в двух тесных комнатенках высотки на Восстанья.
Решено: они будут жить между Парижем и Москвой, ибо Изабель долго без Парижа, как птичка без цветущего миндаля, не сможет, да и у Мити и Эмиля в Париже найдется немедленно куча дел – только успевай проворачивай. Дьяконов, пока Митя с Изабель женихались, успел нарыть, вынюхав мафиозным собачьим носом, несколько тропинок, ведущих прямиком к французскому валютному золоту, к банковским неразрытым кладам. Французики думали – они сидят тихо; Эмиль раскопал одну тайну, потянул за веревочку… Банки “Сосьете Женераль” и “Лионский кредит” пустили козла в капусту.
Парижский клуб еще не понял, какого зверя он прикормил. Эмиль запустил когтистую лапу в святая святых французских финансов и вынимать ее оттуда не собирался. Те, кто поддерживал его во Франции, завтра станут его злейшими врагами, но сегодня он поживится, он перехватит у страны валюту якобы для России, а в Международном валютном фонде есть такие каналы, ручейки и речки, – золотая вода по ним потечет прямо к нему в карман, а уж он и его “шуйцы” и “десницы” найдут, куда выгодней всего вложить перекачанное…
Земля опутана денежными потоками, как кровеносными сосудами. Он – врач. Изабель бы поняла его. Он не дает земле умереть. И прежде всего он не дает умереть себе и себе подобным, ибо, если они умрут, – кто же будет мир спасать?.. Врачу, исцелися сам!.. И они должны взращивать себе подобных. Этот Митя… ну что ж, так вышло все в Париже… нарочно не придумаешь… в книжке напиши – скажут: вот безудержная фантазия у беллетриста, Дюма-отец, Бальзак, Мопассан… ну, да Лора не слишком расстроится, ведь она не мать, а если сообщить матери… да жива ли мать Андрея, ведь она и тогда уже была важная матрона, как это она еще ухитрилась забеременеть, ума он не приложит до сих пор…
Да, жизнь между Парижем и Москвой, это романтично, c’est charmant, c’est magnific. Придется учить язык. Ему, безмозглому лентяю. “Дмитрий Морозов вернулся в Россию из триумфальной поездки в Париж с юной красавицей-женой!”, “Дмитрий Морозов убивает на дуэли знаменитого физика Андрея Дьяконова и женится на его очаровательной супруге!”, “Уникальная продажа на аукционе Филипс: неизвестный миру Тенирс продан в Америку за тридцать шесть миллионов долларов!” – прикинь, какие грандиозные газетные шапки могли бы быть состряпаны в столице нашей почернелой от горя, инфляции, голода и войн любимой родины, если бы…
Если бы – что? Если б он был знаменит, только и всего! Как все просто!
А пока он – серая мышь, серая вошь. Будь он хоть богат, как сам Форд или Рокфеллер. “Мы не дети Рокфеллеров” – полезло в голову детское присловье. Он уже дитя Эмиля Дьяконова. Почти дитя. Эмиль по приезде в Москву обещал его усыновить. Чтобы оформить на него все бумаги, передающие капиталы по наследству.
Написал ли Эмиль завещание?.. Вне всякого сомнения. Как Лора отнесется к этой новости, ко всему, происшедшему во Франции?.. А никак. Спокойно. Ведь она не захочет терять молодого любовника. Они же все, старые бабы, говорят, что после ночи любви у них улучшается цвет лица. Он выполняет функции ночного крема. Вы-пол-нял. Будет ли он спать с Лорой при живой жене?.. А… Инга?..
А не пошла ли на все четыре стороны эта загадочная Инга с ее набором бархатных масок. Мы же не в Венеции живем. Выдумала тоже развлеченьице. Пускай веселится с кем-нибудь другим.
При одной мысли об Инге у него захолонуло в груди. Страх заполнил его, как вода или вино наполняют пустой сосуд.
Они летели на самолете. Не аэрофлотовском, слава тебе Господи, – компании “Эр Франс”. Чистота, красота. В бизнес-классе – как у Христа за пазухой. И пледы, и наушники с музыкой, и ветчины, и безе, и божоле, и мускаты, и жареные курочки через каждые полчаса. Книги, газеты, кондиционеры. Санаторий.
Он обернул лицо к Изабель. Его юная жена, вдова Андрея Дьяконова, мирно и сладко спала, чуть посапывая, склонив голову ему на плечо, уткнувшись лбом в его бугристую мышцу. Ого, на нем, худом доходяге, наросли мышцы.
В здоровом теле здоровый дух. С любовницами покончено. У него есть законная жена. Он должен, наконец, заняться делом. Он обскачет, обставит всех детей Эмиля Дьяконова, и глупых и умных, и законных и бастардов. Он станет его истинным наследником. Он изучит финансы, банковское дело, языки – английский, французский. Он будет сперва его левой ногой, потом правой рукой, потом его сердцем, потом, если Бог даст, его головой. Эмилю не страшно будет умирать.
Он, Митя Морозов, искупит вину перед ним. Он искупит вину перед мертвым Андреем. Он искупит, своей безумной любовью к Изабель, вину перед мертвой Анной, перед забитой, затравленной дурочкой Хендрикье, молча любившей его. Он, тайный убийца, станет наконец, человеком. Большим человеком. Он могуче вырастет – как сибирский кедр, что шумит там, за его узкой тощей мускулистой спиной, на берегах Байкала, на берегах Енисея. И люди станут уважать его.
Пусть на этом пути он будет жесток с людьми. Но он больше не убьет. И не солжет. И не украдет. И не…
Самолет резко пошел на снижение, дал страшный крен на левый борт. Изабель проснулась и ухватилась руками за Митю.
– О?.. мы падаль?.. самолет – горель?!..
– Нет, нет, дорогая, и не падает и не горит, – поспешил успокоить ее Митя, обняв и прижав к себе. – Это просто небесная коррида. Там, в небесах, Бог напустил стада черных туч на ангелов-матадоров, и ангелы сражаются с тучами, и молнии летят, как бандерильи. Не бойся.
Он все шептал это: не бойся, не бойся, – как будто заклинал ее, а у самого на сердце, как печать, поставленная расплавленным воском или сургучом, горел сгусток страха: не зарекайся. Не отрекайся ни от сумы, ни от тюрьмы. Ты, сам страшный, живешь в страшном времени. Как же ты можешь поклясться, что ты больше никогда не своруешь. Эмиль тебя будет учить именно этому, если ты по самую задницу влезешь в хрустящие горы баксов. Он будет учить тебя прелюбодействовать, если для пользы дела надо будет охмурить богатую и владетельную бабу.
Только убивать ему не надо будет тебя учить. Ты его сам этому можешь научить. Выстрелить из кольта впервые в жизни, понюхать ствол и бросить прочь: так-то, Папаша.
КРУГ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
О, как же хороша на поверку оказалась жизнь между Парижем и Москвой!
Изабель не могла нарадоваться. Она, как дитя, удивлялась всему – и белокаменному храму Христа Спасителя, его красно-золотому куполу, похожему на средневековый шлем, и алым изящным башням Кремля, – она чуть ли каждый день бегала в Кремль, шаталась там, любуясь его красотами, и Митя даже однажды, чтобы ласково подтрунить над ней, купил к ужину торт в виде красных кремлевских башен, – и роскошному метро: сэ манифик, это есть подземни Лувр, Митья, ма пароль!.. – и огромному, крылатому, похожему на морской трап Крымскому мосту, и нищенкам у церкви, и развалам овощей на Центральном рынке: в Париже давно уже не существовало рынков, на которые бы из деревень и с ферм привозили капусту, фасоль, мясо, рыбу, соленья, золотые мячи апельсинов и бронзовый тягучий мед в банках и чанах!.. вместо Чрева Парижа – давно уже колоссальный подземный маркет с витринами под стеклом, с магазинным сервисом, и никаких тебе зеленщиц на возах!.. а тут… – она брала осторожно, двумя пальцами, вареного рака, она заливисто смеялась, когда Митя навешивал ей на шею связку сушек, как бусы, – она бродила по вернисажу в Измайлово часами, выбирая себе то брошь, то браслет, то кожаную сумочку, попутно прикупая у мастериц все “а ля рюсс” – матрешек, самоварчики, расписные ложки и чайники, вышитые салфетки и полотенца, – и, оборачивая восторженное, румяное личико к Мите, вздыхала: как жаль, что мы не можем купить всего, всего!.. “Это все твое, – отвечал Митя и широко обводил рукой гомонящее торжище. – Это все принадлежит тебе. Вся Россия. Ты будешь русской. Ты станешь русской. Тот, кто прожил в России три дня, в ее нутре, у нее в животе, тот не забудет ее никогда, того она возьмет всего”. – “Как Иона… во чреве китовом?!..” – хохотала Изабель, примеряя к себе кулон из саянского лазурита, выточенный в виде полумесяца.
Они летали в Париж, на Елисейские Поля, когда им вздумается – Изабель восклицала за завтраком: хочу погулять в Тюильри!.. – и Митя бежал в агентство “Эр Франс” и брал билет; или Эмиль внятно говорил Мите, назидательно поднимая толстый, сарделькой, палец: по-прежнему идет падение котировок, Сынок, я вынужден торчать здесь, как бы чего не вышло, а мне плыть и быть открывать в Париже и Лионе три оффшорные компании, езжай, справишься один, без меня, Изабель тебе поможет, – и они летели снова, и Митя погружался с головой в дела, о которых он еще не помышлял вчера; а если б ему сказали, что он будет этим заниматься в жизни, – он бы пальцем у виска повертел.
Он знал теперь, что российские компании стоили гроши, копейки по сравнению с американскими или японскими. Японскими. Выбрось из головы эту страну, Митя. Думай лучше о Франции.
И о том, что станется с Россией вскорости, если все энергетические, газовые, машиностроительные, транспортные, коммуникационные компании твоей страны, вместе взятые, стоят не дороже “Toyota Motors”, производящей автомобили, но и не дешевле швейцарской компании “Novartis”, что производит лекарства.
Эмиль внушал ему: у России перспективы, Митя. Мы живем не в умирающей, а в перспективной стране! Запомни это!.. А перед Митей вставали мощные сибирские просторы, встопорщенная шкура тайги, отломы приречных кряжей, байкальские писаницы, кубово-синие озера между рыжих, как лисы, осенних лиственниц, метельные отроги Саян и Джугджура.
Сколько богатств. Как они сиротски брошены, нагло разворованы. Да, все раскатывают губу на Россию. Прав ли Эмиль, что подминает Россию под себя?..
Уж лучше Эмиль, думалось ему, лучше его друзья – Бойцовский, Прайс, Блох, с которыми познакомил его Папаша и которые уже положили на Митю внимательный, изучающий глаз, – чем захватчики извне, оккупанты. “Митька, охламон, будет война, если мы не приберем вовремя к рукам то, что должны прибрать, – взахлеб куря, растолковывал ему Эмиль после очередного сборища финансовых олигархов в Кремле. – Будет война, и на ней наживемся не мы. Мы лишь проиграем, но будем, как всегда, делать вид, что выиграли. Сечешь поляну?..” Митя кивал. Он уже начинал кое-что кумекать. Он смекнул, что Эмиль входит в круг владык, занимающихся мировыми проблемами, не только российскими. А Эмиль понял, что под Митиными черепными костями – быстро соображающее серое вещество. “Ты умный, Митька. Ты только притворяешься. Ты напускаешь на себя. Никакой ты не художник. Ты финансист. Ты продолжатель моего дела. Я… научу тебя… всему. Если уж ты мой Сынок”.
Эмилю ничего не стоило проделать все процедуры по усыновлению. Митя мог быть спокоен. У него была теперь двойная фамилия – Морозов-Дьяконов.
Вполне русская, вполне живописная. Как у настоятеля православного собора, у какого-нибудь бородатого батюшки, пахнущего воском, ладаном и осетриной горячего копчения.
А Изабель?.. Изабель взбивала на кухне белки. Она пекла в духовке безе для Мити. Она взбивала белки веничком на кухне шикарного, в итальянском стиле, двухэтажного особняка в Гранатном переулке, – Митя купил его нарочно рядом с площадью Восстанья: ему не хотелось далеко уезжать от мест, полюбившихся ему в Москве.
Изабель выходила на балкон и смеялась: это же балкон Джульетты!.. Ромео, где ты, о зачем же ты Ромео!.. Покинь отца и отрекись навеки от имени родного… “Я уже взял другое имя, – улыбался Митя. – Двойная фамилия придала мне важности… ты не находишь?..” И он выпячивал нижнюю челюсть, как дуче, и смешно, по-клоунски, надувал щеки.
Изабель знакомилась с Москвой, и Эмиль выводил ее на разнообразные приемы, на рауты, тыкал носом в высший свет; частенько он брал ее на великосветские тусовки одну, без Мити – ему льстило, что невестку принимают за его жену – те, конечно, кто не знал вездесущую седую лису Лору.
Изабель блистала обнаженными тонкими плечами, смеялась смущенно, аккуратно брала пальчиками с подносов бокалы с шампанским за хрупкие ножки. “Ваша невестка – Снегурочка”, – восхищенно бросил походя Эмилю Бойцовский, пробегая мимо на рауте в Кремле. Эмиль признательно поглядел ему вслед. Совсем недавно они с Бойцовским сговорились о денежном переделе России. Ему показалось – им обоим удалось обойти все возможные подводные камни.
Эмиль был членом хорошо засекреченного и тем не менее кулуарно – а также широко – известного по сплетням и слухам, по байкам и пересудам, по дешевым книжонкам, валяющимся на лотках там и сям, по дерзким газетным статьям, просачивающимся в прессу с настойчивостью долбящей камень капли, за которые безжалостно убивали журналистов, подстерегая их в подъездах, настигая в собственных машинах, стреляя в них в упор из пистолетов с новейшими глушителями, – выдуманного и виртуального, а на деле вполне настоящего, то от этого не менее таинственного Мирового Правительства, цель которого звездными буквами была вышита на черном знамени земной ночи: ЗАВЛАДЕТЬ И УДЕРЖАТЬ.
Все улыбки, все танцы, все милые беседы, все яростные ругательства, все умные расклады, все испещренные цифрами и подписями бумаги – все, что делал Эмиль, сводилось к одному: завладеть и удержать. Ибо завладевали многие до него, а удерживали…
Не удерживал никто.
Если та сеть мировых денег, что опутала Землю великим клубком, будет доступна ему, как доступен Интернет, если он, Эмиль Дьяконов, будет крепко держать в руках вьющуюся кудель, опоясывающую грудь мира, диктующую миру вдох и выдох, – он станет некоронованным царем. И настоящего Царя России уже не надо будет. Если Россия без владыки не сможет – а она не сможет!.. – сделаем куклу на ниточках. И будем дергать. Рожу разрисуем лучшими красками. Митька поможет.
Иногда друзья из правительства – не из Мирового, о, им еще до Мирового было семь верст киселя хлебать, – а из российского приезжали к нему домой, покурить, попить кофе с коньяком, так грациозно подаваемый седой и царственной Лорой, поболтать о пустяках. Они должны были хоть на время отключать свои бедовые головушки от тяжелых расчетов. Сколько, куда, что и зачем потечет, и можно ли обойтись без перекачки, востребуя ресурсы на месте, и слушать ли жалкие оправданья инвесторов, и рисковать ли самим, вкладываясь в это заведомо дохлое дело!.. – о, как они все смертельно уставали от таких разговоров. Им страх как хотелось поговорить о красивых женщинах, о невинных девушках, о заморских круизах, о… да что там разговоры, все это пустая брехня, а вот игра!..
У Эмиля дома частенько утомленные правители, расстегнув рубахи и ослабив хватку галстуков, а то и засучив рукава – брильянтовые запонки мешали, – резались в карты, причем в самые детские игры: в “дурачка”, в “девятку”, в “буру”, а были еще и “подкидной дурак” и “французский”; Изабель смеялась: а французский дурак – это что, пижон?..
Митя возмущался: пижон – это же модный хлыщ, это стиляга!.. ну, модняцкий парень, золотая молодежь!.. – а Изабель всплескивала руками: о, ты не так думаешь, по-французски “пижон” – это деревенский увалень, дуралей, полный тупица и дебил!.. А кто же тогда у вас, во Франции, пижон?.. – любопытствуя, спрашивал Митя, и Изабель, не моргнув глазом, отвечала: шантрапа!.. Чудеса!.. Все наоборот… У нас шантрапа – это нищий, одяшка… “О-деж-ка?..” – хохотала Изабель, от смеха в изнеможении валясь на диван.
Игроки расстегивали жилетки. Приглашали Митю принять участие в игре. Он, вздохнув, подсаживался. Играли не на деньги. Играли на чепуху: на мандарины, на орехи, на коробку шоколадных конфет, на красное яблоко, что ставили на кон, дико хохоча. Лишь однажды при Мите толстый одышливый олигарх – кажется, Блох его фамилия была, – выдернул из обшлагов драгоценные запонки и швырнул их на диван: играем!.. Все вытаращились, но виду не подали, сухощавый, чернявый, насмешливо-язвительный Бойцовский сдал карты. Запонки выиграл Бойцовский. Взвешивая их на ладони – золотые, правда, не с алмазиками, а всего лишь с янтарями, – Бойцовский усмехнулся, проблеснув золотым зубом: я возвращаю ваш портрет и о любви вас не молю. И протянул их Блоху. И тот взял, глазом не моргнув.
“Россия умирает, – сказал Прайс, круглолицый латыш с резко торчащими скулами, с белесым ежиком коротко стриженных волос надо лбом. Чем-то неуловимым он напомнил Мите Лангусту. – Это погибшая страна, господа. Ее нам надо будет поделить по справедливости. Но лишь тогда, когда ее туша уже совсем разложится и засмердит”. Эмиль вскинул на Прайса глаза. Сощурился. Бойцовский медленно, пристально глядя на них обоих, тасовал колоду. Да, они все были игроки. Да, кто-то – один из них – должен был выиграть. Выиграть все. А не жалкий маленький мандарин. Не янтарные запонки. А хоть бы и Янтарную комнату. А все подчистую. Для этого надо было играть чисто. Делать верные ходы. Кто из них, игроков, отхлебывающих Лорин крепкий кофе, вытирающих широким шелковым галстуком потные щеки и подбородки, мог похвастаться, что ни разу не сделал плохого или неверного хода?! Кто из нас без греха, пусть первый бросит камень… в кого?.. В ближнего своего?.. В международный валютный рынок?.. В существующий строй, верней, в отсутствие его?.. В Россию, растерзанную, стонущую, раненую, лежащую в крови последней, чеченской, всех внутренних тайных, невидимых войн, идущих каждый Божий день, у их толстобедрых, крепко стоящих и на этой земле, и на землях иных государств, отъевшихся ног?.. “Россия жива, – нахально смеясь Бойцовскому в лицо, отпарировал Эмиль. – Только вот живые претенденты на ее тайный престол могут умереть. Скапуститься в одночасье. И следов не найдешь. Если, конечно… играть неправильно. Правильный игрок…” – “То есть жулик?..” – насмешливо вставил Бойцовский. “… выигрывает всегда”, – тяжело докончил Дьяконов. Отвернулся. Опрокинул чашку с кофе себе в рот под трясущимися усиками, как рюмку коньяку.
Через короткое время – на часы и в календарь никто не смотрел – Бойцовский стал другом Мити. Он оценил Митин пристальный, понимающий взгляд тогда, во время пикировки с Эмилем. Он догадался: этот долговязый, вечно небритый мрачный мальчик понимает больше, чем знает, его можно быстро приручить и натаскать – ему, Прайсу, Блоху, пройдохе Загорскому, а не Эмилю.
О, он отнимет у Эмиля сахарную косточку! Эмиль не успеет ее разгрызть. Бойцовский пригласил Митю к себе в кабинет, в Кремль. Митя, шествуя мимо Успенского собора, останавливаясь перед Царь-Колоколом, опоздал к Бойцовскому на десять минут. Бойцовский, глядя на часы на запястье, сказал резко и жестко: сейчас вы опоздали на десять минут, молодой человек. Завтра вы можете опоздать на всю жизнь.
Мите не надо было повторять: он запомнил эти резкие, как ножевой удар, слова накрепко – тоже на всю жизнь. Бойцовский рассказывал ему то, что Эмиль хотел бы рассказать, да не мог. Митя понял: они все против Эмиля. Потому что Эмиль вышел на иные мировые рубежи. А они на них выйти не могли. Чтобы на них выйти, они должны были подкопаться под Эмиля. Его, Митиными, руками.
Он размышлял: почему им было попросту не убрать его, не выстрелить великому Дьяконову в затылок или в спину, как другим бизнесменам либо политикам?.. Ведь проще пареной репы… О, нет. Они вынюхали силу Эмиля. Они хотели проникнуть в его тайны, на его территорию. Они хотели сделать его союзником. Они понимали: он хорошо школит своего Сынка, и Сынок, лучше чем кто бы то ни было, сможет им посодействовать. Они не желали стать инструментами, щупальцами Эмиля. Они хотели сделать его своими щупами и бурами.
Беда была в том, что они все, Эмильевы владетельные друзьяки, засматривались на Изабель, а Эмиль, как назло, взял моду прикатывать из банка ли, из Кремля ли со всей компанией прямо в особняк Мити – ах, опять картежная дурацкая игра, опять нежная музыка – Изабель, ласточка, поставьте Патрисию Кас, это же моя любовь!.. у вас есть ее последний альбом, два месяца назад вышел!.. ну, в Париже-то небось еще раньше!.. кажется, “Последняя птица” называется!.. – и Митя вынужден был выставлять не только кофеек на стол – пусть это лиска Лора там, на Тверской, у Папаши, кокетничает, играет в тонную даму, – а что-нибудь покрепче, вынимал из бара “арманьяк”, “бурбон четыре розы”, и Изабель озорно подскакивала, заглядывая в рюмочку, как в золотое колечко при Крещенском гадании: о, бурбон – любимый напиток Анри Четвертого!.. я специально из Парижа захватила в этот раз, чтобы перед вами, Борья, похвастаться!.. – и Бойцовский мило улыбался на это фамильярно-наивное “Борья”, глотал смело “четыре розы”, заходился в мучительном кашле: в напитке французских королей крепости было под девяносто градусов – больше, чем в ямайском пиратском роме. Избель имела успех у кремлевцев, и сначала Митя гордился и выпячивал грудь, потом стал присматриваться, потом – пытаться грудью заслонить Изабель от слишколм наглых, вызывающе откровенных взглядов то Бойцовского, то Прайса. Оба знали толк в бабах. Оба были безмерно избалованы ими. Пресытились. Устали.
Изабель была нежная, юная, новенькая, соблазнительная. Когда они узнали, что пташка – из семьи Рено, они оба взвились: да как это мы пройдем мимо!
Они оба заключили друг с другом пари. Бойцовский сказал: выиграю я, и вскоре. Через три недели. Рыжий латыш процедил: я выиграю. Мой срок – десять дней. “Да ты, брат, просто “шаттл” какой-то, не верю, гляди, как влюбленно она таращится на Дмитрия”, – дернул плечом Бойцовский. “Это игра, Борис, – резанул Прайс. – Это тоже игра. Я играю. Играешь и ты. Что ставим на кон?..” Бойцовский опустил голову. “Если выиграешь ты, Роберт, – глухо выдавил он, – я разрешаю тебе вступить со мной в пай. Я тебя не обижу. Если выиграю я…” Бойцовский впился глазами в его веснушчатую, курносую бульдожью морду.
“Ты даешь мне кредит для открытия моего банка. Я задумал открыть его в этом году, и я это сделаю… твоими руками”, – чеканя слоги по-прибалтийски, сказал Прайс, глядя Бойцовскому прямо в лицо. “А если… никто из нас не выиграет?..” – спросил он, обмеряя взглядом замаслившуюся рыжую мордаху Прайса. Молчанье длилось два, три мига. “Если не выиграет никто – объекта для сраженья не будет вообще. Я найду способ это сделать”. Бойцовский вытаращился, потом расхохотался.
“У тебя получится?..”
“У меня все всегда получается, Борис. – Круглые собачьи глаза глядели из-под белесых бровей серьезно и бесстрастно. – Я найду человека. Я же сам не стану руки марать. А вазу, что не продана с аукциона, лучше разбить. Чем она попадет в руки плебея”. – “А мы с тобой благородные, Роберт?..” Прайс не ответил. Закурив, он рассеянно вглядывался в дым, расходящийся над его головой кругами и кольцами. Бедная девочка. Но игра есть игра. А все же лучше бы они поставили на войну в Чечне. На лимоны баксов в откуп набычившейся Европе. На генерала Карягина. Генерала так или иначе убьют. Преднамеренно или случайно.
– Мир балансирует, Митя. Мир идет по канату, я же тебе говорю. Мир – это карточный домик. Ма пароль, как говорит наша милая Изабель. Дунь – и он развалится… а ты бросишься собирать карты, снова складывать их, возводить картонные стенки: Боженька, спаси даму и короля!.. – ан нет, этот вихрь – настоящий, этот ураган сметет все… вотн в Европе же смел, стер все с лица земли, какие наводненья, какие жертвы… детей находили под проводами высоковольток – обугленных, рты открыты в крике, зубки торчат… а стихия, Митя!.. Ты ее не остановишь!.. О, звонок… погоди… – Эмиль взял трубку сотового. Поднес к уху. – Але, але!.. Вас слушают!.. Говорите!.. Да, это дом Морозова-Дьяконова!.. Да, дома!.. Минутку!.. – Эмиль протянул трубку Мите, оторвавшегося от поцелуев с Изабель в углу дивана – забравшись на диван с ногами, они предавались невинным забавам прямо на глазах у завидующего и вздыхающего Папаши. – Сынок, это тебя!..
Митя взял трубку, и его пальцы странно похолодели. Только сейчас ему было жарко, томно от быстрых и медленных, от озорных и обволакивающих поцелуев жены, они играли в любовь, как два зверька, они наслаждались друг другом везде, всегда, каждую минуту, и он горел, как в огне, – как вдруг холод обдал его изнутри, и он жадно, со страхом прислушался к голосу, донесшемуся из трубки так неожиданно и знакомо.
– Дмитрий?.. – И ее голос был как лед. – Лора сказала мне твой новый телефон. Я думала, – он услышал в мелодичном голосе ледяную улыбку, – ты уже умер. Мог бы и разыскать меня. Я не в джунглях. Не эмигрировала.
– Ты жива?.. – глупо, глупее некуда, спросил он.
– Жива и здорова. – Змеиная улыбка, он это видел через все ночи, звезды, телефоны и провода, через все засыпанные осенними листьями крыши Москвы, играла на ее губах. – Как видишь. Ты же видишь меня сейчас.
Как она всегда умела читать его мысли. Как она всегда смеялась над ним.
Его заколотила дрожь. Как ужасно, что Изабель рядом. Вот она уже подползла к нему по узорчатой шерсти дивана, прижалась к плечу, ластится, заглядывает ему в лицо: ну, с кем это ты там так серьезно, брови насупив!.. разгладь морщинку!.. – и трогает пальчиком у него между бровей. Ах, отстань, Изабель. Он сбросил ее руку. Закрыл ладонью трубку. Нахмурился, отвернулся, залился краской. О Боже, когда же он отучится краснеть, как грудной младенец.
– Да, я вижу тебя, – он выталкивал из себя слова, как чугунные шары. – Зачем ты позвонила?.. Что тебе… надо?..
– Ты весьма нелюбезен, золотой мой Митя, – улыбка, одна лишь улыбка, алый рот, розовые щеки, он видел их и с закрытыми глазами, эту алую верхнюю губку под бархатной маской, – я хочу лишь видеть тебя. Лишь увидеть тебя – мне больше ничего не надо.
Она сказала это, а он услышал: я хочу тебя. Я возьму тебя. Я уже беру тебя.
В ухо вонзились гудки. Он швырнул трубку на диван. Изабель, испуганная, еще сильнее прижалась к нему.
– Пле-хой звонок?.. – Ее бледное личико выражало тревогу, сочувствие, нежный рот уже искал его рот – утешить, обласкать. – Некорош извести?..
– Извести, – сказал Митя и подумал: все равно изведут. – Да нет, ничего, ерунда. Я должен буду завтра сходить в одно место… по одному мокрому делу. Схожу и быстро вернусь. Моментально. Не задержусь.
Эмиль из-за стола недоверчиво смотрел на него. Господи, как постарел Папаша за этот год. Как тяжела борьба за деньги и за власть. И его, Митю, в эту кашу бросили, как тыкву, и так грубо порезали. Митя натянуто, гуттаперчевыми губами, улыбнулся. Улыбка на губах. Должна быть всегда улыбка на губах. Где угодно: на рауте, под пулями, на поле сраженья, во дворце на приеме. В подъезде, где на тебя нацеливают беспощадное дуло. Улыбайся тому, кто стреляет, в лицо. Ты же улыбался Андрею тогда, в парке Монсо. А Инга хороша. Звонит нагло, не краснеет. А чего ей краснеть. Да и тебе тоже. У вас же с ней не было ничего. Ни-че-го. Легкий светский флирт. Ресторанные посиделки. Разломленная на двоих шоколадка, клубничный ликер. И все. Все!
– Если я завтра… вдруг… ну, приду поздно, – хрипло сказал Митя, глядя, как его худые пальцы нервно мнут потертую брючину, – или… может… вообще не приду, вы не… беспокойтесь. Не волнуйся, Изабель. Это всего лишь одна проверка тут. Чепуха такая. Но там надо быть. Не бойся.
Изабель побледнела еще больше.
– Возьмьи с сьебе револьвер, Митья! – крикнула она напуганно. Бедняжка, она думает – это мужские политические разборки. Плохо быть наивным. Но и всевидящим тоже не сладко быть.
– Возьму, – кивнул он. Он давно уже научился хорошо стрелять. Он забрал с собой из Парижа один из кольтов Андрея, из которых они стрелялись на дуэли. Другой он оставил в квартире на Елисейских. Мало ли зачем пушка во Франции пригодится.
Боже, бежать, бежать, бежать без оглядки, скорей, скорей. Бежать по вечерней, гаснущей, тающей в дегтярной тьме, искрящейся, мечущей фонарные и рекламные молнии, безумной ночной Москве, томящей расстояньями, изводящей подземными темными перебежками, слепым миганьем светофоров, толканьем прохожих – Боже, зачем ты такой транзитный город, Москва, я ненавижу тебя, сколько же в тебе народу, как сельдей в бочке, и все спешат и бегут, и наступают друг другу на ноги, и безумствуют, закручиваясь в воронки, в водовороты, бросаясь под машины, когда дают зеленый!.. – бежать скорее к тебе, ты, женщина, ты там, за углом, за поворотом, ты ждешь, а я так давно не видел тебя, я же тебя не знаю, ты всегда под маской, ты таишься от меня, и я не знаю, добрая ты или злая, ужасная или прекрасная, я не знаю твоего тела и лица, я не знаю твоей души, сердца; и вот сегодня узнаю – если ты позволишь.
Бежать! Инга, ты рядом. Ты уже тянешь руки. Нет, ты стоишь под часами, наглая, надменная, и губы твои изгибаются в ядовитой красной улыбке под ярко-алой, как кровь, маской. Ты идиотка. Ты сексуальная маньячка. Что ты делаешь в постели со своими мужиками, которых у тебя – сотни, тысячи?! А ничего.
Сидишь, голая, скрестив ноги, и смотришь на них из-под маски, а они содрогаются и корчатся тут же, у твоих коленей, обернув к тебе мученические лица. Но я не мученик, Инга. Я не твой мученик. Я не твой искушаемый. Ты меня не искусишь. Это я сейчас соблазню тебя. Сам. Мужчина все всегда должен делать сам.
Он бежал по Москве, меряя улицы и проспекты размашистыми, сумасшедшими, динными шагами – вот Никитская, вот Тверская, вот Никольская, вот Неглинка… Он блуждал, он бегал кругами, он забыл Москву, он разъяренно скрипел зубами, путаясь в ней – улицы наслаивались на улицы, как тесто в слоеном пироге, и все вертелось у него перед глазами, и ему казалось – он сходит с ума.
Солянка!.. Китай-город!.. Боже, какая осень, какой смертельный листопад. Золото листьев метет, как желтый снег. Вихри листьев бьют ему в лицо, обнимают ноги. Осенняя поземка. Черный асфальт. Золото на черном, как это красиво. Это просто японщина какая-то, восточный морок.
И крупные звезды в небе – так странно, они горят над фонарями, дикие небесные фонари. Зеленые звезды. Зеленые кабошоны. Он представлял, как он сожмет Ингу в объятьях, как рванет ткань у нее на груди, разорвет. Она давала ему когда-то целовать свою грудь. Он тогда чуть с ума не сошел, нежно касаясь языком розовых сосков. Теперь он вопьется в них ястрбом, зверем. Он задавит ее. Он не даст ей дышать. Она захочет закричать – и закричать не сможет.
Что это?!.. Господи, это же Политехнический музей. Это же Китай-город. Что же он круглит на одном месте, что же носится кругами, как бешеная собака, высунув язык, по центру, все сужая круги, все безумней глядя на высверки реклам, на чирканья машин по страде. Китай-город, и красная кирпичная стена напротив, и старая церковка – куполок сиротский, маленький, и голуби сидят на зубчатой стене, и морковные зубцы горят темно-алым, как засохшая кровь; отчего он все время о крови думает?!.. ведь он же на свиданье бежит… На свиданье?!.. Не ври себе. Ты бежишь на гибель. Ты знаешь, что ты погибнешь. Когда ты услышал ее звучный насмешливый, наглый голос в трубке, ты уже погиб.
Он беспомощно остановился, как вкопанный, у краснокирпичной церквушки, оглядывался. Нет! Ее здесь нет. Она не пришла. Она обманула его. Они смутно, неточно договорились. Она сказала: знаешь кирпичную старую стену на Китае?.. да, да, забормотал он, и она выдохнула: завтра в десять вечера, – прекрасно зная, что вся эта ночь – ее. Его. Их обоих. Что он все пошлет к черту. И молодую жену. И завтрашнюю встречу с Бойцовским. И весь мир впридачу.
Он ринулся было к подземному переходу, чтобы бежать дальше – куда?.. не все ли равно!.. может быть, она стоит, ждет за поворотом!.. – как вдруг на его плечо легла рука. Он обернулся, шатнувшись, чуть не свалившись в осеннюю волглую грязь. Прямо перед ним стояла женщина. Ее волосы, вьющиеся, закручивающиеся в кольца, трепал ветер. Она была без шапки, без шали, без шарфа. Она не мерзла. На ее щеках играл румянец. Зеленые глаза ярко, звездно, переливаясь, как влажный перламутр в только что вскрытой раковине, сияли под плотно прилегающей к лицу маской. Ему показалось на миг, что маска – из кожи. Не из ткани. Из хорошо выделанной телячьей… или, может, человечьей кожи…
Он не видел, не понимал, одетой или голой она стоит перед ним. Меха на ней или кружева. Нищий плащ или богатая парча. Он видел ее лицо, вечно скрываемое от него. Розовое, нежно-румяное, пылающее здоровьем и насмешкой, гладкокожее лицо, и губы, эти губы, насмешливо смеющиеся – над ним, над всем светом.
Она шагнула к нему. Их руки сплелись.
– Идем, – просто сказала она. – Идем скорей.
Он обнял ее. Его ладони вплавились в ее спину под холодной, свисающей тяжелыми складками материей плаща.
– Ты снимешь маску?! – крикнул он. Его лицо приблизилось к ее лицу. Она протянула навстречу ему горящие красные губы, потом резко отвела их.
– Маску? – спросила. – Это мое дело – маска. Не твое. Ты тоже носишь маску. Но я тебя разоблачу. Я сниму маску с тебя. Это больно, да. Больно, когда сдирают живую кожу, Митя. Очень больно. Ты будешь кричать. Корчиться. Но я не остановлюсь, пока не сделаю этого.
Холодный ветер ударил в них порывом, взвил волосы женщины. Она крепко взяла его за руку. Повела за собой. Он оглянулся. Красные кирпичные зубцы старой китайгородской стены, скаля красные зубы, хохотали над ним.
Омут. Водоворот. Страсть. Он погрузился в нее сильнее, еще глубже, еще неистовей. Он утонул в черно-красных сполохах. Он падал в бездну. В черную дикую бездну, разверзавшуюся перед ним; ему казалось, он достигал дна, но нет – дно проваливалось, и он стремительно ухал вниз, падал, хватаясь руками за черноту, но вокруг была лишь одна пустота, и не за что было уцепиться. Глаза застилала красная пелена. Он находил губами губы женщины.
Инга?! Он не знал, не хотел знать, как ее зовут. Его руки обнимали живое обжигающее тело, голое тело женщины. И через миг он опять летел в пустоте. У него исчезло все мужское, ему казалось – он оскоплен, он перешел грань, за которой наслажденье становится ужасом, искупленьем, проклятьем, затем – пустотой.
И внезапно снова под ним начинало биться и трепыхаться живое, рыбье, птичье, женское, – и вдруг живая плоть уступала место горячей, раскаленной драконьей чешуе, расплавленному металлу, острым, колким граням мелких алмазов, лютому снегу, смерзшемуся льду, ставящему на его теле, ребрах, бедрах, коленях чудовищные ожоги: она превращалась, она перетекала из ужаса в ужас, и она была с ним, она была – его?!
Она присвоила его. Она ударила по нему хвостом, в грубых и колючих шипах, и убила его; она всадила в него длинные клыки и прокусила его; она стала, извиваясь под ним, живым и текучим огнем, костром, в который она сама бросила его, – и он покорно поддался ей, он рад был своему принадлежанью. Он уже не принадлежал сам себе.
– Что… – зашептал он, и алые губы впились в его рот, и он опять ощутил губами бездну, и ощутил чреслами ее чрево, и дикий жар пахнул из той преисподней, откуда мы все выходим на свет. – Что мы будем делать дальше, Инга…
Она сцепила руки и ноги у него на спине. Заструилась под ним, как горячая красная река. Она вся была – кровь и огонь. Она состояла из крови и огня.
– А что бы ты хотел сделать, Митя?.. – Щека, гладкая розовая щека под его губами. Под его скулой. Он продавливает тяжелой, как чугун, головой ее щеку. Он хочет влепиться в нее целиком расплавленным на ее костре телом, прободать ее, склеиться с ней, стать с ней одним существом. Говорят, в древности такие были. – Воля твоя теперь, Митя.
Тихий смешок вырывается из ее груди. У него мутнеет в голове. Гул, колокольный гул и звон наполняет пространство впереди, позади него. Он понимает: он пропал. Он сходит с ума. Уже сошел. И воля – не его. Воля – этой розовогубой женщины, что так и не стащила с себя, стерва, эту последнюю свою маску – из тонкой кожи, из человечьей оболочки. Страсть. Вожделенье и страсть. Последняя его страсть на земле, сколько лет он ни проживи – год или сто, – будет к этой женщине; к этим разъятым ногами и рукам; к этим глазам, что холодно, насмешливо глядят на него из прорезей кожаной маски.
Она шевельнулась под ним. Вырвалась из-под него. Оседлала его.
– Ты зверь, а я всадница, – сказала она, рот ее задрожал, она улыбнулась, и голубыми жемчугами блеснули зубы меж красными губами. – Ты повезешь меня. Ты всегда меня возил. Мы всегда царили. Ты встряхивал меня на холке своей. Ты зубаст, силен, красив. Из пасти твоей пышет пламя. Прыгай. Подбрасывай меня. Возноси меня ввысь. Ты мой пьедестал. Ты должен возвысить меня. Давай! Без остановки!
Он опять полетел в черную зияющую пустоту. Ослепительное сиянье встало перед его глазами. На него сверху обрушилась невыносимая тяжесть, горячие ноги обняли его, обхватили, сжали так сильно, что из его ребер вытолкнулся весь воздух, и он не мог вздохнуть, он задыхался.
Тяжелый, железный конский ритм сотряс его, он подбрасывал на себе бешеное тело. Нет, уже не тело. Раскаленный шар. Слепящий вихрь. В глубине вихря зародился визг, вопль. Митя почувствовал, что он превращается в сгусток мускулов, в гору изломанного, угластого железа. Он был уже косной материей. Он воплощался в то, чему не было имени в людском языке, в черный ужас, в гром, грохочущий в бешеной крови новорожденных и умирающих. И молнии били, били синими копьями вокруг него, и бубен гремел, и барабаны и тимпаны, и прямо над ним мотались золотые кольца в ушах всадницы, кольца рыжих волос, круглые дыни грудей, цепи на запястьях.
Когда он проснулся? За окном белел день. Он привстал на локте. Рядом с ним никого не было. Он встал с постели, голый, нашарил одежду, оделся, ничего не понимая, качаясь, будто вчера напился до чертиков. Он стоял у окна и глядел вниз, на улицу, на вихренье желтых и алых сухих листьев на дороге, когда вошла она – он услышал цоканье ее каблучков.
– Дорогой, – зазвенел ее звучный, как у певицы, голос, – ты готов, прекрасно. А теперь пойдем.
– Куда?.. – не оборачиваясь, спросил он. Он не мог обернуться, чтобы увидеть ее маску.
– Развлечься, – сказала она и засмеялась. – Ты не хочешь ни есть, ни пить. Ты хочешь жить. Там, куда я тебя поведу, люди живут. Или думают, что живут. Это твоя жизнь. Ты всегда хотел так жить.
– Дай мне хотя бы чаю! – Он резко повернулся от окна. – Это только боги не пьют, не едят! После такого безумья…
Зеленые глаза страшно сверкнули из-под маски. Она вытащила руку из-за спины и швырнула ему, как мяч, апельсин.
– Очисти и съешь. Дольку можешь кинуть мне. – Зеленые глаза обжигали, смеялись. – Если ты не жадный, конечно. Но я тебя знаю. Ты все сожрешь сам. И кусочка не оставишь. Только рот утрешь. Сладкий сок, да?.. Кое-кто тоже любил апельсин, да?..
Непрожеванная долька встала поперек Митиного горла. Он поперхнулся, закашлялся. У него едва не перехватило дыханье. Поднатужившись, он выплюнул апельсиновую кожицу на ладонь, с трудом дыша, отдуваясь, как после долгого мучительного бега.
Место, куда привела его Инга, она назвала, тонко улыбаясь: игорный дом. Это был странный игорный дом. Это был подпольный игорный дом. Это была не фешенебельная “Зеленая лампа” – такому притону далеко было до цивильной “Лампы”, где гуляли безнесмены, воротилы, олигархи и их детки. Митя оглядывался изумленно. Его невозможно было испугать, но он испугался. Это был или вертеп, или…
Стены, обтянутые черным. По стенам висело оружье – и старинные ружья и сабли, и винтовки времен первой мировой, и острые ножи и кинжалы дамасской стали, и револьверы и пистолеты новейших марок. Грязные столы не были укрыты никакими скатертями. Голые, будто оцарапанные собачьими когтями доски; между разбросанных по столешнице карт – кувшины с водой, початые бутыли с вином. За столами – люди. Молчаливые, сумрачные. Говорят мало. Перебрасываются никчемными, пустыми фразами.
С виду вроде даже равнодушные – к игре, к самим себе.
Потом вдруг кто-нибудь как взорвется, как хлопнет кулаком по столу.
Бутылки подпрыгнут. Карты тасуются снова.
Инга пошла вдоль столов, между столами, сдвинутыми в ряд, как на поминках, крепко взяв Митю за руку, сощуря глаза, напряженно вглядываясь в играющих. Со стороны казалось – она кого-то искала. Она радостно вздронула, и Митя понял – нашла. Наклонилась над седым господином, одетым не в смокинг, не в костюм – в грязное спортивное трико. Потрепала его по плечу. Господин обернулся. Ха, какая молодая морда, а какой уже поседелый, перец с солью, как… как Лора. Инга наклонилась к нему ниже, коснулась губами его губ.
– Привет, Бой, – весело прошептала она ему. – Я привела тебе нового игрока. Научи его жить. Жить, а не играть.
Седой господин оценивающе пощупал узкими острыми, будто восточными, глазами лицо Мити.
– А он сам изъявил желанье?..
– О, желанья хоть отбавляй.
– Что ж, тогда…
Седой господин махнул рукой на свободный стул рядом. Митя сел. Его руки дрожали. Мэтр сдал карты. Митя не знал, в какую игру они играют. Он что-то хотел сказать – седой властно поднял руку, прижал палец ко рту.
– Без трепа, – приказал он. – Делай то, что буду делать я.
Он бросил на стол десятку червей. Митя судорожно пошарил глазами, выбросил десятку пик. Седой бросил даму треф. Митя, обливаясь потом, выкинул тоже даму – пик. Седой, усмехаясь, вышвырнул из веера своих карт бубнового короля. Митя обежал глазами свои карты. Не было. У него не было короля. Никакого. Никакой масти. У него даже тузов не было. Ему было нечем крыть.
– Ну что же ты! Кидай! – крикнул седой. Митя жалко улыбнулся. Его щеки бились во вспышках тиков.
– У меня нет, – прошелестел он.
– Если ты не бросишь карту, – искривился в ухмылке седой, из графа мгновенно становясь пошлым бандитом, – тогда…
Инга бросилась вперед, к столу, завопила что есть мочи:
– Бросай карту! Ходи! Иначе тебе гибель!
Сборище идиотов, подумал Митя. Забегаловка. Вертеп. Желтый дом. Клиника Кащенко. Они убьют его за то, что он не выбросит на стол карту?! Это не игра. Это не игра, тебя же предупредили. И ты должен пойти немедленно. Чем хочешь. Ты не должен останавливаться. Не должен. Как это она ночью кричала тебе: “Не останавливайся!..”
Седой бандит, опираясь на руки, грозно, зловеще, отшвырнув колченогий стул, поднялся из-за пыльного, заляпанного вином стола, и Митя понял – он не задумается, чтобы вытянуть пушку из заднего кармана и наставить на него. Что же ты, Митя. Ты же художник. И в деньгах ты уже сечешь, и немного в политике. А этот козел… он умеет только стрелять. Так выстрели в него картой. Своей картой. И убей его. Убей его!
– На! – крикнул Митя, словно совал ему в бок кулаком, и шлепнул об стол картой, выдернутой наобум. Карта упала вверх черной рубашкой. На рубашке, на черном шкатулочном фоне, была нарисована жар-птица с сияющим, огнекрылым хвостом, с золотой короной на маленькой головке. Жар-птица, что не дается в голые руки. Где он уже видел такой рисунок на рубашке?..
Седой прощелыга, скалясь, протянул волосатую руку к карте. Инга довольно улыбнулась. Украдкой погладила Митю по руке, и он отдернул руку – рука Инги была леденее льда.
– Ты все сделал правильно, – сказала она радостно. – Ты не струсил. Правда, пришлось тебя слегка подопнуть. Ну, да я тебя всегда подпинываю. Иначе ты…
Она не договорила. Седой мужик перевернул карту. С карты на Митю глядело лицо. Это не был валет. Это не была дама. Это было лицо зверя. Это было его собственное лицо.
Он выронил павлиний веер карт из рук и закричал. Сидевшие за грязными столами удивленно оглянулись на него, но никто не проронил ни слова. Опять уткнулись в карты. Равнодушно отхлебывали зелье из стаканов. Митя упал головой на стол, опрокинув бутылку с вином. Красное вино вылилось на доски столешницы, поползло вниз, закапало на пол, забрызгало красными каплями зеленое платье Инги.
Он не помнил, как, когда приволокся домой. Возможно, это было на другой день после посещенья картежного притона. А может быть, прошло еще два, три, четыре дня. Он потерял чувство времени. Он помнил одно: он на улице, один, и холод, и пронизывающий ветер, и ему надо засунуть ладони, кулаки под мышки, чтоб согреться. Так он и шел домой – с руками, засунутыми под мышки.
Изабель открыла ему дверь. На ней лица не было. Она выглядела как скелет. Скулы, обтянутые белой кожей. Запавшие глаза.
– Я нитшево не ель, не пиль, – заплакала она и кинулась Мите на грудь. – Я… думай – тьебе убой!.. Убиль…
– Я жив, Изабель, – зашептал он и покрыл поцелуями ее лицо, лоб, глаза. – Я же жив. Все прошло. Ну, все. Ну, успокойся.
Он целовал ее, а поцелуи были холодные, фальшивые, как фальшивые монеты, как поддельные зубы, как яркие блестящие стразы, пришитые к дешевому бальному платью парижской беднячки.
Он успокоил ее. Посидел с ней на кухне, поел сгущеных сливок прямо из банки, ложкой. Гладил ее по волосам. Все было холодно, плохо, ненужно. Он будто гладил мертвую.
– Почему ты такая грустная?.. ведь я же тебе все рассказал…
Он рассказал ей про подпольный игорный дом, про странного седого старика-картежника. Он не сказал ей ни слова про Ингу. Жене незачем знать про похожденья мужа. Так было всегда. Так будет всегда. Это, наверно, и есть искусство жить. Искусство жить – искусство играть. Он так плохо еще умеет играть. Но он научится. Он просто не отличает жизнь от игры. А они, асы, уже отличают.
– О, не обращать… внимань… Просто ко мне приходиль… ну, твой други… те, из Кремлин… и я немного с нимьи говорить… ну, груст-но…
Слово “грустно” Изабель произнесла отчетливо и ясно, выговорив в нем все буквы верно. Митя печально поглядел на нее, взял ее бледное исхудалое личико в ладони.
– Хочешь развеселиться?.. пойди-ка ты, дорогуша моя, в театр… в Большой театр… я куплю нам билеты…
Она вырвала лицо из его рук. Поглядела печально, еще печальнее, еще – из глаз вместо слез лилась невидимая горькая печаль.
– Купи… один бьилет… Один… Я… пойти одна…
Она собиралась в театр холодно, молча. Примеряла все нарядные платья – все, что привезла из Парижа, и все, что Митя купил ей в Москве. Отшвыривала их на кушетку со злостью. Митя впервые видел Изабель такой. Ее всю колыхало, она не могла унять, скрыть неистовое раздраженье, почти бешенство. Потом взяла себя в руки; утихла.
Выбрала наряд. Чисто-белое, будто венчальное, длинное, в пол, платье. Сильно открытые плечи и шея. Он, глядя, как заколдованный, на ее беззащитную нежную, лилейную шейку – о, он так любил целовать ее… – прошествовал в спалью, выдернул из-под кровати наволочку с драгоценностями старухи Голицыной. Он по-прежнему суеверно держал сокровища в наволочке – не перекладывал их в ящики, на полки, в тайники.
Он вынес в комнату, где Изабель вертелась перед зеркалом, жемчужное ожерелье Царицы Александры Федоровны, накинул его Изабель на шею. Она вздрогнула и взвизгнула от прикосновенья ледяных жемчужин с изгибу шеи, к закинутой гортани.
– Нравится?..
Драконий хрип его голоса напугал ее. Она схватила ожерелье в кулачки, отшатнулась от зеркала. Чуть не упала, наступив себе на платяной шлейф.
– Ты чьто, Митья… у тьебе горло боли?.. Ты… выпиль вэн?..
– Нет, я не выпил, – тяжело сказал Митя. – Оно тебе как раз. Будто ты весь век его носила. Иди в Большой театр в нем. Иди. Мужики от тебя просто падать будут. Мне нужно, чтобы от тебя падали мужики. Чтобы они по тебе с ума сходили. Ты мне нужна… такая.
Он подтолкнул ее затрясшимися руками, грубо и властно, к зеркалу.
– Я ведь зверь, Изабель, – зашептал он ей в ухо. – Я ведь зверь. Я кусаюсь. У меня клыки. И я могу прободать тебя рогом. Как бык. И я могу исколоть тебя шипами. Но я не сделаю этого. Ты моя жена. Я могу… если хочешь… покатать тебя на себе. На своей холке. На своем…
Она резко повернулась. Ее локоть ударил по зеркалу. Отраженье поплыло, раздробилось.
– Я бойся тьебья! – крикнула Изабель душераздирающе.
Митя схватил ее, обнял. Он слышал, как страшно колотилось ее сердце.
В Большом театре в тот достопамятный вечер давали оперу Жоржа Бизе “Кармен”. Партер ровно и густо гудел, искрился манишками господ и драгоценностями дам, бельэтаж и амфитеатр весело шумели, обмахиваясь веерами, программками, газетками, платочками – в театре было душно, приятным контрастом к пронизывающему лютому холоду осенней улицы, – с галерки свешивались кудлатые и бритые головы студентов, просачивавшихся в Большой по льготным институтским пропускам. Оркестранты разыгрывались. Нестройный хор настраиваемых скрипок и альтов, гундосенье валторн, киксующие трубы, прозрачный перебор-ручеек арфы. Изабель сидела в ложе бенуара. В ее руке, затянутой в белую, до локтя, перчатку, дрожал веер из белых перьев. Она тихонько поглядывала на свои плечи и думала: о, Митья, издеватель, ну и похудела же я за эти три дня, пока ты…
Она предпочитала не додумывать, что он делал в эти три дня. В эти три дня и три ночи происходило еще нечто, о чем она хотела бы, да не могла рассказать мужу. Может быть, она послушает “Кармен”… и осмелится. В эти трое суток ее осаждали эти ублюдки. Эти политические проститутки, как остроумно называл их Папаша Эмиль.
От Бойцовского она отбилась легко. Он приехал вечером, с невообразимым букетом белых роз, с корзиной шампанского, с алмазными сережками на черном бархате подарочной коробочки. Он вел себя архиутонченно. Ей казалось – они оба на сцене. Шампанское ударило ей в голову. Ей льстило, что один из русских магнатов, один из заправил Кремля, у ее ног. Он брал ее руки в свои, нежно касался губами пальчиков. Она смеялась, нюхала розы.
Когда он перешел в наступление, она вскочила с кресла и отвесила ему такую звонкую пощечину, что сама напугалась. Прислугу они с Митей не держали. Они в особняке жили одни. Она поняла, как это было неразумно. Она могла бы позвать на помощь. Бойцовский обнял ее за талию, пытался повалить на диван. Она крикнула по-французски: diable!
Они по-настоящему боролись. Она оцарапала ему лицо. Он залепил ей оплеуху – в отмщенье. Она двинула его острым коленом в живот, плюнула ему в грудь, на рубашку, вырвалась, отбежала, схватила столовый нож со стола. “Этим ножичком можно зарезать только креветку, девочка. Только креветку”, – скалясь и отдуваясь, красный как рак, выдохнул Борис Бойцовский. Она наблюдала, как он пятился к двери, оглаживая встрепанные кудрявые волосы, отирая пот с висков, застегивая ремень.
От Прайса она спаслась чудом. Она до сих пор не поняла, как это произошло. Все случилось так быстро, так искусно-незаметно, что и опытный мастер не нашел бы шва, к которому можно было бы подкопаться. Он приехал через два часа после ухода Бойцовского. Без цветов. Без шампанского. У него было такое доброе лицо. Как у Господа Бога на иконе в церкви Космы и Дамиана – Митя водил ее туда.
И она, полная пережитым с Бойцовским, бросилась ему на грудь, как бросилась бы Эмилю, Мите. И Прайс не выпустил ее.
Она не помнит… она ничего не помнит…
Пошла увертюра. Отпахнулся занавес. Кровавым веером развернулось действие. Работница табачной фабрики, стуча босой ногой о голые доски сцены, пела знаменитую “Хабанеру”: “Меня не любишь, но люблю я – так берегись любви моей!”
Изабель обмахивалась белыми перьями. Рассеянно улыбалась. Морщила лоб. Музыка врывалась в нее властно, выметая тьму из души. О, любимый, солнечный Бизе, о сладкая Франция. Как все в тебе ярко, ослепительно. И солнце. И цветы. И женщины. И коррида – в Арле и Ниме, в разрушенных античных амфитеатрах. Кармен курит сигаретку, свернутую ею самой, и подмигивает тебе, ведь ты сидишь близко к сцене, в ложе бенуара.
В антракте, выйдя промяться в холл, Изабель отчего-то встревожилось. Ей показалось – за ней следят. Чушь! Кому она нужна!.. А все же зря она отправилась в театр одна, оставив дома Митю. Но ведь надо Митю наказать. Это ему урок. А она так хотела остаться одна и подумать… о том, что такое женщина в мире для мужчины: игрушка… оружие… ставка… человек?.. Толпа рванула в буфет. Изабель, сложив веер, бродила мимо фотографий артистов Большого. Может быть, женщина просто актриса, и ей всю жизнь выпадает актерствовать, лгать, притворяться?..
Какая сложная, странная земля эта Москва… эта белль Моску, и золотой листопад в ней, и осенние холода, резкие, режущие ножом стылого ветра, – таких нету в Париже…
Когда начался последний, четвертый акт, Изабель почувствовала, что ей дурно. Тошнота подкатила к горлу. Она тысячу раз слушала “Кармен” в разных составах и разных театрах, даже на открытом воздухе в Испании, где была полная иллюзия участия зрителя в трагедии, и знала, что Хозе ударит женщине навахой под ребро – там, где бьется сердце.
И потечет кровь.
И смуглая бешеная цыганка упадет на песок арены – не на театральные щелястые доски. И Эскамильо, в нарядном парчовом нагруднике, убив быка, воткнув в его холку десять бандерилий, вбежит – и увидит труп возлюбленной своей.
А Хозе упадет на мертвую и закричит. Он будет кричать так страшно, перекрывая музыку, заглушая оркестр, что она встанет из кресла и закричит – на весь театр – вместе с ним.
Она отбросила на пол веер, вцепилась пальцами в бархатный край ложи. Тенор Хозе рвал душу. Как это певцы могут, рыдая, петь. Она вот не может.
Она вспомнила, как все было с Прайсом. Порыв холодного ветра с грохотом распахнул окно, неплотно закрытое. Он, уже лежащий на ней, рыдающей, отпрянул от нее, испуганно вытаращился в темноту. “На балконе кто-то есть, – сказал он бесстрастно, голосом бронзового памятника. – Мне не нужна огласка. Я не обязан давать интервью папарацци. Ты хорошо работаешь, девочка. За сколько ты наняла своего бодигарда?!” Она не двинулась. Только слезы струились по щекам. Он встал с нее, натянул штаны. “Считай, что ничего не было. Тебе все приснилось. Если ты сболтнешь Дмитрию – вы разом лишитесь всего, что у вас имеется в Москве”. Зачем, зачем все это происходит с ней – здесь и сейчас. Не жилось ей в Париже. Им надо быо остаться с Митей в Париже. Но ему там было бы тяжело жить. Видеть стены, созерцать кровать, где они с Андреем были счастливы. Кровать можно выкинуть. Хорошо было Кармен с Хозе. Никаких кроватей у них не было. Пук соломы, выжженная, растрескавшаяся земля.
Она почуяла затылком странный холод, сквозняк. Дверь скрипнула. Кто-то беззвучно вошел в ложу. Полоска света разрезала голову, торс, обнаженную в вырезе платья спину Изабель надвое. Она не оглянулась. Она упоенно слушала музыку, вцепившись руками в красный бархат ложи, дрожа, будто это ей, а не Кармен, сейчас войдет нож под ребро, в живую, бьющуюся радостью плоть.
Изабель Рено нашли убитой в ложе бенуара Большого театра, слева от сцены, когда закончился спектакль. Капельдинерши обнаружили недвижное тело, завизжали. Ее сердце было проткнуто шилом. Убийца всадил шило в спину несчастной, под лопатку. Укол был точен. Ни капли крови не пролилось. Она так и осталась сидеть в краснобархатном кресле. Глаза ее остекленели, на губах замерзла слабая улыбка.
Когда труп отнесли из зала в маленькую каптерку под крышей Большого и позвонили Мите, отыскав домашний телефон Морозовых в документах Изабель в ее сумочке, валявшейся на полу ложи, чтобы муж приехал и опознал жену, и он примчался, похолодев, веря и не веря, повторяя себе ледяными губами: все это только чей-то плохой розыгрыш, – он увидел сначала ее открытые, мертвые, неподвижные, с широкими зрачками, не реагирующими на свет, большие серые глаза, а потом уже, что на ее обнаженной в дерзком декольте исхудалой птичьей грудке жемчужного, в пять рядов, тяжелого роскошного ожерелья, подарка Царицы Александры княжне Голицыной, нет.
Его затянуло горе. Его захватило, понесло с собой горе, как несет в пьяном танце надравшегося в стельку, как уносят, увозят несмышленышей похитители детей, – так, как уволакивает влюбленный девушку, укутав в шубу, кидая поперек ли лошади, в карету, в машину, и снегопад и метель обняли его, ибо в Москве Бог оборвал золотую нить листопада, обрушив на людей снова страшную зиму, как вечную войну.
Он не знал, куда ему деваться от горя. Куда сбежать от него, куда податься. Эмиль тряс его за плечо: ну что ты, что ты, очнись, ты же в ступоре, тебе надо проснуться, встряхнуться!.. – и плакал вместе с ним. Лора появилась один раз, на похоронах Изабель. Как шел траур к ее белым волосам. Он заметил это как художник.
Он, обливаясь слезами, натянул на подрамник холст, выдавил краски на палитру, хотел тряхнуть стариной, запечатлеть умершую жену на полотне. Руки, кисть, краски не повиновались ему. Палитра и мастихин валились из пальцев.
Он мог набросать углем только абрис мертвой Изабель, ее прозрачный тонкий профиль. Ему было наплевать, кто, зачем убил ее, кто стянул ожерелье у нее с груди. Ему не нужно было расследование, которое затеял Эмиль, подключив к следствию лучших криминалистов Москвы. Эмиль знал – дело сработано так тщательно и безукоризненно, что концов, как ни трудись, не найти. Машина следствия крутилась, Митя, поелику мог, отвечал на расспросы; когда он слег с высоченной температурой, мечась по постели в горячке, Папаша, сидевший у его постели, отослал прочь всех милицейских надоед.
А горе крутило его и мяло, а горе брало свое с лихвой, и Митя поражался сам себе – он даже не знал, что так боготворил эту тоненькую французскую девочку с ее гаменскими замашками, даром что у нее была внешность Девы Марии, что так убивался о том, что рядом с ним больше не будет Ангела, что охранил, сохранил бы его. Теперь чернота, тьма беды огромным невидимым океаном раскинулась, хлестала волнами вокруг него. И он должен был дальше плыть по морю мрака один.
Чтобы заглушить горе, надо было напиться. Так делали всегда все мужики от сотворенья мира. Куда рвануть, чтоб спрятаться, уйти от публики, от толпы, от утешающих друзей, влить в себя столько водки, коньяку, чтобы душа оглохла, чтобы сердце перестало биться?!.. куда… Говорят, коньяк, если его пьешь много, хорошо закусывать лимоном. Это мы сейчас попробуем. Господи, отведи от меня отчаянье. Я не могу. Я не смогу, я не выдержу. Да, Господи, я слабый. И не нужно мне сейчас никого. И даже Инги.
Инга – пропасть. Я упаду в нее головой и разобьюсь. А может, тебе нужно разбиться, чтобы никогда не ожить больше?! Ты же не веришь в загробный мир. Человек живет только на этой земле и только один раз. Все россказни о грядущей жизни, об иных мирах – чепуха, бабьи сказки. После меня не будет ничего. Только черный мрак. Пустота.
Митя, накинув дубленую куртку, нахлобучив зимнюю песцовую шапку – на Москву, как из рога изобилия, падал и падал снег, заметая, засыпая ее, пряничную и железную, кровавую и нежную, с головой, – спустился по лестнице вниз, во двор, завел свой “форд”, долго сидел в урчащей, фыркающей и содрогающейся машине, размышляя, куда ж ему ехать. Ни проблеска мысли. Горе, одно горькое, как хина, горе. Весь рот полон горечи, будто бы он отравился и блевал желчью. Наконец он решился, его осенило. Он тронул руль. Вывел машину на Малую Никитскую. Выехал на Большую. Обогнув Университет с бронзовым жирным Ломоносовым, вырулил на Тверскую. Остановился у “Российских вин”. Войдя в магазин, встал около прилавка, как грозный судия, и проронил, заплетаясь, будто б уже был пьяный:
– Ящик коньяка, пожалуйста. У вас есть молдавский… “Белый аист”?..
Продавец в грязном белом халате, будто неряха-доктор, с сомненьем посмотрел на богато прикинутого фраера. Говорит по-русски, сразу видно, наш человек, и гуляет широко, с размахом. Оскалившись весело, продавец засучил рукава халата, подхватил на грудь ящик с коньяком – бутыли торчали из него, переложенные соломой – и бухнул на прилавок.
– Две тысячи сто с вас, пожалуйста!.. Пейте на здоровье!.. Это у вас, молодой человек, извиняюсь, конешно, за выраженье, – свадебка, што ли?..
Митя не ответил. Подняв ящик, он изумился – как же он тяжел. Ничего, выпьют все. Доволок до машины с трудом, надорвав пуп; погрузил в багажник. Ну, да тут ехать-то было недалеко. Совсем рядом тут было.
“Форд” завернул в Столешников переулок. Метель заметала ребристый машинный след. Чугунный Юрий Долгорукий по-прежнему держал в вытянутой мощной длани шар чугунной державы, мрачно глядел вдаль, вперед. Он понятия не имел, князь Юрий, что там дальше, в тумане времени, с его Русью будет. Избудет ли горе она. Нет, князь родной, не избыла.
На трезвон ему открыла, запахивая на груди выцветший халат, Сонька-с-протезом. Она отстегнула протез, и стояла перед ним с одной рукой, запахиваясь ознобно в старый халат, и испуганно, медленно переводила взгляд то на Митину песцовую огромную шапку, высившуюся у него надо лбом, словно митра, то на ящик коньяка у его ног, то на Митино лицо, покрытое трехдневной щетиной, как во время оно, когда он скреб лопатой асфальт – после похорон Изабель ему было не до бритья. Сонька узнавала и не узнавала. Наконец, решилась узнать.
– Милый!.. Милы-ы-ый!.. – возопила она, тут же закрыла себе рот ладонью. – И какими же это судьба-а-ами!.. А ты ли это, Митенька?!.. ну-ка скажи хоть словечко старой Соньке, не молчи, я тебя хоть по голосу узна-а-аю…
– Ну да, это я, это же я, Сонечка, – он сам не узнавал своего хриплого, натужного голоса, со скрипом вырывавшегося из сдавленной спазмами рыданий глотки, – да, да, тебе не снится, это я, я, Митька… а ребята здесь?.. они не укатили никуда?.. они все еще дворничают?.. по-прежнему?.. да не плачь ты, дай мне пройти в дом с порога, я ведь замерз, Сонечка, замерз, как цуцик, да мы ведь сейчас и выпьем, будем мы, Сонечка, пить-гулять, весело нам будет… ну что ты!..
Сонька, не стесняясь, ревела. Стукнулась головой о его грудь. Отшатнулась, сделала круглые глаза.
– Ох, Митенька, ты ли это?!.. какая одежонка на тебе… ну ты даешь!.. Ты как король!.. К тебе страшно прикоснуться!.. ферт, ферт… просто сиянье от тебя идет, как от иконы, ну тебя в баню!.. Давай проходи, ох, что ж это я…
Она, пока Митя подхватывал на руки и вносил коньячный ящик в коридор, метнулась в направленьи знакомых каморок, стуча в закрытые ободранные двери, крича:
– Флюр!.. Флю-у-ур!.. Ян-да-нэ!.. Вылезайте из норы!.. Вы, дети подземелья!.. Рамиль!.. Даже не догадаетесь, кто приехал!.. Митя приехал!.. Ми-и-итя!.. – Сонька постучала в дверь Янданэ ногой. – Буддист проклятый, стихи свои восточные читает, оглох, что ли, глухарь!..
Распахнулась дверь. Флюр, протирая глаза, показался на пороге комнаты. Остолбенел, увидев Митю. Митя шел навстречу ему, раскинув руки, как Христос на кресте.
– Митька!.. – Флюр присел, схватился рукой за косяк. – Ты, браток, что ли!.. Или не ты?!..
Почему все они его не узнавали?! Неужели он так изменился?!.. О, скорей за стол, за укрытый старыми желтыми газетами стол, он пошлет Соньку купить все, все что нужно, из еды, он закажет ей самого лучшего, он шепнет ей: купи икры, семги, балычков, буженины, ананасов, яблок, авокадо… купи мяса, много мяса… И они будут пить. Они будут все время, бесконечно пить коньяк, плакать, обниматься, опять рыдать, и петь, и сквернословить, и выть, и вспоминать. Они будут оттягиваться и улетать. У них вырастут крылья. И они улетят далеко, далеко… отсюда не видно…
– Я, – сказал Митя. Флюр подошел к нему. Обнял его. Митя тоже обнял его и затрясся в рыданьях. – Это я, Флюрка. Плохо мне. У меня… жена умерла. Изабель. Нет больше Изабель. Нет.
Флюр оторвал от своего плеча его залитое слезами лицо. Подхватил под мышки, как раненого.
– Двигай сюда, ко мне. Сейчас позовем Янданэ. Сейчас выдавим из тюбика Рамиля. Бабы придут. Сонька. Мара. И посидим. И выпьем. Я вижу, ты затарился. Я страшно рад тебя видеть, эх!.. Может… и Хендрикье позвать?.. пусть посидит тихонько, как мышка… она нам не помешает… она все-таки любила тебя…
Он затряс головой. Нет. Нет. Хендрикье не надо. Она слишком похожа на Изабель.
– А где… Гусь Хрустальный?..
– Гуся больше нет, – опустил Флюр голову. – Гуся убили. Он водился тут со всякими. Ну, знаешь, Москва большая. А ты, я смотрю, выплыл, дельфин, да?!.. ну ты и красавец стал, Митька!.. только на тебе лица нет совсем… да, тебе выпить надо… и крепко… чтоб заглушить…
Митя наклонился к Соньке, стоявшей поблизости, не сводившей жадных глаз с Митиной шапки, с Митиной дубленки от Версаче.
– Сонечка, поди купи всякой всячины, какая на тебя посмотрит. Самой вкусной. Нам нужна будет жратва. Много жратвы. Не скупись. Бери с собой большую сумку. Ну, рюкзак. Мы загудим на славу.
Он выдернул из кармана наудачу ворох стодолларовых купюр, сунул в трясущиеся руки Соньки-с-протезом, мазнул смущенным взглядом по заблестевшим ужасом и восхищеньем Сонькиным глазам. Из своей комнатенки вышел, щурясь на тусклый коридорный свет, раскосый монгол. Его черная косичка – в прядях уже вились редкие седые нити – отросла еще больше, свисала плетью меж лопаток, уже доходила до пояса, как у девушки. Он не выказал никакого удивленья, увидав Митю. Он улыбнулся, как Будда. От него сильно пахло сандалом. Жег сандаловые палочки, молельник, как всегда.
– О, Митя, ты, – тихо сказал он. – Я все слышал. Я хочу выпить с тобой коньяка. За то, чтобы ты больше никогда не плакал. Будда никогда не плакал и не смеялся. Он единственный освободился от страдания и от радости.
Он на минутку заглянул в камору Янданэ. Все было почти по-прежнему. Лежак от старого топчана на полу, старый телевизор в углу, где плыло и дрожало, как лужа под дождем, изображенье, на стенах – буддийские мандалы, круги сансары, бурятские и монгольские вышивки, самодельные картинки маслом. Неужели это его, Митькины, картинки?!.. О да, храню, горжусь, как видишь, кивнул на холсты Янданэ. А ты стал, небось, великим, знаменитым?.. Да, стал, кивнул Митя. Такой стал знаменитый, что держись. Он перевел взгляд. На полке, что Янданэ прибил под самым потолком, сидела маленькая японская куколка, девочка, в крошечных деревянных гэта и лиловом кимоно, с ярко-алым бантом на спине. Ток ударил его, разрядами и молниями потек по телу. Что он вспомнил? Память – плохая штука. Лучше бы не было ни времени, ни памяти. Вот так, когда-нибудь, он увидит в толпе белое платье, похожее на лилию, услышит нежный смех, заметит жемчужное ожерелье на шее – и отвернется, и тоже заплачет. Не плачь, сказал ему Янданэ, не плачь, друг. Все пройдет, пройдет и это. Как дым осенней ночью. Гляди, какой валит снег на дворе.
И Сонька-с-протезом нанесла всякой еды, вытаращив ошалелые от шуршащих баксов глаза, и они настелили на стол в комнатенке Флюра старых газет, как делали это обычно; и наставили битых чашек, пластмассовых рюмок, и закипятили чайник, и насыпали заварки “Дилмах” от души, и зазвали старую Мару, и она ахала и охала, и Янданэ принес сандаловые палочки и зажег их в пустом стакане; и они поставили на стол две, три, четыре бутылки коньяка, и смеялись от счастья, что у них так много, как никогда, еды и выпивки; “как в раю!..” – гремел Флюр, а Янданэ тонко, спокойно улыбался, отрешаясь от всего земного; и они наливали и пили, пили и опять наливали, и пьянели, и веселились, – и Митя пил и наливал, а боль все не проходила, все не улетучивалась из груди, и он наливал еще и опрокидывал в горло, и в голове гудело, будто она была колокол, Царь-Колокол в Кремле, и, когда он сделался совсем пьяным, совсем пьяным и беспомощным, как ребенок, он скатился с колченогого стула, сел на пол и заплакал, и его плач сотряс стены комнатенки, – а на самом деле он тоненько, как щенок, скулил, подняв голову, воя в потолок. И он видел – по потолку змеятся трещины. Он видел: жизнь грязна, стара и плоха, вся черна, как черный Сонькин протез. В жизни только и хорошего, что хороший молдавский коньяк “Белый аист”, так давайте еще нальем, а не хватит – еще пойдем купим!.. Гудим, ребята!..
А что, ребята, я надрался уже до бесчувствия, да?.. не-ет, ели я еще что-то чувствую, следовательно, сущест… сущест… ну да, вую… А, ребята, вы что думаете, я такой же, как и был?!.. не-а, я уже другой… я – страшный… кар, кар, я здешний ворон!.. и тишина… я вас щас все расскажу, все расскажу… Я убил вместе с Варежкой сначала тех стариканов, что с картиной… ну… Варежка сам в лифте гробанулся, сам!.. я не!.. не виноват!.. он сам… Янданэ, что ты зыришь, как волк?!.. у тебя глаза волка… узкие… хищные… и я взял картину, взял… и потом у Снегура… та японка… ну не японка она, Флюр, а русская, она замужем за япошкой… у нас была любовь… ты знаешь, Флюр, любовь – это пытка… ею Бог тебя пытает, приставляет к тебе раскаленные прутья… загоняет иголки под ногти… я задушил ее… да, я задушил свою любовь, Флюрка!.. чтоб она меня не пытала больше… я замучился… Выпьем!.. выпьем, умоляю вас… мне станет легче… легче…
Я убил Анну и снова взял картину… а та рыжекосая, она шла за мной по пятам… она все время ходит за мной по пятам… Инга!.. игорный дом… подпольный игорный дом… и я швырнул карту, а там – под рубашкой – я… я сам… зверь… и меня, зверя, хотели убить… на меня наставляли револьвер… сначала – Лангуста… у, пащенок… потом – Андрей… я выстрелил в Андрея на дуэли… в парке Монсо… я убил его и женился на его жене… Париж, Париж!.. отчего ты не спишь!.. спать в Париже невозможно, ребята, там же ночная жизнь… там все ночью гудит и пахнет… там женщины пахнут, как лилии… моя Изабель была – лилия… я сорвал ее… я нюхал ее… кусал ее лепестки – и все скусил… сжевал… Изабель Рено, черт бы вас всех взял, почему вы не слушаете!.. три дня назад я похоронил ее… ее убили на спектакле, в Большом театре… сняли ожерелье… ожерельице, между нами, девочками, жемчужное, не слабенькое, Царице когда-то принадлежало… оно попало мне странно… эти сокровища мстят мне… мстят за хозяйку!.. они все исчезают у меня, исчезают!.. их у меня отнимают, крадут, вырывают их с кровью!.. они – живые!.. слушай, Рамиль, эти проклятые камни – живые!.. я их боюсь!.. почему они – живые?!..
Зачем они ее убили?!.. кто?!.. я найду их, сук, и убью… я сам их убью, своими руками… я уже умею убивать… но я не преступник!.. я – хороший!.. я правда хороший, Флюр?!.. скажи, я классный, да?!.. все при мне, я и на морду ничего, и душа у меня есть… и я еще такие картины напишу, такие картины… такие!.. все попадают… все будут стоять у холстов и гадать: ах, кто это… Даная… и на нее падает золотой дождь… а это Адам и Ева бегут сломя голову, бегут из Рая… ведь в Раю, ребята, очень плохо… так плохо, та-ак… страшно там… и холодно… лед один, снег… зуб на зуб… не попадает…
И я убегу оттуда, из Рая, ребята, из этого проклятого, страшного Рая, я свалю оттуда в туман… сделаю ноги… у меня ноги длинные, я умотаю… только они меня и видели… им меня ни за что не зацапать… хотя я уже все знаю про их райские котировки акций, пошли они… про валютные кризисы… про всю их райскую бодягу… все в Раю сгорит, ребята, на хрен… все их деньги сгорят… и все мои деньги, братцы, сгорят тоже!.. а их у меня на счетах… и под матрацем… и в чемоданах… и под обивкой кресла… много лимонов… лимонов баксов… вы думаете, я шучу?!.. как бы не так… не до шуток мне… ну да, шучу, шучу, на шабаш лечу… Янданэ, почему у тебя в запасе нет китайской змеиной водки?!.. водки хочу… нашей, простой, сибирской, китайской, змеиной… со змеиным ядом… а это кто такой на меня так пялится, Янданэ, а?!.. откуда ты его взял?!.. у, сволочь, зенки вылупляет… чем-то я ему не приглянулся…
– Не волнуйся, Митек, это свой брат, так, один несчастный, бомжик один с Таганки, Флюр, сердобольный, из жалости подобрал его… ну, ты же знаешь Флюра… он и тебя так же однажды в метро подобрал… или на вокзале, не помню?.. ведь зима же… ну, стоит человек, дрожит, мерзнет, одет легонько… Флюрка мимо шел с одной попойки, его под мышку подхватил, привел… ему негде ночевать было, кореша его поперли… ну и… Налить тебе еще?..
– Налей… С лимоном… лимона долечку отрежь – и на край стакана положи… Так, знаешь ли, Хемингуэй коньяк пил… когда от него первая жена ушла… а потом он женился еще раз… и я еще женюсь, Янданэ, вот увидишь… Только не на японке… и не на француженке… а на нашей славной, румяной русской бабе… и она нарожает мне хорошеньких, румяных крепких русских детей… к черту твою восточную монгольскую кровь, к черту Флюрову татарву… лимита проклятая… я – тоже лимита… на мне печать… проклятье на мне, Янданэ!.. Сними – его – с меня!..
Он падал лбом на руки. Царапал желтую газету ногтями. Все пил и пил. Его вырвало. Он пошел в захламленную ванную, открыл холодный душ, пустил воду на себя, себе в лицо. Вымок весь. Зубы его колотили друг об дружку. Он все хотел напиться так, чтобы никогда больше не чувствовать боль. Боль исчезала лишь на миг, пока он вливал в себя коньяк, пока жевал горький кислый лимон, морщась, как под пыткой. Старая пьяная Мара с изумленьем шепнула: “Он меня перепил”.
Сонька-с-протезом свалилась на топчан, спала, храпела, открыв рот.
Флюр принес гитару, брякал. Янданэ мог выпить много. Он не пьянел никогда. Он все улыбался.
Бомжик с Таганки медленно тянул коньяк из стакана, жадно жевал осетрину и семгу, густо намазывал красной икрой свежий, из “Тверского” маркета, белый хлеб.
Сонька наивно шепнула ему: эх, парнишка, а баксов-то у нас теперь сколько, живем!.. до самого Нового года хватит прокормиться!..
Бородатый мужичонка, малорослый, как малолетка из тюряги, заросший курчавой сизой бороденкой, остренько взглядывал на пьяные рожи, то плачущие, то целующиеся, то изрыгающие проклятья. Спокойно, Плавунец, шепнул он себе самому. Это же крупная рыба. Красная рыба. И вот она заплыла в твои сети. И сегодня ты поймаешь ее. Когда все задрыхнут без задних пяток. Поэтому много не пей. Бди.
Когда все отвалились от стола и, шатаясь, вытянув вперед невидящие руки, бормоча невнятицу, упали кто куда и заснули, тут же неистово захрапев – и мужики, и старые пьянчужки вместе, вповалку, – бородатый мужичонка с Таганки, по прозвищу Плавунец, ловко связал спящего с открытым ртом Митю, нашел в коридоре на вешалке его дубленку, запустил руку в карман, нашарил ключ от машины; только дурак не смог бы догадаться, что такой прикинутый фраер мог привалить сюда, в трущобы, только на своей собственной машине.
Мужичонка взвалил Митю на плечи и, удивительно легко подняв, будто тащил на плечах вязанку хвороста, а не длинноногого, отяжелевшего, рослого пьяного мужика, понес вниз по лестнице, выбив ногой коммунальную входную дверь. Все. Он выцепил здесь, что хотел. Он крупно поживился, а остальное от этого теплого нищего места и от этих дураков, падких на коньяк, ему не нужно было.
Он, с Митей, как с ребенком, на руках добрел до занесенного снегом “форда”, отомкнул дверь машины, вбросил туда Митю, уселся за руль. Быть хулиганом с Таганки и не уметь водить простую тачку?!.. Настоящий бандит должен уметь все.
Кудлатый мужичонка, хрипя и пьяно кашляя, ухитрился быстро разогреть машину, окоченевшую на морозе. Когда “форд”, с натугой подчиняясь чужим грубым рукам, стронулся с места, мужичишка пробормотал, клацая зубами, ухмыляясь:
– Ну, только доставить к нам, к нашим. От нас он не увалит никуда. До тех пор, пока мы не растрясем его корешей и они за него не заплатят.
– Эй, ты!.. Эй, ты!.. Ты, заложник!.. Ты знаешь, куда ты попал, сука, мразь!.. Богатая мразь!.. Ты попал в самый знаменитый таганский притон, здесь мы все свои, остальные – все чужие!.. Ха, ха-ха!..
Они подходили к нему, привязанному к стулу, близко, держа в руках остро наточенные ножи. Они закидывали рукой ему голову, так, что у него темнело в глазах, и проводили лезвием по его глотке – так, легонько, не слишком глубоко, чтобы чувствовалось, как тепло, солено по шее течет кровь.
– Ты, фраер, зажрался слишком!.. шейка толстая, как у порося!.. похудеешь тут у нас!..
Главарь – Митя понял: это точно главарь, другого главаря тут быть не могло, – мужик с могутными плечами, с играющими под рубахой мускулами, с горящим на волосатой темной груди золотым крестиком – Господи, зачем крестик-то ему, каждый день нарушающему заповедь: не убий!.. – переваливаясь с ноги на ногу, походкой разъевшегося тюленя подошел-подполз к нему.
– И что?.. – спросил главарь, глядя на привязанного Митю в упор. Из шеи Мити на рубашку текли струйки крови, засыхали. Раны саднили. Если они вдвинут нож чуть глубже – перережут артерию, рассекут нерв, сухожилие, и у него будет кривая шея. Какого черта, Митька. Благо бы кривая, и с кривой живут. Ты не выберешься отсюда больше. Ты останешься здесь. Вот оно, твое воздаянье.
Главарь прохрипел: “Ты, паучонок шестилапый!..” – сквозь табачный дым и шум и грохот пьяной подвальной оргии, – ночная пирушка бандитов была в самом разгаре, Митя видел, как радовались воры, как сажали на колени визжащих марух, и хорошо, ясно видел Митя, какие же они были все нищие, как безумно бедно они были все одеты – да, это был бедный воровской притон, не круто-мафиозный, как в мире, где он жил, а жалко-оборванский, как в мире, покинутом им; и вот у них, у нищих, была сейчас праздничная пирушка, может быть, они грабанули удачно небольшой продуктовый склад где-ниубдь в пригороде, на железнодорожной станции, и они жадно пожирали всякое дерьмо, что стояло на столах – и готовые фабричные пельмени, пахнущие тухлой рыбой, и мятые яблоки с задов блатного склада, и краденые пряники, и резали дешевую, наполовину с мукой и горохом, колбасу, бросая круги колбасы в зубастые рты, как дрова в топку – ох и голодны они все были, Митя вдруг понял!.. – а пили они водку по прозванью “коленвал” , запивая ее щиплющей горло крашеной газировкой; ух, вот этот был пир так пир! Кривые и косые, с повязками на лицах и язвами на локтях, с выбитыми зубами, с татуировками по всему телу, они чувствовали себя красавцами и красавицами, и Митя закусил губу. Он еще не совсем протрезвел. Ему еще хотелось плакать. Он прекрасно понял, куда он попал; ну, так оно все и должно было случиться, Флюр должен был выудить из недр Москвы этого злобного карапета с курчавой бородкой, чтобы он выкрал его со Столешникова и приволок – на его же машине, а не ты один, Митя, умеешь водить машину в этой жизни, – вот сюда, в притон, на дно.
– И ничего, – Митя старался отвечать спокойно; он знал – бандита нельзя раздражать. Надо говорить с ним, как с равным. Ведь, по сути, они были равных равнее. Они оба были бандиты. Только Митя разбойничал этажом выше.
– А пусть тебя выкупят твои друганы, богатеи, – сказал главарь и сунул Мите в бок кулаком так, что Митя охнул и скрючился на стуле, и слезы боли выступили у него на глазах. – Ведь у тебя есть друганы, фраер?.. Да?.. Отвечай, когда с тобой Жиган говорит!..
Главарь, недолго думая, задвинул чугунным кулачищем Мите в нос. Из носа потекла кровь, он закинул голову. Они забьют его здесь. Прибьют до смерти. Он привязан. Он не может дать сдачи. Что в твоей сдаче толку. Их здесь много. А ты один, и беспомощный, как теленок в стойле.
– Есть, – выдавил Митя. Кровь текла у него по губам из разбитых ноздрей. – Только зубы не выбивайте. Прошу вас.
– Ого-го-го, какой вежливый фраерочек попа-а-ался!.. – Главарь Жиган от удовольствия закатил глаза. – Пока… пока повременим, ха!.. У нас еще времечка до хрена!.. Придет времечко…
Жиган приблизил к лицу Мити заросшую сивой щетиной немытую харю. Митя отшатнулся от запаха. Вместо зубов у Жигана во рту торчали гнилые пеньки.
– Мы тебе телефончик в лапках принесем, фраер ты задолбанный, – внятно, будто вбивал в Митю урок, сказал Жиган, дыша на Митю перегаром. – И ты нам скажешь номерочек, мы наберем, а ты будешь говорить. Тварь такая, ты будешь говорить! Ты скажешь им: ребятишки, гоните монету. Баксы гоните. Как можно больше. Сто тысяч баксов гоните. Пятьсот. Или нет. Ты стоишь больше, фраер. Мильон баксов – на стол. Завтра привозите. И вы получите вашего дружочка свеженького, тепленького, и даже с неотрезанным ухом, ха!..
Он передохнул. Митя побледнел. Он все понял.
Он понял мысль Жигана.
– А то, может, у тебя, такого молоденького и хорошенького, и жена есть?!..и детки имеются?.. а то и мамка, и папка?.. Мамке-папке позвонишь!.. Взмолишься: эй, богатые мамка-папка, давай, плати за меня миллиончик!.. Иначе, скажешь, мне тут ребятишки Жигана… есть такой на Таганке, да не про вашу честь… будут потихоньку отрезать сперва ушко… потом нос… руку… ногу… и в назначенный день, если не принесут денежек, – прощайся со своей драгоценной жизнешкой, фраер!..
Митя облизнул губы. Митя догадался. Догадка ударила его, обожгла молнией. Только бы они поверили. Только бы клюнули. Но ведь это же правда. Это все правда. Они не могут не поверить.
Он дернулся, привязанный, на стуле.
– Жиган, – хрипло сказал он, с ужасом слыша свой подобострастный голос извне, издали, сверху, будто он был Ангел Божий и висел под тусклой голой лампой под потолком. – Жиган, послушай. Давай договоримся. Мы же поймем друг друга. Мы всегда поймем друг друга. Я же тоже такой, как ты. Такой же человек. Отпусти меня. Я дам тебе за это икону в драгоценном окладе… икону семнадцатого века, очень драгоценную, ну, мужик, не брешу, очень дорогую… из Царской сокровищницы… она должна была бы лежать в Алмазном фонде… а лежит дома у меня… вы можете проверить подлинность… вы можете все проверить!.. я не вру… Если вы ее продадите, вы… вы сильно прикинетесь, вы отпадно заработаете, вы… так подлатаетесь, что вам не снилось никогда, вам…
Он чуть было не добавил – “нищим”. Жиган оценивающе глянул на него. Нет, этот отморозок не врет. А сдрейфил он будь здоров. В штаны наклал. Так их, мочи их, богатеев клятых. Шуруют они почем зря, но ведь и их тоже не грех пошерстить. С каким бы наслажденьем он примочил этого, в дубленке. Какой Плавунец молодчик, что стянул его, пьяного в дымину, с какой-то дворницкой малины. Следы заметены. Фраер раскололся. Если он не заливает по первое число, они сегодня же, сейчас же поедут к нему на хату и возьмут у него эту его железяку. Жиган умел читать по лицам, по глазам. Он умел читать по глазам умирающих, по лицам ставимых к стенке. Прикрученный веревками к стулу богатей не брехал. Он хорошо, дорого покупал свою жизнь.
Митя покупал свою жизнь, и это была святая правда. Он покупал ее еще раз – но только не у хлыщеватых, привыкших к роскоши, к дорогим парфюмам и времяпрепровожденью в казино богатых молодых бонвиванов, а у пошлых, грязных бомжей, у наглых бандитов, у вооруженных ножами и обрезами подвальных таганских одяшек, которым он, Митя Морозов, что живой, что мертвый, сдался, как в Петровке – варежки. Петровка, Столешников, Варежка. Его же изгнали из Рая. Его изгнали из одного Рая в другой. Из нищего Рая – в богатый Эдем. И какой Рай лучше, он еще не определил. Оба хороши.
– Если мы подлатаемся так, как ты нам обещаешь, – сказал Жиган, облизываясь маслено, как кот, – я обещаю, что больше не разыщу тебя в Москве, хотя нам же будет известно, где ты обитаешь, конь в пальто. И машинку нам отдашь. Мы тебя привезем домой, сука, а сами на ней же и уедем. Не забудь доверенность оставить. У, морда. Он больно, до кровоподтека, ущипнул Митю за щеку. – Икрой питаешься. Будка что надо. Мы тоже хотим, чтоб наши детки в хороших машинках в школку ездили, ты, кардан.
Жиган пнул его острым носком сапога в щиколотку. Митя снова сморщился. Слезы ползли по его щекам. Он плакал – пьяно, позорно, жалостливо, просяще, плакал от боли, униженья и бессилья. Плакал посреди пьяной нищей пирушки, среди гудящих срамные песни бандитов, и до его ушей доносились ругательства и вздохи, и он созерцал обнимки и любодеянья – тут же, за столом; он видел, как Плавунец посадил на себя толстую девицу с голой мощной грудью, и девица принялась плясать на Плавунце дикий любовный танец, крепко ухватив его за плечи. Плавунец поднес к ее губам стакан с водкой. Она выпила, не слезая с него, бессмысленно улыбаясь красными губами. Хахаль грубо сунул ей в рот соленый огурец. Девица захохотала утробно. Красные губы. Он вспомнил – у Инги были красные губы.
– Не бей меня, – попросил Митя, всхлипывая. – Лучше убей. Я не могу, когда… унижение. Лучше, чтоб меня сразу не стало. Униженье, Жиган, это хуже, чем…
Слезы безостановочно лились, затекали ему в рот вместе с кровью, все медленней сочащейся из носа.
– …чем когда тебя рубят топором на куски или стреляют тебе в затылок.
– Я и в затылок людям стрелял, – весело сказал Жиган, отходя от привязанного к стулу, забавного фраера. – Ох они и волновались перед тем, я скажу тебе.
Нищенка за столом, сидевшая напротив бандита с рукой, висящей на перевязи, смачно поцеловала кавалера в небритую щеку, подцепила вилкой из тарелки пельмень и куснула его жадно, озорно. Вся жизнь была на дне стакана, полного дешевой водки. “Жиган, расколи орешек!.. – крикнул мосластый худой старик в тельняшке, почесывая грудь, ребра, подмышки. – Расколи фраерка!.. Должны же мы пожить на земле хоть раз привольно!..” Старик чесался так остервенело, будто по нему ползали, кусая его, вши или блохи. Митя закрыл глаза. Его глаза превратились в сплошую соленую, красную, набрякшую влагой слезную рану. Он ослеп от боли и униженья. Ему казалось: его раздавили каблуком, размазали подошвой, как окурок, по скользкой грязи.
… … …
Он заперся у себя в особняке в Гранатном надолго. Он сделал себя собственным узником. Он никого не хотел видеть.
Ни Эмиля, ни Лору; ни господ из Кремля; ни французских друзей Изабель, что, прослышав о ее смерти, примчались из Парижа – пособолезновать, изъявить сочувствие. Всех к черту. Он не отвечал на звонки. Он бросал телефонную трубку. Он сначала ничего не ел, потом стал есть – мало, скудно, лениво, через силу, давясь, стоя прямо у холодильника, вынимая из консервной банки руками куски.
Спазм сдавливал ему глотку. Он бежал к унитазу, его выворачивало, как чулок. Будто бы он пьяный был. Да он и был пьян – горе и пережитое в притоне униженье замутили ему разум. Он засыпал, где придется: на полу, на ковре, в кресле, на кухонном табурете.
Чтобы спастись, он, сжав зубы, выдавил на засохшую старую свою, еще столешниковскую, палитру голландское дорогое масло из тюбиков, купленное в салоне на Никольской, схватил кисти, стал писать портрет Изабель – по памяти, парадный, в том белом платье, в котором она была в последний свой вечер в Большом театре, с жемчугами Царицы на шее. Намалевав на холсте женщину, похожую на Изабель, он повесил еще сырой портрет на стену в спальне и с ужасом убедился, что он нарисовал Изабель рыбий большой рот Хендрикье и раскосые глаза убитой Анны. Он нашел в баре полбутылки “Наполеона” и выпил залпом, без закуски, перед бездарным аляповатым холстом, наспех, в отчаянии, замалеванным им. Упал на персидский ковер и уснул – без сновидений.
Лора не тревожила его до поры. Она понимала: мальчик должен очухаться. Такие потрясенья даром не проходят, тут надо выждать. Инга и Регина не появлялись на горизонте весьма давно. Лора не думала о них. У нее возникла куча других светских дел – посвежее, поденежнее, повеселее, хотя своднический бизнес седая грандесса бросать не собиралась. У Эмиля были свои, государственные игры, у нее – свои.
Ей принесли приглашенье на вручение престижной премии деятелям российской культуры, особо отличившимся на культурной арене в последние годы. Торжественная часть и банкет устраивались строго по приглашениям, для избранных, в закрытом зале на Пречистенском бульваре. Приглашенье было на два лица. Лора повертела его в руках. Улыбка мазнула по ее лицу веселой кистью. Она набрала Митин номер телефона.
К ее вящему удивлению, он быстро и послушно согласился.
Когда они с приодетой по такому случаю в лучшие тряпки Лорой Дьяконовой вошли в зал, Митя поразился, рассматривая лица людей. Он никогда не видел таких лиц – или он отвык от них?.. Такие лица он видел лишь на старых, дореволюционных фотографиях: благородные черты, умные высокие лбы, летящий взгляд, глаза, говорящие все ясно и прозрачно, не хитря, не скрывая и не лицемеря; абрисы и профили, как на врубелевских рисунках, как на портретах Левицкого и Рокотова; морщины, не портившие красоты, в которых, как в письменах, читалась высокая и страдальная жизнь; лица, достойные глядеть в полумраке из золотых багетов – не из тьмы зрительного зала с рядами кресел.
Куда, в какое избранное общество он попал?
Куда завела его Лора?
Он беспомощно оглянулся на Лору. Она прошептала, засовывая в сумочку пригласительный билет: дорогой, это все великая богема России, это наши старые актеры, писатели, поэты, музыканты, а вон, в черной шапочке, знаменитый Лосский, он прилетел из Парижа, а вон там, видишь, автограф на книге ставит?.. это… “Я сам знаю, кто это”, – кивнул Митя раздраженно. Он уже все понял. Он глядел, узнавал и не узнавал, всматривался. Он понял: это другой мир. И он – инопланетянин. Он высадился на планете и не знает язык ее обитателей. А они не поймут его, если он заговорит. Поэтому молчи. Молчи, гляди, внимай. Ты никогда не станешь таким, как они.
Он обернулся. Поглядел искоса. Рядом с ним и Лорой, сзади него, сидела в кресле красивая, с круглым смуглым личиком и чуть раскосыми, как у покойной Анны, темно-карими, почти черными глазами, женщина в черной маленькой шляпке с приколотыми к ней бархатными фиалками. Маленький изящный ротик женщины тихо и печально улыбался, углы плачуще-грустных губ были будто через силу приподняты.
Митя сначала подумал: молодая, и кокетничает, – потом, присмотревшись, острым взглядом зацепил еле видную сеточку морщин под глазами, около губ, тщательно замазанных тональным кремом. Женщина не хочет стареть. Женщина не имеет возраста. Женщина и умрет молодой.
Какое полное печали и мысли, утонченное лицо, сочетающее в чертах аристократизм и дикую безудержность степных кровей. Лора по сравненью с ней показалась ему розовой свиньей-копилкой. “Белла Ахатовна, Белла Ахатовна, – послышался сзади благоговейный шепот, – я поздравляю вас с выступленьями в Барселоне…” Он понял, кто эта женщина с княжеским восточным лицом. Его прошиб пот. Лора покосилась на него. “Смотри, сейчас будут вызывать триумфантов, – бросила она ему, – смотри, Митя, какие букеты, какой дизайн, икэбана!..” На сцену хорошенькие девочки в пышных, как балетные пачки, мини-юбчонках вытащили, приседая от тяжести, гигантские букеты, обернутые хрустящим на весь зал целлофаном, расписанным позолотой, усаженным новогодними блестками.
“А сколько баксов премия?..” – тупо, мертво спросил Митя. Лора усмехнулась, поправила пальцами седой завиток над ухом. “А сколько тебе надо?..”
На сцену вышли знаменитости, потонули в море аплодисментов. Митя обернулся. Кресло, где сидела восточная красавица, опустело. Она уже стояла на сцене, маленькая, в черных брючках, в меховой накидке, кланялась, и бархатные фиалки на ее шляпке кивали вместе с ней. Она всю жизнь писала стихи, и вот ей награда. Деньги. Зачем, почему опять – деньги?
Разве стихи измеряются деньгами? Да, Митя, измеряются, так же, как и картины, и спектакли, и все остальное, что совсем не нужно человечеству, и все-таки люди это производят. Ты же помнишь, за сколько у вас с Эмилем купили Тенирса на аукционе. А при жизни бедняга Тенирс не мог, наверно, и за пять флоринов всучить свою мазню какому-нибудь купцу или трактирщику, чтоб тот в трактире над стойкой повесил. А Ван-Гога ты помнишь, Митя? Как он голодал — помнишь? Одно из полотен Ван-Гога тоже там было, на Филипсе. Ушло подешевле, чем его Тенирс. Всего за одиннадцать миллионов. Всего!
Искусство. Они все заплатили за эти, нынешние, деньги – все они, кто творил и умер – своею кровью. Своей несчастной, нищей жизнью, в халупах и номерах, своими поцелуями с дешевыми ночными женщинками в подворотнях и на чердаках, своей скудной, гиблой едой на щербатых тарелках и в жестяных мисках, своей травлей: ату его!.. он пишет не так, как все!.. как те, что выставляются в красивых салонах!.. – своими слезами, горько пролитыми в тощие подушки по ночам. За что он заплатил чужой кровью? Час его расплаты, возможно, еще не наступил.
Лора взяла его за руку. Ее рука была теплая, его – холодная, будто вынутая из проруби. Все мы – рыбы под водой. И кому-то надо разбить пешней лед, прорубить окно в толще льда, чтобы хлынул свет, воздух. Где сейчас души Анны, Андрея?.. Митя задыхался. Он рванул воротник рубахи.
– Что с тобой?.. – спросила Лора обеспокоенно. Он втянул ноздрями запах ее гиацинтовых духов. – Тебе плохо?.. на, понюхай…
Она сунула ему в руку флакончик, оплетенный позолоченным кружевом. Он отвинтил крышечку. Не помогло. Его душил ужас. Впервые он представил себе, что же он наделал.
– Я выйду, Лора… я сейчас вернусь, – он встал и начал проталкиваться вдоль ряда к выходу, задевая торчащие колени именитых зрителей, – я сейчас… сейчас…
Он выскочил в фойе. Он дышал, как рыба, вытащенная сетью на берег. Подошел к окну. Прижался лбом к раме. Из щели дуло. О, свежий воздух. Прорубь. Глотнуть воздуха. Света. Скорее.
Кто-то тронул его за плечо. Он резко вскинулся.
– Не надо! – крикнул.
– Вам стало нехорошо, я видел, – терпеливо, деликатно произнес стоявший перед ним такой же высокий, как Митя, человек; он взял Митю за локоть, обеспокоенно поддерживая. – У меня есть с собой валидол. Возьмите.
Человек протянул ему прозрачный пузырек в белыми таблетками. Митя вытряс таблетку на ладонь, вбросил в рот.
– Спасибо. Вы так добры.
– Не отворачивайтесь от меня, – голос человека, презентовавшего Мите валидол, проникал, казалось, в Митины мышцы, кости. – Я боюсь, как бы вам не стало опять плохо. Позвольте мне сопровождать вас?..
Он говорил с Митей так странно, старинно, по-старомодному, будто бы он выпрыгнул сюда из начала века – из тех бальных залов, где вертелась и плясала молоденькая княжна Голицына. Митя всмотрелся в его лицо. Чуть курносый; серые, скорее серо-стальные, большие глаза под белесыми бровями глядят строго и вместе с тем ласково, а внутри радужек – тихий свет; румян, чисто выбрит, кожа нежная, как у девушки; над губой – пушистые светлые, сивые усы, как у красавца-гусара; пушистые светло-русые волосы разлетаются ото лба вбок, а на макушке – ясно намечающаяся лысинка.
Не стар, нет. Сильная бычья шея, красиво посаженная голова. Слегка сутул – оттого, что слишком высок. Прекрасной лепки руки, с говорящими жестами, запястья покрыты золотыми волосками. Весь золотой. Весь светится. Митя представил себе, что он пишет его портрет в духе Рембрандта – золотое лицо на черном фоне, – и внезапно захотел написать. До боли.
И опять схватился рукой за сердце.
– Ну вот, я же говорил, держитесь за меня, держитесь… Как вас зовут?..
– Дмитрий Морозов… Дмитрий Павлович…
– О, Морозов?.. Вы не из рода купцов Морозовых?.. нет?.. А я Константин Михайлович Оболенский… очень приятно… Собирайтесь, идемте на улицу, на воздух, я провожу вас, Дмитрий Павлович, вам нельзя здесь больше быть, вам надо домой… и лечь, лечь скорее…
Митя не вернулся в зал. Они с Оболенским вышли из особняка, поймали такси на бульваре.
Час спустя они уже сидели у него дома за столом. Митя, вытащив из бара две-три початых бутылки, неумело мазал старым пожелтелым маслом бутерброды, отыскал в шкафу завалявшуюся банку французских копченых мидий. Оболенский с удивленьем оглядывал роскошное жилье Мити, пришедшее в страшное запустенье.
“Вы тоже из гонимой аристократии?.. Нет?.. Я думал, это ваш фамильный, родовой особняк… Морозовы, ведь это была в России до сверженья законной власти знаменитая фамилия, мне помнится, был такой известный архитектор Морозов… он вместе с Полянским проектировал зданья банков в Петербурге, Нижнем Новгороде, Костроме… это не ваш дедушка?..”
Когда Митя сказал, что он прибыл в Москву из Сибири и что он из простой семьи, Оболенский успокоился. Митя узнал, что Оболенский – князь, вице-предводитель Московского Дворянского собрания. Еще час спустя, когда они выпили лимонной “смирновской” и закусили мидиями, он уже называл Оболенского – Котя, он его – Митенька. Они выпивали, закусывали и говорили, Митя больше не задыхался, забыл про валидол. Впервые за все это время он забыл про смерть Изабель. Про все, что случилось с ним прежде.
Разговаривая с Котей Оболенским, глядя в его светящееся, лучистое, румяное, радостное лицо, вбирая неизъяснимую доброту, исходящую от всего его чистого, неразвращенного существа, он видел перед собой – будущее. Он оттаивал; он воскресал. Рядом с живым человеком он чувствовал себя почернелым Лазарем, восставшим из гроба. Как трупно он смердит!
Он щупал свои руки, плечи, чтобы удостовериться, что они живые. Рядом с жизнью он становился живым. Рядом со светом – понимал всю глубину чаши, из которой ему довелось отхлебнуть мрака. Какой светлый, какой беспредельно наивный этот человек!.. Сколько ему могло быть? Митя гадал – тридцать, сорок?
Как он умудрился не потерять, сохранить себя в волчьей чащобе столичного мира, противопоставить себя – железной машине, мелющей живые кости?.. А теперь вот он, этот неведомый Мите прежде человечек, потомственный аристократ, русый наивнячок, сидит у Мити за столом и спасает, и склеивает его размолотые косточки, и сращивает, и поливает живой водой своих полудетских светлых речей, и дует на те места, что невыносимо болят, и успокаивает, и обнадеживает, и смеется вместе с ним, и рождает его – вновь…
Нет, они не пьяны! Они просто немного выпили, так, для сугреву, по-русски. Так, как надо выпить русскому человеку зимой. И говорят – так бесконечно, как могут лишь раз в жизни – ой, не ври, много-много раз… – говорить, оставшись одни, русские люди.
– Митенька, ты же художник, Митенька!.. На что ты себя променял!.. Гляди, как ты написал свою умершую жену… Какой живой, гениальный мазок… какой чистый свет в ее глазах… бедняжка… А ты, дурачок, занимаешься тем, чем тебе противопоказано заниматься – деньгами, политикой!.. Ну какой ты политик, Митенька!.. И какой ты финансист… У тебя есть все, чтобы жить на белом свете; так откажись от наживы, посвяти себя – себе!.. И Богу… Ведь художник творит во славу Божью. Пиши то, что хочешь, а не для наживы!.. Гляди, вот у тебя книжки на полках – там все стреляют, убивают, отравляют, стукают молотками по головам, там одни дула, обоймы, патроны, кровь, ну, шматок секса еще кинут, для затравки, их пишут – для наживы… не писатели, нет!.. писаки, Митенька, писаки с бойким пером… а писатели – другую красоту пишут… пусть ее сейчас и не востребует толпа, и не съедят на улицах, на ходу, в метро, как пирожок, как хот-дог или мороженое… и тот, кто ушел сейчас из своей родимой, кровной профессии в добычу денег, те – все, погибли… да, они будут процветать как жители, но они погибнут, сгниют как люди, созданные по образу и подобию Божию… А ты, Митюша, ты – художник!.. довольно поглядеть на одну твою работу, я же вижу, я же все вижу…
Мите было страшно – Котя Оболенский действительно, как ему казалось, видел все. Котя видел насквозь непредвзятым оком, как байкальский рыбак видит, плывя на лодке, всю толщу прозрачной изумрудной байкальской воды, всю страшную толщу преступности, предательств и обманов, в которых погрязла Россия. Не успел Митя два-три слова выдавить из себя о Дьяконове, о Бойцовском, как Оболенский помрачнел, его светлое румяное лицо покрылось морщинами, и он сделался сразу немолодым, усталым чрезмерно от жизни.
– Опять они, – выдохнул он и взъерошил пушистые волосы. – Опять эти… Знаешь, Митенька, когда бросают убитую тушу, на нее налетают мухи всякие, да, наползают червяки, пикируют вороны, прибегают из лесу волки, жрут падаль… а еще прилетают на труп – знаешь кто?.. – такие черно-коричневые бабочки, вроде как траурницы, разлет крыльев широкий, по краям – белые зубчики, узор такой зловещий, и вот они как обсядут убитого зверя, и ползают по нему, и ползают… бабочки, представь, не мухи, не опарыши!.. что хотят?.. а питаются, собирают с трупа – еду себе… едят, Митя… а элегантные какие, прямо во фраках, не иначе!.. Понимаешь?..
Митя представил себе Эмиля верхом на смердящем трупе России. Ее нутро вспорото. Эмиль сидит с ножом над вспоротым брюхом, а оттуда льются широкой кровавой рекой – золото, баксы, рубли. Все красные, будто в крови выпачканные. А Бойцовский, Прайс и иже с ними стоят за спиной Эмиля, облизываются, и тоже в черных траурных фраках, в коричневых смокингах. Ждут своей очереди. Карикатура. Митя потряс головой, отгоняя наважденье. Котя побледнел, потрогал пальцем пушистые усы. Закрыл глаза.
– Единственный, кто может спасти бедную Россию, Митя, – тихо сказал он, тихо и твердо, – это Господь Бог. Надо Богу молиться. Я верующий. Я очень верующий, Митя. Без Бога мы с тобою и все мы – никуда.
Так вошел Котя Оболенский в его жизнь, и Митя тщательно скрывал его и от Эмиля, и от всех других, кто толпился и вертелся вокруг него. Котя видел: человек гибнет, надо спасать. На Рождество Котя взял Митю с собой, повез на могучую Рождественскую монастырскую службу в Кострому, в Ипатьевский монастырь, откуда в Москву в семнадцатом веке привезли Руси нового Царя Михаила Романова.
У Коти была своя машина, но она была сломана, а у него не было денег ее починить; Митя еще не купил машину себе – взамен той, что он оставил, по уговору, таганской бандитской шайке; и они отправились в Кострому поездом – Митя уж забыл, что такое поезд, он живо вспомнил, как тащился дальневосточным скорым в Москву из Сибири, вспомнил запах дорожных жареных кур, помидоры, обмокнутые в соль на клочках старых газет, соленые огурцы в банках, яичную скорлупу, вечные дорожные разговоры – от тайного бесстыдного интима до высот философии, от хмельных матюгов до нежной поэзии; и этот запах мазута, эти ухмылки проводниц, эта водка – тайком, в бумажных стаканчиках – при прощанье… Костромской поезд уходил из Москвы с Ярославского в девять вечера, прибывал в Кострому в четыре утра. Митя и Котя вышли из вагона прямо в сине-черную зимнюю костромскую ночь, всю полную крупных горящих в вышине звезд. Млечный Путь виделся ясно-хрустально, переливчато-молочной зимней санной дорогой.
Они переждали время на вокзале, взяли теплый, похожий на бурду кофе в буфете, смеясь, сгрызли черствую подошву железнодорожного бутерброда, дождались, пока пойдут первые автобусы, и добрались до Ипатия. Монастырь стоял в розово-морозной рассветной дымке гордо и печально, как белое надгробье.
Печаль внезапно сменилась радостью. Зазвонили колокола к заутрене, и Мите почудилось, что белые храмы монастыря – это девушки, это красавицы в белых одеждах. Он вспомнил Изабель в белом платье. Его горло захлестнули слезы. Он не дал себе расплакаться – постеснялся Коти. Стоял сочельник, шестое января.
Они весь день, до начала вечерней службы, провели в монастыре. Котя завел Митю в Троицкий собор. Когда Митя входил под мощные своды, он ощутил тревогу, ужас даже – будто кто-то сильной, крепкой ногой наступил ему на грудь, и вот уже ребра хрустят, и хребет проламывается; но внутри храма его отпустило, снизошло странное успокоение – будто бы он растворился в сгущенном внутри собора времени, стал одной из фресковых фигур, что строго и весело стояли, сидели, летели по стенам, свивались в хороводы, царили и смиренно преклоняли колени.
“Гляди, Митенька, – тихо и восторженно сказал Котя, – ведь это фрески Гурия Никитина. Учись”.
Митя задирал голову, ослепленно, дивясь, обводил глазами огромное пространство храма, все расписанное, населенное живыми существами – людьми, птицами, рыбами, зверьем, растеньями, богами, – ипостасями единосущего Бога, который, смеясь и радуясь, из-под купола благостно глядел на создание, на творение рук Своих. Какие яркие цвета, будто омытые росой, будто высвеченные Солнцем изнутри. Какие счастливые лица. Где люди, где святые?.. Каждый человек – святой, шептал и кричал ему этот далекий Гурий своими безумными светлыми красками. Каждый человек – Солнце. Ты просто не знал об этом, Митя. Ты шагал в пропасть и тьму, а свет – вот он. Не надо за ним ходить далеко. Он – внутри тебя.
– Котя, – крикнул он, и его голос гулко отдался внутри собора, – гляди!.. Кто это!.. вон, в короне?.. в короне с зубцами?.. там, справа!..
– Там Царь, – ничуть не удивившись, ответил Котя, комкая в руках зимнюю цигейковую шапку, и перекрестился, – Государь Николай Александрович, Митенька, ведь его канонизировали, еще давно, Зарубежная Церковь, а наша – не признала, а вот в Ипатий в подарок из Франции – икону привезли… и всех их, всего Семейства – тоже… вон там, подальше… А что ты не крестишься, Митя?.. Или ты некрещеный?..
– Крещеный, – смутясь, опустив голову ниже плеч, ответил Митя еле слышно, – крещеный… в Сибири бабка крестила… я маленький был, не помню…
– А где же твой крестик?..
– Потерял…
– Так давай я тебе другой куплю… прямо тут, в церковной лавке…
Он так и сделал. Они тихо поспешили ко входу, где на широкой тумбе, на черном бархате были разложены крестики и цепочки, образки и венчальные кольца. “Освященный?..” – спросил у торгующей послушницы. Сероглазая девочка в черном платочке весело кивнула. Котя взял крестик за шнурок руками; его руки слегка дрожали. Митя склонил голову. Когда холодная медь коснулась его кожи, он вздрогнул, и его скорчило, будто бы он вошел по грудь в ледяной источник.
– Ну вот ты и спасен, Митенька, – прошептал Котя, – как же ты мог жить… без этого…
Митю всего трясло. Колотило. Он прижимал холодные ладони к щекам. Будто издалека, услышал он голос Коти:
– А что же ты ни разу не перекрестился, Митюша?.. Перекрестись… Перекрестись, и тебе сразу легче станет… увидишь…
Он поднес тяжелую руку ко лбу. Сложил пальцы в щепоть. Как странно. Он накладывает на себя крест. А куда надо креститься – справа налево или слева направо?.. Темный он. А разве ему это надо было в жизни?.. “Сначала на правое плечо…” – услышал он голос Коти. Он ударил себя ледяным, костяным троеперстьем сначала в лоб, потом в живот, потом – по правому плечу, по левому, все в нем жарко вспыхнуло, будто бы он сделал что-то постыдное, что-то такое, над чем люди будут смеяться; он закусил губу до крови, на глазах его показались слезы, он опять опустил голову, будто виноват был страшно, непростительно виноват и прощенья не ждал, – и заплакал, заплакал неожиданно, навзрыд, взахлеб, как маленький пацанчик, что нахулиганил и не признался мамаше в содеянном. И вот его уличили. И вот он рыдает, хлюпая носом, утирая лицо кулаком.
– Митя, Митя, ну что ты, ей-Богу!.. я рад, я же очень рад… у тебя же так давно этого не было… ты спасешься, Митя, дай срок, верь, только верь… тебе же там, на Пречистенском, тоже плохо было – не оттого, что сердце… оттого, что Дьявол, Дьявол рядом с нами, в нас… слышишь!..
Котя подхватил его под мышки, вывел из собора на волю. Яркое, высоко уже восставшее над зимним белым миром Солнце било летящими отвес розово-золотыми и медными лучами в горбатые снега, в белые монастырские стены, испещренные оспинами времени, заиндевелые, мохнатые от толстого куржака ветви берез мотались на нежном, порывами налетающем ветру; вспугнутые вороны взмыли с верхушек берез в белесо-голубое чистое небо, и старушка, сидящая на ступенях Троицкого собора, поковырялась в заплечном мешочке, вынула горсть семечек и бросила птицам:
– Подкормитесь, птахи небесные!..
Котя держал ослабевшего Митю под руку. На щеках Мити замерзали на морозе слезы.
– Вот так и человек, Митя, так и человек, – шептал Котя Оболенский, обводя рукой зимний простор, – один должен обязательно кого-то подкормить, накормить, инчае тот с голоду умрет, другой – взять еду из рук… поклониться… или не поклониться, оскорбить, ударить, но все-таки взять и съесть… ибо голоден… один кормит, другой ест… и так все в мире, всегда… ты понимаешь?.. не плачь… ты все время только брал… ты никогда не давал… а когда я дал тебе – то ты заплакал… а что ж ты будешь делать, Митя, когда не Дьявол, а Бог, Бог тебе даст?.. а Он ведь даст, если ты – ты, Митя – попросишь…
Вороны кричали: “Карр, карр!..” – в бирюзовой морозной выси. Нищенка на ступенях собора крестилась, улыбалась беззубо. Котя и Митя тихо, медленно пошли от Троицкого собора к Романовским палатам – Котя хотел показать Мите, где жил-поживал когда-то Царь Михаил. Они вошли и обнаружили в палатах выставку старых, начала века, фотографий, изображавших последнего Царя Николая Романова и его августейшую Семью, все перипетии их жизни – от юных блестящих балов в Зимнем до мрачного расстрела, похожего больше на бойню, в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Они оба низко склонялись над стендами, всматривались в глядящие со стен бледно-коричневые, черно-белые красивые лица. Мир, которого больше нет. Жизнь, которая еще не искуплена.
– Митенька, послушай, – Котя взял и сжал его руку, когда Митя внимательно рассматривал знаменитую фотографию Царя – Николай выглядывал из окна вагона поезда; куда он ехал, куда его везли, уже арестованного?.. может, это был день, когда он подписал отречение в пользу брата Михаила?.. как скорбно сжаты губы, как ему охота покурить… выпить рюмку хорошей водки, забыться… везде кровь, смерть, слезы, рушится мир, рушится жизнь… а Бог?.. что ж Бог так спокойно смотрел на все это, на весь ужас, вылитый на Россию из небесного ушата?.. – Митенька, ты должен понять. Сейчас и именно сейчас. Все твои Бойцовские, все твои Дьяконовы и иже с ними – чушь. России нужна монархия. Нужна, как воздух. Сейчас говорят, что ее возврат – абсурд. Что это на смех курам. Что никто не захочет. И никто не поверит в ее нужность. Но… но, послушай… – Он сжал его руку сильнее. – Ты ведь сам видишь, как нынешняя власть разъедает Россию, как ржа. Она жрет все: и народ, и природу, и… и дух Божий, что витает над нашей землей… Она – несвященна, Митя… Священная только власть от Бога, а власть от Бога – это Царь… Народ сам сейчас ничего не решит… За него все решит Бог… Ты это – чувствуешь?!..
Митя выпрямился, оторвавшись от фотографии Царя в окне поезда. Да, да, вот и солдатская папироса в Царской руке. И ему смертельно захотелось покурить.
– Да, да, чувствую, конечно, чувствую, – поспешно закивал он. – Выйдем из палат, Котя… закурю, а то опять что-то к сердцу подступило…
Когда они вышли на крыльцо палат и Митя закурил, а Котя отгонял рукой дым от лица, Митя внезапно вспомнил. Он вспомнил икону, которой откупился от таганских урок; он вспомнил, что взял с собою в дорогу в Кострому то, что сейчас тихо покоилось в его кармане – а вдруг карман дырявый, значит, такая судьба. Он запустил руку в карман. Вытащил, раскрыл кулак. На голой, стынущей на январском морозе Митиной узкой ладони лежал палестинский крестик из слоновой кости с дырочкой внутри – погляди внутрь, и ты увидишь Тайную Вечерю, нарисованную, верно, комариным носиком на белой костяной пластинке. Таких крестиков, сказала ему тогда старуха Голицына, всего три в мире, и они стоят миллионы долларов. Сколько бы они ни стоили. И сколько бы ни стоила его, изломанная, безумная, Митина жизнь…
– Держи, Котя, – сказал он Оболенскому и протянул крестик. – Возьми. Это тебе… на всю жизнь.
Он отвел вбок руку с сигаретой. Бросил ее на снег. Солнце уже садилось за кромку монастырских садов. Над их головами зажигались в синеве небесные лампады.
Когда они грелись, коротали время перед Рождественской службой в маленькой монастырской сторожке – их посадила туда сердобольная смотрительница Романовских палат, видя, что им некуда до начала Литургии податься, – Митя ни с того ни с сего рассказал Коте про казино.
Про то, как он играл и выигрывал. Про то, как проиграл и отыграл Царский перстень. Про Лангусту и Пашку. Про сауну с девицами. И про то, как он отдал перстень, когда прямо на него глядело револьверное дуло.
Котя спросил, и голос его дрожал: а чей… а от кого тебе достался этот перстень?.. – и Митю поразила тоска, с какой был задан печальный, наивный вопрос. Митя не ответил. Он спросил. Он спросил: отчего ты так загрустил, Котя?..
И тот ответил: князья Оболенские – друзья Царя… вся моя родня – в Париже… у тебя была парижская жена, ее убили… а подобный перстень, по семейной легенде, мой дед, влюбленный в Великую Княжну Татьяну, подарил ей, а она передарила его отцу, а отец, видишь…
И Митю понесло, будто он вина хлебнул. До начала службы он успел выложить Коте все – про старуху, про драгоценности, про их роковой уход от него, будто кто-то невидимый злобно, торжествующе мстил ему, выхватывал сокровища у него из рук.
“Да, так и должно быть, Митенька, – дрожащим голосом проговорил Котя, плотней запахиваясь в шубу. – Это все тебе ведь не прнадлежит. И их у тебя отбирают. Тебе показывают, что к чему. А ты все будто не понимаешь. Но ты поймешь. И скоро. Я постараюсь тебе помочь. Только не сверни с пути. Пройдет время – я тебе, дорогой, больше расскажу”.
Митя понюхал пальцы, пахнущие табаком. “Ты на меня крест надел, а я – на тебя. Мы теперь с тобой – крестные братья, Котя”. Он усмехнулся. Эмиль – Папаша, а Котя – брат. Впору перочинным ножиком резать ладонь и смешивать кровь. Обойдемся без сентиментов, без мальчишьих штучек.
Когда они вышли из сторожки, чтоб идти на службу, уже совсем смерклось, и над Ипатьевским монастырем сияли звезды, и среди них – огромная, кроваво переливающаяся звезда, и Митя узнал, что это Марс.
Казино, казино… Рулетка, шарик, волчок… Карты, карты, рубашками, картинками вверх… Зеленое сукно игорного стола…
И – внутренность строго высокого храма, где воздевает руки священник, возглашая: “Вонмем!.. Миром Господу помолимся!..” – где слаженно и печально поет мощный хор; где нежно зеленеют и светятся сусальным золотом радостные фрески, где горят, пылают счастливые, безумные свечи, тайные огоньки, души ушедших, души живых… Два мира. Две дороги. Зачем он по этой-то дороге идет. Здесь его обсмеют, не признают. Он же замаран со всех сторон. Он болен. Не подходите! Он прокаженный. А бедный Котя думает – он излечится одной только этой счастливой Рождественской Литургией.
Кто написал Литургию?.. Василий Великий, Иоанн Златоуст, – шептал ему Котя… Ему ничего не говорили эти имена. Эти люди давно умерли. А служба жива. В честь Рождества. Родился Бог, две тысячи лет назад. А разве Бог – рождается?.. Он же был всегда… Митя ничего не понимал. Не хотел понимать. Он только чувствовал: запах ладана, и жаркий треск множества свечей, и медовый, иззелена-янтарный свет от качающихся в вышине на сквозняках лампад, и яркие, трепещущие, красно-мандаринные свечные язычки, и тонкий коричневый тающий, плывущий воск перед ликами Богородицы, перед огромными византийскими печальными глазами Спаса Нерукотворного… – а вот и Спас в Силах, а вот и святой Николай, лысый, чем-то похожий на Котю, такие же пушистые волосы разлетаются вокруг лысины, такие же румяные скуластые щеки, такие же морщины на лбу, только у Николая глаза печальные, а у Коти – радостные…
И музыка, гул музыки, голоса совсех сторон, они поют, они славят, они радуются. Все – радость. Митя, ты убил, но если ты попросишь прощенья, тебе оно будет дано. Невозможно! Этого не может быть! Нет, может. Все – может. Ты же не пробовал. Попробуй. Это же так просто. Слишком просто. Так просто, что даже страшно. Страшнее, чем стрелять в живое кричащее лицо.
Хор запел Рождественский тропарь. Дьякон возгласил хвалу Господу. Священник запел Великую Ектенью. “Блажени нищие духом, ибо тех есть Царствие Небесное… Блажени плачущие, ибо утешатся… Блажени миротворцы, ибо тии сынове Божии нарекутся… Блажени кротцыи, ибо тии наследят землю… Блажени милостивыи, ибо помиловани будут… Блажени изгнани правды ради, ибо тех есть Царствие Небесное..”
Митя почувствовал – колени его подгибаются. Котя не останавливал его. Он склонился, упал, как подломленный, на колени, прямо на жесткие каменные щербатые плиты собора. И ему показалось – все нарисованные на фресках люди, святые, птицы и ангелы склонились перед Богом вместе с ним.
И словно огромное Солнце встало из-за алтаря! Все вокруг залучилось, ярко-алые плащи святых взметнулись, просияли улыбками лики архангелов и серафимов; раскрылись за спиной каждого молящегося рядом с ним широкие крылья, и воздухом и светом наполнился изумленный храм.
Будто двери открылись – и ворвался зимний ветер, и ворвалось сиянье ярких звезд над костромским лесом, и вошли в храм, как в нищие ясли, мужики-пастухи, и вплыли на верблюдах, конях и слонах волхвы, и звенели на сбруе бубенчики, и несли старцы в чалмах и тихие девушки в разноцветных шелках на вытянутых руках богатые подарки – золотые кувшины, спелые апельсины, желтые лимоны, связки бирюзовых и жемчужных ожерелий, а одна девушка несла деревенскую, увязанную чистенькой марлечкой – баночку с вареньем, с вишневым – он рассмотрел ягодки через стекло…
И там, около алтаря, прямо на полу, перед Царскими Вратами, сидела юная женщина, держала на руках голенького спящего мальчика, он весь выпростался из пеленок, над его лысеньким младенческим затылком поднималось золотое сиянье, – и Митя подался вперед, он сощурился, он рассмотрел – это ведь была его убитая жена Изабель, француженка…
А хор ликовал, хор взмывал ввысь сияющими голосами, хор смеялся: “Рождество твое, Христе!.. честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим… Богородицу славим…”
И Изабель повернулась, чтобы поглядеть на идущих к ней волхвов, и повернула голову, и Митя с ужасом увидал, что ее волосы из светлых, лучистых, льющихся сделались черными, коротко стриженными, а глаза – раскосыми, как у японки, и он понял, кто это – Анна. “Мадам Канда!..” – крикнул он в духоте и световом пожаре праздничного храма, но его никто не услышал в гуле и шуме, в звоне возносящихся к небу ликующих голосов, а где Котя, а Котя стоял рядом, плакал от радости и молился, истово верующий, счастливый Котя, ведь он не убивал людей, он не глядел никогда на мертвого человека, убитого твоими руками, он стоял такой чистенький, хорошенький, такой весь Божий, – а он, Митя, весь дрожал от страха, потому что женщина с ребенком на руках, сидевшая на полу у алтаря, встала, углядела его в толпе прихожан – и пошла, пошла к нему, глядя на него прямо, неотрывно, и он, не в силах отвести взгляда, глядел в ее лицо, в ее глаза, и, чем ближе она подходила к нему, а шла она невесомо, не касаясь ступнями каменных плит, шла по воздуху, не шла, а летела, – тем яснее он понимал, что она не молодая, а старая, вот все ближе ее лицо в адских морщинах, да ведь это же старуха Голицына, вот оно и жемчужное ожерелье, наверчено на сморщенной черепашьей шее.
И когда женщина с плачущим, орущим мальцом на руках сделала к нему еще шаг, последний шаг, он увидел розовое, улыбающееся красными губами лицо Инги – без маски, голое, с неистовой, пронзительной зеленью глаз, с рыжими кольцами кудрей по плечам… Все вокруг него потемнело. Он упал в храме наземь, ударившись головой о камень плиты, и перестал видеть и слышать.
Котя довез его на попутке из Ипатьевской слободы до центра Костромы, до Сусанинской площади, называемой в просторечии Сковородкой. Он очнулся, пока ехали. Они с Котей вышли у торговых рядов. В черной, алмазно-искристой, многозвездной Рождественской ночи белые каменные своды, тяжелые колонны светились нежным занебесным светом. Над белыми стенами торчала высокая колокольня Богоявленского монастыря. Митя глубоко дышал морозным воздухом. Котя тихо сказал:
– Христос родился. Две тысячи лет уже тому… Как нам быть… как жить дальше… что с нами будет… ведь война идет, Митя… страшная, непонятная кавказская война… Люди гибнут, как гибли и тогда, в Риме, в Палестине… Что изменилось?.. Вера не должна быть поколеблена… Она – единственное, что удержит нас на плаву…
Митя стоял на морозе, посреди Сковородки, без шапки – Митину шапку Котя засунул в сумку, вынув ее у него из рук, у бесчувственного, упавшего на плиты собора. Закинул голову к звездам.
– Звезды, о звезды, – бормотнул он невнятно, – льетесь вы с неба, как слезы… Котя, ты видишь, как их много!.. Что мы такое перед ними?.. снежная пыль, грязь, мальки, головастики?.. хищная саранча, пролетела – и нет хлеба на земле?.. А Христос кормил хлебами народ… как это ты говорил – пятью хлебами накормил тысячи, тысячи… Глупости… старые сказки… для бабушек…
Он обернулся к Коте. Глаза его горели.
– А жизнь – не вера, не молитва, Котя! Жизнь – жестока! Как лезвие… Резанет – и нету тебя… А ты резанешь – и нет ближнего твоего… Все сражаются за место под солнцем… Я тоже сражался… Я выгрызал себе место, выдергивал его из-под ног того, кто стоял ближе ко мне… я сделал себя, сделал себе тепло, уютно, сытно, сдобно, богато… сам сделал!.. но какой ценой, Котя!.. какой ценой!.. – Он задыхался. Он готов был упасть перед Котей на колени и исповедаться ему. И их услышала бы лишь одна эта морозная, лютая черная костромская ночь. – И вот эта цена преследует меня… я не могу больше… я дорого заплатил… оказывается, Котя деньги стоят очень дорого… очень, очень… ты даже не представляешь, сколько, князек дорогой… Оказывается, ты делаешь выбор… и выбор этот жесток и страшен: либо ты останешься чистым, чистеньким таким, добреньким и хорошеньким, и умрешь в нищете, в безвестии, в унижении… в голоде… но честным, кристальным таким… Гусем Хрустальным… либо…
Он замолчал. Котя стоял перед ним, кутаясь в старую шубу, подняв до ушей цигейковый заиндевелый воротник. Он внимательно, сострадательно глядел в Митино побелевшее на морозе лицо – с впалыми щеками, с дрожащими губами, исцарапанными ветром и снежной крупкой.
– …либо – убиваешь… предаешь… смеешься над Богом… над своим Богом смеешься!.. и становишься сам – Богом, Царем, князем, принцем, владыкой, у тебя все есть, все лучшее к твоим услугам, тебя боятся и уважают, с тобой считаются, ты пользуешься благами жизни, ты… живешь!.. Ты живешь так, как, по идее, Котя, и должен жить каждый человек!.. а живут – избранные… избранные!.. А ты, Котя… а я… избранный – или каждый?!.. Кто мы такие для себя?!.. А для Бога?!.. Или… Ему – все равно?!..
Он кричал на пустынной ночной площади, разбросив руки безумным крестом. Котя стоял, упрятав лицо в воротник. По его скулам катились и тут же замерзали на морозе слезы, превращаясь в соленые ледышки.
… … …
Поездка в Ипатьевский монастырь не прошла даром для обоих.
Оболенский понял Митю лучше и глубже.
Митя открыл для себя неведомое пространство жизни души, Духа – то, что, ему казалось, он навсегда утерял с тех пор, как пошел вместе с Варежкой на то давнее дохлое и мокрое дело.
Они слонялись по Москве; Котя увлеченно рассказывал ему историю старых знаменитых и неприметных зданий, жизнеописанья великих зодчих – от Бармы Постника до Щусева; Митя то и дело просил завести его то в один, то в другой московский храм – так они облазили все знаменитые церкви, и церковь Космы и Дамиана, и церковь Иоанна Богослова, и Елоховский кафедральный собор, где стояли Всенощное бдение, и веселую церковь в Сокольниках, и церковь у Пимена, что на “Новослободской”, и Измайловский храм, и церковь Вознесенья, что рядом с Консерваторией, побывали и в Новодевичьем монастыре, и в Донском, и на Сретенье стояли службу в Богоявленском соборе, и Митя приобщился тайн, чудес, аромата и прелести старой храмовой Москвы, окунувшись в жизнь, сокрытую от него и сейчас с такой живой силой, яркостью, громкостью и тишиной явленную ему.
Зачем послан ему Котя?.. Он не знал еще. Он таскался за ним по церквам и монастырям и думал насмешливо: ну, таскай, таскай меня, авось я просвещусь, буду хоть похож на русского человека, а то в России живу, а… Что “а”, он не додумывал. Он успокаивал сам себя. Он затепливал в храмах тонкие медовые свечки, крестился, и рука ото лба и груди уже все легче шла к плечам, уже без обрыва сердца в пустоту, без страха.
Но, приходя в одинокий дом, в свой запущенный грязный особняк, уставленный пустыми бутылками и тарелками с засохшей пищей – раздольем для мышей, он мрачно окидывал все циничным взором и думал: пора кончать это романтическое безделье, надо позвонить Эмилю, надо приниматься за дело. Дела не ждут. Ты забросил дела. Ты хорошо начал, Митя, но ты плохо кончишь.
“Это ты, мой мальчик?.. – ворковала в трубку Лора, и он понимал – она опять заманивает его, она ждет его, она будет рада, если он придет. – А Папы нет… Бойцовский увез его в Питер, там какая-то кровавая история с питерским новым банком, их партнером… укокошили генерального директора, прямо в собственной машине… Эмиль дождется… всех нас ждет плохой конец, мальчик!.. так давай не будем терять времени, а-а?!..” Ее хищный, похожий на рычанье дикой кошки смех обволакивал Митю, опутывал сетью. Он выдавливал: “Позвоню через неделю”, – кидал трубку на рычаги.
И когда приходил Котя Оболенский, краснощекий с мороза, веселый, счастливый, вынимал из-за пазухи завернутую в вощеную бумагу красную рыбу – дорогой гостинец!.. – или пакетик ореховых трубочек, дороже этой красной рыбы и этих ореховых трубочек для Мити не было яств на свете. Он забыл, что такое чистая радость. Котя дарил ее ему. И ему было страшно потерять радость, хоть он и смеялся над собой, хоть и подначивал себя: я же художник, мне же нужен бред, увлеченье, фетиш, да, я купился на красивое мерцанье свечек в церкви, на богословские разговоры, на обаянье старины… на все русское, забытое, древнее… на запах древних книг, заляпанных воском, в медных застежках… бываху, бяху… не лепо ли ны бяшете… ха, может, я картину из русской жизни в недалеком будущем напишу… Краски сохли, наполовину выдавленные из тюбиков. Кисти мокли в банке в отхожем месте. Какой он художник. У него просто есть счет в приличном банке. И миллионы долларов на счету. И налоговая полиция может в любой момент его прижучить. Да не прижучит. Потому что он – сын Эмиля Дьяконова, ma parole, fuck you.
А Котя все больше, все дольше говорил с ним, откровенничал, погружал его все глубже в то, чем сам жил – в то святое, чем он дышал, чему посвящал себя, уповая на то, что путь, избранный им, – путь настоящий. “Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь”, – повторял он Мите тихо, будто бы внушая ему, будто бы впечатывая горячие слова навек клеймом в кожу, в душу, в боль. И Котя проболтался. Он просто поделился с Митей тем, чем не должен был бы с ним делиться; Котя видел, что Митя на распутье, что он стоит, качаясь, на острие, на канате, на колокольной высоте, что он может в любой миг опять сорваться туда, откуда Котя его так упрямо, перекрестясь, тащил, – и все-таки Котя Оболенский выболтал тайну.
Константин Оболенский открыл Дмитрию Морозову тайну Пути.
Он говорил об этом Мите корявыми, тайными словами.
Видишь ли, есть другой Путь. И я на него вступил. Среди вас, богатых, власть предержащих, есть тоже люди. Они объединились. Да, это партия. Тайная партия. О ней никто не знает. Да, не только в Москве и Питере. И в других городах тоже. Всем надоела вечная Зимняя Война, что все идет и идет. Мы в кольце огня гибельного. И мы, правые… Вы – правые?! Да, мы правые, потому что мы – правы. Кто вы?.. Мы – монархисты. Мы тайное общество. Мы сердце России. Россия всегда была чревата тайными обществами. Мы не погрешили против традиции. Мы сделаем так, что в России будет новый переворот. Настоящий. Мы повернем рычаг времени. Река, вывернутая жестокой плотиной из берегов, отклонившая стрежень, вновь войдет в великое старое, высохшее русло. Время зарастит рану. Мы забинтуем ее. Мы возложим корону на нового русского Царя. Вы – сумасшедшие!.. Мы – свидетели.
Оболенский говорил, задыхаясь, сбиваясь. Он волновался, будто говорил речь на Красной площади. Митя слушал, запоминая каждое слово. Когда Котя закончил, насатала такая тишина, как в церкви.
“Ты можешь смеяться над жаждой вернуть Царя…”
“Я ни над чем не смеюсь. Мне тебя жалко, Котя. Ты же знаешь, что это невозможно. Что мир давным-давно другой. Зачем же вы в это играете?.. – Митя говорил строго и печально, как старший с младшим. – Ведь это не игра. Жизнь – это не игра. Ведь история еще не умерла. История продолжается. А вы хотите… поставить историю с ног на голову?.. и поглядеть, как она будет дрыгать ножонками, уже и так изрядно испачканными в крови?.. Или вы хотите убить историю… и родить ее вновь?.. Как будто ничего и не было?.. Династия Рюриовичей… династия Романовых… династия… Оболенских?..”
Котя, сидевший за кухонным столом в особняке у Мити в Гранатном, сжал в пальцах ножку хрустальной рюмки. Наклонил лысеющую голову. Волосы светлым пухом вздулись вокруг изморщенного лба.
“Я не пытаюсь взойти на трон, Митя. Я не настолько самолюбив и тщеславен. Хотя мой род велик и славен и ничем не хуже других княжеских родов. Все будет не так, как в семнадцатом веке, когда на трон сажали мальчика Мишу Романова. Все будет иначе. Но будет. Ты знай это. Я тебе это сказал потому… – он сам налил себе из бутылки водку в остро-граненую рюмку, поглядел печально, как одинокая птица, как старая мудрая сова на ветке зимнего дерева, – что люблю тебя, Митя.”
Митя выключил настольную лампу, зажег свечу. Пламя выхватило из тьмы нежный подбородок Коти, выявило морщины на щеках, близ углов рта, заставило засиять светлые счастливые глаза. “Теперь я понимаю, почему ты такой счастливый всегда, Котя. Ты борешься. Ты знаешь, за что борешься. А мне не за что бороться. Я не верю ни во что. И ни в кого.” Митя опрокинул рюмку в рот. Поморщился. Откусил от бутерброда с красной рыбой. “Не гневи Бога, Митя, – тихо сказал Оболенский. – Не болтай лишнего. Я приглашаю тебя. Я зову тебя – идем с нами. Ты же умен. Ты сердечен. Ты просто заблудился. Выходи на дорогу. Подумай хорошо. Я всегда буду рядом с тобой. Я не оставлю тебя.” Пламя свечи колыхалось – из форточки тянуло ветром. От водки разрумянились их лица. Сердце Мити громко стучало.
“Я знаю, что ты не оставишь меня”, – сказал он Коте, глядя на прозрачную, серебряную ртуть водки, дрожащую вровень с краями хрусталя.
Бойцовский настиг его тогда, когда он и думать не думал: в день, когда они с Котей собирались в баню, в Сандуны, в номера. Митя заготовил веники, мочалки, водку, закуску, купил ветчины и лимонов для чаю; Котя знал толк в том, как поддавать пару в русской парной, брал с собой пиво, мяту, сушеные листья эвкалипта, – эх, давненько мужики в русской баньке не мылись!.. – и, когда Митя уже одной ногой был на пороге, в дом нагрянул Бойцовский – без звонка, без предупрежденья.
– В баню собрался?.. Вижу, вижу. Разговор есть, дорогой Дмитрий. Назрел один фурункул… он должен лопнуть. И чем скорей, тем лучше, как поют в одной старой опере. – Бойцовский помял пальцами торчащие скулы. – Ты ни за что не догадаешься, об чем будет базар. Но слушай внимательно. Стриги ушами. Урок с тебя спросят. И вскорости.
Митя пригласил Бойцовского сесть.
– В ногах правды нет, Борис. Отдохни. Не так часто мы отдыхаем.
– Ты вот, судя по всему, заотдыхался, друг, – насмешливо, остро блеснув на Митю прищуренными глазами, бросил Бойцовский, усаживаясь в кресло. – Разговорчик мой будет короткий, ты не думай, я тебя не утомлю особо. Мы тут выслеживаем одну шайку-лейку, что закопошилась среди нас. Сектантиков одних, и отнюдь не безвредных. В их лапках и деньги, и оружие. Нет, нет, это не с Чечней связано. Хотя кто их знает, этих ушлых ребятишек, может быть, и с ней тоже. Эта кодла – монархическая. Ребята хотят монархию на наши шеи вздеть. Заржавело ярмо, хомут поистрепался, да если его почистить и подраить, так они думают, наша выя его и снесет. Романтики, мать их. – Он вытащил сигарету, раскурил. – Мы вышли на кое-кого из них. Отловили. Обезвредили. Нам это сейчас вовсе не надо. Если предыдущий президент заигрывал с нынешней Императорской Семьей за границей – со всякими княжнами Мариями, со всями Великими Князьями Георгиями, – то нынешний не будет цацкаться. Он просто вырубит этот балаган. Хотите клюквенного сока?!.. Сейчас будет вам.
Бойцовский вскинул взгляд на Митю. Ну, Митька, ты же так умеешь краснеть, отчего же ты не краснеешь.
– У меня есть сведения, мон шер ами, что ты… ну, как бы это помягче… дружишь с одним добрым и хорошим господином, с князем Оболенским. Я не намекаю ни на что такое, ну, что ты на меня так уставился!.. я же не хочу сказать, что вы балуетесь… но ведь и Платон баловался, и Чайковский, почему бы Мите Морозову не побаловаться… ну, полностью геем ты никогда не станешь, дружок, тебе это не грозит… я в курсе, что тебе нравятся самые хорошенькие женщины Европы и… хм… мира… бисексуал – это тоже очень стильно, ты не думай… и все же… все же… ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан. – Он подобрался, поджарый лесной кот, стал сразу собранным и жестким. Огонь сигареты, огонь кошачьего взгляда. – Мы выцарапали кое-кого весьма влиятельного внутри нашего круга, кто связан с ультраправой монархической партией теснейшим образом. Ребята не слабые. Мы их недооценивали. Это тебе не Союз Русского Народа, Митя, это не Черная сотня, не театральное Русское национальное единство. Это гораздо все серьезней. Скажи мне. – Он затянулся, выпустил дым изо рта и из ноздрей. – У меня времени мало. Я тебя тут не допрашивать пришел. Мы же не в гестапо. Скажи мне как другу. Твой дружок Оболенский… что тебе рассказывал про своих монархистов?..
Митя встал со стула, нервно прошелся по комнате, подошел к сумке, собранной для бани, затолкал глубже торчащий березовый веник.
– Ничего.
– Вранье чистой воды. Вы же в таких отношеньях. Он не мог тебе не рассказать.
– Ни в каких мы не в отношеньях! – взбесился Митя. – Ты пошляк, Борис! Ты… меряешь по себе… вы все всегда меряете по себе!..
– По себе или по жизни, которая устроена так, и не иначе, – назидательно сказал Бойцовский и тонко улыбнулся. Снова поднес сигарету ко рту. Нет, он от него не отстанет, тоскливо подумал Митя. Не расколюсь, хоть расшибись. – Нам важно знать, Митя, пойми. Нам очень важно знать. Говорил ли тебе Оболенский о связях с другими городами России?.. Говорил ли он тебе о том, кто так немыслимо щедро из содержит?.. Говорил ли он тебе о действиях, которые они собираются предпринять в ближайшем будущем?.. И самое главное: говорил ли он тебе, кто у них главный?.. Кто – вожак-гусак?.. Уж не он ли сам, господин князь Оболенский, собственной персоной?.. А?.. Молчишь… Ну да, мы ведь не в концлагере, я тебя в газовую камеру отправлять не собираюсь… Молчи, молчи…
Бойцовский загасил окурок в малахитовой пепельнице на столе, изогнул губы в ухмылке, склонив голову набок, поглядел на Митю исподлобья. Ах, хороша была его жена, хороша. Не чета ему, парвеню сибирскому. И жаль, что она ему не досталась. Они оба с Прайсом проиграли тогда. Оба.
– Молчи, да не домолчись только… – Он встал из кресла, будто подкинутый пружиной. Аромат хорошего табака и хороших мужских духов достиг Митиных ноздрей. – У меня к тебе деловое предложенье, старик. Прежде чем ты попрешься в свои Сандуны, обдумай кое-что. Я предлагаю тебе большие деньги, старик. Очень большие деньги. Такие, о каких ты здесь, на земле, и помыслить не мог, разве что на небе, да и счел бы, что ты просто спятил. Я предлагаю тебе сотню. Только выведи меня… нас… на них. Понимаешь, если мы на них не выйдем скоро, завтра, прямо сейчас, мы уже сильно рискуем. Потому что у них – половина наших. И мы должны быстро взять и накрыть шапкой наших, чтобы они не успели перекачать наши деньги им, на их закрытые швейцарские или какие там, хоть австралийские, счета. Сотню. Слышишь, сотню. Или ты оглох?!
Митя потрогал ногой банную сумку. У него в ушах звенело.
– Сотню… чего?..
– Сотню лимонов, дурак!
– Сто лимонов… долларов?..
– Ну не колорадских жуков, старик! Хотя я бы с удовольствием насыпал их тебе за шиворот…
Звон в ушах рос, заполнил все пространство вокруг. Господи ты мой Боже. Сто миллионов долларов. И его счет не лопнет. Да он тогда может свалить отсюда куда угодно, хоть в Калифорнию, хоть на Лазурный берег. Купить огромную виллу на Лазурном берегу. Поставить охрану. Где-нибудь на скалистом, лесистом морском берегу, куча солдат и собак, чтоб никто не подобрался просто так. Засекретиться. И жить, жить, жить уединенно, роскошно, как настоящему Царю, в свое великое удовольствие, и уже больше никогда ни во что не играть, и есть с золотых тарелочек, и купаться в море, и молиться Богу. Богу?! Ну да, Богу. И Котю забрать с собой. И им обоим жениться на… да на ком угодно, хоть на нью-йоркских лучших топ-моделях – на Синди Кроуфорд, на Ингрид Лэй, – хоть на французских актрисках, хоть… на русских шлюшках, ими кишит весь Париж, вся Ницца… И спасти их души, спасти свои души… Сто миллионов… И выкупить… выкупить картину у Юджина Фостера… вернуть… вернуть “Изгнание из Рая”.. жить самому в Раю – и все время, всю оставшуюся жизнь глядеть на картину, что изображает изгнанье, бегство из Рая, бегство в ужасе, в отчаянье, в страхе… Ну да, да, здесь же скоро начнут рваться бомбы, а дома уже взлетают на воздух, а снаряды уже рвутся там, на Кавказе, и огонь перекинется, огонь имеет свойство перекидываться, ты же знаешь об этом, Митя, твой Рай скоро сгорит, и ты должен бежать… бежать!.. как можно скорее… Ты еще успеешь… Сто миллионов… сто…
Митя захватил воздух непослушными губами. Его улыбка покривила ему лицо.
– Боря, – ему показалось – это не его голос. Это прошелестел скукоженными листояками сухой березовый веник, торчащий из сумки. – Я тебе все расскажу. Все, что знаю. Думаю, тебе это поможет. Но только после того, как ты переведешь деньги на мой счет.
Оболенский молчал. От него не было звонков. После той бани, где они напарились всласть, хлестали друг друга по спинам, будто стараясь выбить всю грязь, всю боль и дурь, все хворобы душевные и телесные, скопившиеся в них с избытком, Котя как онемел. Будто бы уехал из Москвы, не сказав Мите.
Бесконечно звонила надоедливая Лора, он отмахивался от нее, как от мухи. Эмиль еще не вернулся из Питера, и она не прочь была подразвлечься с Митей. “Сынок, у тебя что, кто-то уже появился?.. ах, проказник… недолго же ты скорбел… ну, приходи, я помогу тебе окончательно излечиться от тоски по Изабель…” Она молчала об Инге. Он не спрашивал. Отвертевшись, промямлив что-то светское и пустобрехское, он клал трубку, снова судорожно хватал ее, набирал номер Константина. Гудки. Длинные гудки. Они взяли его. Они увезли его. Он предал его. Отнюдь не за тридцать сребреников, ха-ха.
Он не выдержал. Он сам поехал на квартиру к Коте – уже на вновь купленной машине, на сей раз отличном “мерседесе”, сосватанном ему рыжемордым Прайсом, у которого тоже имелся “мерс”, и он нахваливал Мите именно эту модель. Когда Митя зазвонил, потом забарабанил в дверь Котиной квартиры на Сивцевом Вражке, у него сердце странно сжалось: он уже понимал, что стряслось страшное, у него уже коленки подкашивались, он уже проклинал себя, костерил на чем свет стоит. Ницца!.. Ривьера!.. Поместье на Средиземном море!.. На океане в Калифорнии!.. Когда дверь отъехала и на пороге перед Митей появилась тонкая девушка в белой медицинской шапочке – судя по всему, сестра милосердия, – у Мити внутри все оборвалось и ухнуло в бездну. Бездна. Черная бездна. И рыжекосое лицо над бездной, и мотающиеся в ушах золотые серьги.
– Скажите пожалуйста, – Митин голос дрожал и прыгал, – Константин Михайлович… он здоров?..
Девушка посторонилась, пропуская Митю в бедную, тесную прихожую.
– Константин Михайлович еще нездоров, – строго сказала она, сложив губки сердитым бантиком, – но вы можете пройти, он велел пускать к нему, если к нему придут. Он ждет важных новостей. Снимайте обувь, на улице грязно. – Она наклонилась и протянула ему веничек-голик – как в деревне, подумал Митя. – Проходите в гостиную. Константин Михайлович велел постелить себе в гостиной, в спальне ему тесно и душно, он там затосковал, а здесь телевизор, он новости смотрит…
Когда Митя вошел и увидел на подушке заострившееся лицо Коти, утерявшее веселый природный румянец, с поседелыми волосами над лбом, еще больше изморщиненным, с потухшим взглядом – так потухает свеча, и остается торчать лишь обгорелый черный фитиль, – до него дошло, что он наделал. Он все это сделал сам. Своими руками. Хорошо еще – жив. Он бросился к постели. Задел ногой за тумбочку, чуть не уронил пузырьки и склянки с лекарствами.
– Митя, Митя, родной мой, святая душа, – прошептал Котя, беря Митю за руку. Из глаз Коти стекали на подушку медленные слезы. – Митенька, вот ты и пришел. А я-то уж думаю, думаю. Не заболел ли. Сейчас по Москве ходит грипп. А я вот, видишь… – Он отвернулся. Слезы все лились. – Они… взяли всех наших… они не взяли меня только потому, что я… ну, словом, я…
Ему было трудно сказать это. Он мазнул себя ребром ладони по шее.
И Митя понял. Он побелел. Он уцепился за спинку кровати, чтобы не упасть. Он прочитал это в Котиных глазах. Они, люди Бойцовского, не взяли Котю только потому, что Котя наложил на себя руки. И он был очень плох. Он был в больнице. И они думали, что он умрет. И они думали: ну, с Оболенским все и так кончено, он сам постарался.
– Котя, сумасшедший… Ты…
Он схватил его руки, лежавшие поверх одеяла, бледные, жалкие, слабые руки, исхудалые, чуть дрожащие, как у старика.
– Не бойся, Митенька, это была такая минутная слабость… я не мог поверить, что все кончено… что все повырублено быстро, враз… что кто-то из наших, из наших людей мог предать… передо мной все закружилось, и я… дома было много лекарств, всяких… я выпил очень много таблеток… снотворных… я хотел уснуть навек… не вышло… меня спасла сестра, Наташа… она приехала не вовремя… то есть как раз вовремя… как хорошо, что ты пришел…
Он не допускает и мысли о том, что это я мог его предать, промелькнуло у Мити в голове. Он даже не подозревает… он так любит его, так верит ему, что даже… “Святая душа!..” Митя почувствовал – та щека, что обернута к Коте, горит, как от пощечины.
– Как ты… как ты сейчас?..
– Ну что, видишь, жив-звдоров, лежу в больнице, сыт по горло, есть хочу… Из меня врачи все вынули, все извергли… промывания, уколы, аппарат какой-то диковинный к почкам подключали – у меня почки отказали, Митя… Я понял, что в теле человека Бог все устроил как надо, и все связано… Если что-то одно отказывает – все по очереди выходит из строя, и довольно быстро… Ну ладно обо мне, это совсем неинтересно… Как ты?..
– Я?.. – Митя сидел у его постели уже весь красный, вишневый, будто из парной. – Я… сам не знаю… о тебе беспокоился…
Ты предал его. Ты его предал. И ты беспокоился о нем. Лицемер. Какой же ты лицемер, Митя. Вези его теперь, с больными-то, исхлестанными лекарственной отравой почками на воды, на курорт, в ту же Ниццу, на ту же Ривьеру. Ты, сволочь. За те же сто лимонов твоего поганого Бойцовского.
– Беспокоился?.. – Котино лицо озарила слабая улыбка, бледные губы задрожали, будто он опять собрался заплакать. – Ты так добр, Митя… Тебе не надо быть с ними… А они… Они меня все равно уберут… уберут все равно… ты же знаешь, они всегда доделывают дело до конца… Уберут, как убрали всех… У меня есть два выхода… у меня два пути… а третьего – уже не дано…
Котя сглотнул. Приподнялся в постели на локтях. Его глаза заблестели. Он поморщился от боли. Боже, как он исхудал, кожа и кости, подумал Митя; как Иоанн Креститель в тюрьме у Ирода Антипы. И никто, никакая Саломея не попросит после пляски его голову на блюде для Иродиады. А вот он, Митя, чуть не попросил. Для себя самого.
Митя закрыл глаза. На миг ему представилось, что у него вместо лица – тигриная усатая, хищная морда. И зубы оскалены. И вместо улыбки – вывален жаркий, слюнявый язык. Котя бы сказал ему: перекрестись. Как он может перекреститься, когда его руки снова замараны. Котя жив, Боже, благодарю Тебя. А если б он умер там, в Боткинской больнице, наглотавшись под завязки тазепама, реланиума и димедрола – что бы ты делал сейчас, неофит несчастный, миллионер недостреленный?!
– Ты не хочешь пить?.. – беспомощно, жалко пролепетал он. – Вот – чаек… тут, на тумбочке, с лимончиком… и у меня лимон в кармане есть, хорошо к чаю, завалялся…
Лимон. Сто лимонов. Лимоны, лимоны. Скулы сводит. Оскомина.
– Нет, спасибо… не хочу кислого… хотя для почек надо пить чай, много чаю… и хорошо бы – с молоком… со сливками…
– Я тебе принесу сливок…
– У меня выбора нет… Мне надо убираться самому, чтобы меня не убрали… Или монастырь… в монахи… там-то меня не раздобудут… или – на войну, на Кавказ…
– На войну?!.. – Митя сунулся к нему, поддержал его голову – Котя стал заваливаться на бок, видно, сильно закружилась у него голова, помутилось в глазах, он на миг потерял сознанье, и Митя, не рассуждая, подхватил его, осторожно положил на подушки. – Ты же не умеешь воевать, Котя… какой из тебя солдат!.. какой воин!.. Если б ты хоть что-то умел воинского!.. Ты, небось, и в армии не был…
– Я такой с виду маменькин сыночек, да?.. – слабым голосом спросил Котя, очнувшись, отирая ладонью со лба холодный пот. – А на самом деле, Митя, я ведь военное училище закончил, я ведь суворовец, я ведь, друг мой, офицер… да только кинул я армию, кинул… или это она кинула меня… разорвались мы с армией, увидел я всю ее ложь, всю подноготную грязь, весь обман и подлог… я быть в ней не смог, но я понимаю в военном деле получше тебя… жили б мы раньше, жили б тогда – юнкером был бы… а русский офицер всегда на Кавказе кровь свою лил, Митя, ну да, так всегда было!.. вспомни Лермонтова, вспомни Толстого… “Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал”… Я пойду туда, туда, Митя… Это война не государств, не политиков – это война религий, этносов… они хотят зеленым знаменем пророка задушить Христа воскресшего, да не выйдет у них, у чернобородых…
– С ними все сложно, Котя, – глухо произнес Митя, вынимая из кармана носовой платок и сам вытирая пот Коте с лица, – они-то ведь мыслят, что освободительная война у них!.. что они сражаются – за свою свободу!.. за свою собственную, а не за нашу и вашу!.. За свою свободу – и умирают во имя нее, как уирмали бы во имя Аллаха… Ты понимаешь, свобода… свобода…
У него вырвалось:
– Я не знаю, что это такое…
Он смял, скомкал в кулаке платок. Котя печально глядел на него. Глаза Оболенского опять наполнились слезами.
– Знаешь, Митя, – неслышно, беззвучно прошептал он, кладя руки поверх одеяла крест-накрест, – когда я побывал там… ну, ты сам понимаешь где… я почувствовал… я понял, что вот там – и есть настоящая свобода!.. Поэтому оттуда никто не хочет возвращаться, если его туда забирают… а если кого возвращают, вот как меня, – нам уже не страшна ни жизнь земная, ни все, чем нас пугают здесь: а вот там будет – ух как страшно!.. Ничего там страшного нету, Митя, там – Рай и благость, и свет, и воля… Свобода… Не бойся за меня. Мне не страшно будет на войне. Я пойду офицером. Скоро взятие Грозного. Намечается штурм. Разбойники сидят в городе. Они его не сдадут. А мы его возьмем все равно. И я пойду под пули. Лучше погибнуть там под пулями врага, чем здесь… – Он умоляюще поглядел Мите в лицо. – …от пули последней заевшейся сволочи…
Митя поправил ему простыню. Сам взял стакан с тумбочки, отхлебнул остывшего чаю.
– А тебе не кажется… тебе, такому христианину… что убивать – кого бы то ни было – грех?.. Ну, большой… смертный грех?.. А ты ведь пойдешь убивать, Котя, по-настоящему… Ты же никого, никогда не убивал… И вдруг – ты там… пули, танки, огонь, прицельными, наводка, пли!.. ложись!.. все рвется, все горит… гимнастерки на людях знаешь как быстро заграются?!.. особенно если облить бензином… А танк тоже горит ничего себе… И ты – там – внутри – в железе – и в огне… Ты спятил, Котя, тебе же по всем заповедям Бога – нельзя туда!.. Ты же не сможешь выстрелить!.. Просто – взять автомат и расстрелять всю обойму – в пустоту… А там – на домах, на чердаках – снайперы сидят… Тебя, тебя убьют сразу, а не ты убьешь… Так зачем же?! – заорал Митя натужно, и шея его побагровела. – Зачем же ты туда идешь?!.. Жить все равно не хочешь?!..
Котя прикрыл глаза. В комнату всунулось испуганное личико медсестры: что тут такое творится?!.. не можете поосторожней на поворотах?!.. ведь это все-таки больной человек, а не медведь в берлоге!.. Митя махнул рукой: извините, ладно, уходите, мы тут договорим…
Котя лежал с закрытыми глазами, вытянувшись, замерев, без движенья – как святой в гробу. И руки на груди крест-накрест сложены. Князь, аристократ, провались все на свете. Порода в каждой черточке просвечивает. Себя под пули – только не свою честь. Честь сохранит, убережет. Вот оно, воспитанье. Вот он – мир иной, потерянный, вновь не обретенный.
Еще Котя не разлепил губы, а Митя уже знал ответ.
– Затем, что я иду на эту войну защищать не только великую Россию, ставшую великой блудницей Вавилонской, что в будущем может снова стать великой Русской Империей, если мы сами, все, постараемся… но и потому, чтобы защитить русскую честь… о нас ведь уже говорят гадости… что мы, мы сами, наши, русские военные продали чеченским террористам взрывчатку, чтоб взорвать московские дома… и даже что это мы сами их взорвали… чтоб посеять в народе ненависть к Чечне, страх перед Чечней, чтобы войну в Чечне приветствовали… так же, как и любую войну, ибо все, что ни делает государство – ура, справедливо, велико… Но у меня есть душа. Отдельно взятая живая душа, Митя. И я пойду и положу свою душу за други своя – просто потому, что есть честь сраженья, что маленькой своею смертью я отмою замаранную, загаженную честь русского солдата. Я пойду солдатом – не офицером… Я… отработаю…
Митя глядел на лежащего в подушках князя Оболенского, как глядел бы на него мертвого, в гробу, при орденах, на войне заработанных.
– А в монастырь… не лучше?.. может, уедешь… пострижешься… в Ипатий?.. в Лавру?..
– Не могу, – догадался Митя по шевельнувшимся Котиным губам. – Не могу еще. Не чувствую себя готовым. Я хочу смыть кровью… безвинную кровь… я даже денег за эту службу не возьму, там же все наемники, там же все работают… я – не зарабатывать еду… я…
Он открыл глаза. Взял Митину руку. Его рука была горяча как огонь.
– Я еду туда – страдать… Христа ради…
“Как те, юродивые, тогда, давно”, – подумал Митя, и мороз прошел у него белой кистью по спине, поднял дыбом волосы надо лбом.
ГЛАВА ПЯТАЯ. БЕЗУМЬЕ
…Из драгоценностей старухи Голицыной, тающих в Митиной жизни, как дым, оплаченных кровью, и его и чужой, оставалось уже не так много. Он со страхом полез в заветную наволочку, развязал завязки. Высыпал то, что осталось, на кровать. Взял перстень-аметист великого Князя Сандро, повертел в руках, попробовал надеть на палец – он, к удивленью, налез, и даже на средний. Горел лилово-сумеречно-алым светом. Ну все, подумал Митя, теперь мне каюк, больше спиртного в рот не возьму, ведь камень предохраняет от пьянства. Поднес к глазам, к лицу образок с святым Дмитрием Донским. Ах, и этот был князь; да еще его тезка, а значит, это его святой, какое совпаденье. Не надеть ли мне сей образок на шею. Жизнь тяжела, а смерть рядом ходит. Митя попробовал цепочку на прочность – неизносная, вовек не порвется. Просунул голову в цепочку, поправил образок на груди, полюбовался. Потом затолкал под рубашку. Ведь это как крест нательный. Вот он и крестик, тоже под рубахой; он и в бане его не снимает, и в душе, когда моется. Котя не велел. На одеяле неистово сверкнули алмазные серьги Императрицы-матери Марии Феодоровны. В страхе Митя цапнул их, накрыл рукой, как бы ловил бабочку, опять раздвинул пальцы. Ох, надо бы подарить их женщине. Какой-нибудь милой, прелестной женщине, что станет их с радостью носить, его благодарить. Кому?! Новой жене?! Новой любовнице… Он вздрогнул, бросил серьги в наволочку, сумасшедше-быстро завязал ее, швырнул под кровать. Никаких женщин больше. Он наелся женщинами. Он сыт. По горло.
Он проводил Котю Оболенского на войну. В полном солдатском обмундировании, стоя около вагона, заметаемый колющим, режущим снегом, с вещмешком на плечах, Котя выглядел кургузо, нелепо, грустно, как обернутый в одеяло валенок – вечный воин России, исхлестанной военными вьюгами, вечный солдат, идущий сражаться невесть за что. Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
Котя глядел на Митю ободряюще; под глазами у Коти мерцали черно-синие круги – он плохо спал ночами, не совсем оправился от отравленья – сильно он испортил себе кровь. Митя глядел на него и думал: он едет умирать, он едет под пули и разрывы, под уханья базук, – а я?.. Куда поеду я?.. Покупать поместье на Ривьере?.. Они обнялись. Проводница толкнула Котю в бок кулаком. В другом кулаке у нее мотался фонарь. Ей в лицо бил снег, она отирала его рукавом. “Давайте, прощайтесь скорее!.. Зеленый уже дали!..” Котя задом влез в вагон, все смотрел на Митю, смотрел долго, пронизывающе, бесслезно.
Эмиль проводил время в перелетах между Москвой, Нью-Йорком и Парижем. Французики согласились на его условия; Парижский клуб пошел на то, чтоб отсрочить России долги почти на двадцать лет. Жаль, конечно, что Россия вступила в Парижский клуб на правах кредитора. Он один, Эмиль Дьяконов, не мог исправить эту ошибку. Но он все же добился того, чтобы кредиты были засчитаны по официальному курсу Госбанка и военные кредиты тоже были учтены. Париж уменьшил активы России втрое, и в Парижский клуб мы пришли с долгом уже не в сто шестьдесят миллиардов долларов, а всего с пятьюдесятью миллиардами.
О, добрая Россия. Опять кому-то дарит, все дарит и дарит деньги. И он, Эмиль должен изыскивать пути, чтоб не только отдавать, но и возвращать. Эти страны третьего мира нам должны столько, что… не отдадут никогда… а мы сами возьмем; только другой рукой, и из другого кармана. А идет война, и Чечня требует крови, людей, оружья, – денег, денег, денег. Поэтому война не закончится враз. Это долгая, тоскливая песня. На долгие годы. Самое страшное, что может быть, – Запад обозлится, науськанный Исламом, и чьи-то руки, чьи-то нервные пальцы будут искать замочки ядерного чемоданчика.
Запад затаился. Париж прижал уши. Нью-Йорк затих, как зверь в норе. Эмиль мотался туда-сюда, и улыбка не сходила с его разбрюзгшего лица под черно-седой черточкой усов. Пусть они подгрызают Россию по бокам. Пока он, Эмиль, жив – живо и бьется ее денежное сердце. Он не даст пропасть ни России, ни самому себе. Сам-то он не пропадет, даже если все полетит к лешему. У него уже есть на Западе убежище. Жалко, что не на Марсе, не на Луне.
Если крутая заваруха начнется – всем все равно придет конец, до всех доберутся. Тогда разом закончатся все войны на свете… и все доходы, что люди с них качают. И есть ли смысл в катастрофе?.. Человек осторожен, ох, осторожен человек… осторожнее крысы, что катает сырые яйца то на своем хвосте, то на брюхе перевернувшейся на спинку другой крысы, и она зажимает яйцо в лапках – так умные зверьки крадут яйца, а еще говорят, что у животных в башках мыслей нет…
И в Нью-Йорке, и в Париже, и в Стамбуле, и везде Эмиль чувствовал – Россия снова становится врагом для Запада. Врагом номер один. Таким врагом, против которого не надо наставлять ракеты, но которого необходимо тыкать копьями в бок – чтобы пьяно не забуянил, не взбеленился, не сорвал дверь с петель. Эмиль был умелый дипломат, но и он приустал. Прилетев в Москву с особо напряженного саммита из Нью-Йорка, он позвонил Сыночку.
Митя всегда поддерживал его, помогал ему; что с Митькой стряслось в последнее время?.. Мотается по православным храмам с каким-то отпрыском княжеской семьи; в Париже он когда-то встречался с князьями Шаховскими – с мадам Зинаидой, главной редактрисой “Русской мысли”, – с князьями Оболенскими, и Ирина Оболенская, сестра знаменитого поэта-эмигранта, поила его бергамотовым чаем и подарила ему деревянное Пасхальное яйцо-писаницу, расписанную ею самой искусней, чем ювелирные яйца Фаберже.
Не из тех ли Оболенских Митькин новый друг?..
Эмиль не любил церковников, не понимал тех, кто соблюдает обряды и посты; его наполовину семитская душа отвергала Христа, хоть тот был и еврей – отвергала по странному наитию, по страху – а вдруг Он снова завоюет землю и людей, все непредсказуемо, тогда что же будут делать деньги, его драгоценные деньги, которым сейчас все и вся принадлежит?..
А, по слухам, этот милый князь поехал на кавказскую войну. Ну что ж, если он хороший вояка, опытный, то его не убьют, а если такой наивный и глупый, как те тысячи ребят, что кладут там свои стриженые юные головы… Митьке не нужны такие друзья. Митьке надо жить широкой, умной и веселой жизнью. Церковь, Бог, иконы, поклоны – это все для старушек, проживших жизнь. Его Сынок молодой человек, и все наслажденья жизни еще идут, бегут к нему в объятья. Разве можно погребать себя заживо в двадцать… пять?.. шесть?.. семь?.. А сколько его Сынку годочков, кстати?.. Да, они еще молоды, а мы стареем, стареем неотвратимо… Время – главый враг…
– А не развлечься ли нам с тобой по полной программе, Сынок?.. – Эмиль покашлял в трубку. Митя равнодушно слушал. Он сегодня с утра снова выпил полстакана коньяку, закусил лимоном, и теперь ему невыразимо хотелось спать. Он широко, хищно зевнул. Папаша хочет развлечься – пусть развлекается. Только б его не тревожил. – Не махнуть ли нам, золотой мой, серебряный, в Венецию… на пару дней?.. Там, конечно, такие же гуляют по улицам размалеванные красотки, как в Москве любимой, там такие же чертовы твои казино, но там еще есть и мост Риальто!.. и дворец Дожей!.. и Сан-Марко!.. и гондолы, черными лебедями плывущие через радужную лагуну!..
Митя зевнул еще раз. Эмиль в трубке услышал его зевок.
– Да вы поэт, Папаша. Почему вы не пишете стихов.
– Писал когда-то… когда молодым и глупым был… Ну, как ты на это смотришь?.. Может, присмотришь себе поместье в Италии… а не во Франции, как мы с тобой хотели?.. ведь на француженке ты больше не станешь жениться, так, может, итальяночку славную присмотришь?!.. Форнарину…
Митя молчал. Эмиль выкинул последний козырь.
– Может, вспомнишь все-таки, негодяй, что ты – художник?!.. – притворно-сердито воскликнул Дьяконов. – Возьмешь с собой холсты, краски… ведь это же Италия, дубина ты стоеросовая, Венеция, там же Веронезе пасся, Тициан разворачивался вовсю!.. такое солнце, краски, опьянеть можно!.. Люди для того, чтоб поехать туда, всю жизнь крячат, на горбу мешки таскают, а мы с тобой можем прошвырнуться туда на вечерок, на два… на сколько захотим… ты же художник, Митька, ты там… распишешься!.. Намалюешь что-нибудь красочками на холсте!.. на радость нам с Лорой, старикам…
Митя будто проснулся. Неведомый свет встал перед его глазами, развернулся веером цветного сиянья. Будто громадный отрез густо-алого бархата упал с небес, и в складках бархата показалось нагое женское тело, и голова вполоборота, и глаз, длинный, как влажная зеленая слива, и пухлая рука, тонкие пальцы, и шея, перевитая жемчугом, и росистые алмазы в чуть вьющихся рыже-золотых волосах. Женщина сидела перед зеркалом, а зеркало держал в руках амурчик. О да, венецианки все золотокосы и зеленоглазы, какая натура, какие женщины. Он ощутил – у него давно не было женщины. Он ощутил в руке кисть. Под губами – живые чужие женские губы. Да, он полетит в Венецию, будет писать красивую венецианку, потом – спать с ней.
– А в Венеции есть публичные дома, Эмиль?.. – небрежно спросил он. – Ты… никогда не бывал?..
– Есть, есть!.. – обрадованно закричал в трубку Дьяконов. Наконец-то мальчик оживился. – Конечно, есть!.. А как ты думал!..
Соблазнил, соблазнил. Наконец он оторвет его от этих стариковских походов в храмы, от зажиганья свечей перед образами, а то от мальчишки уже за версту тянет свечным нагаром и кадильным ладаном.
Они, смеясь, стояли на площади Святого Марка и крошили хлеб голубям. Митя купил большой длинный, как флейта, батон в булочной и теперь кидал, подбрасывал в синее небо куски хлеба, и птицы налетали – такие диковинные, несчислимые стаи птиц он видел впервые в жизни, он хохотал и бросал хлеб вверх, в стороны, а голуби садились ему на плечи, на руки, клевали разломанный батон у него из рук, склевывали крошки у него с пиджака – в конце февраля в Венеции было тепло, как в апреле. Птицы пикировали на него сверху, он отбивался от них, махал руками. Эмиль смеялся, глядя на Сынка. Экое веселье. Голубей в Венеции – как грязи!..
– Да швырни ты им всю горбушку, тогда отстанут!..
Митя разломил горбушку, сильно, по-мальчишески, размахнулся бросил вдаль. Голуби зашелестели крыльями, ринулись на серые древние камни площади. Купол собора Сан-Марко слабо зеленел в нежном утреннем свете. Над Венецией вставало солнце, и всюду – в воздухе, в бликах черно-цветной, тяжело-маслянистой воды была разлита беспечность и радость. Митя так давно был лишен радости. Даже в храме ему не было покоя. Его душа рвалась, разрывалась, вот как этот хлеб, что он разломил надвое для голодных птиц. А тут… свет, воля, а неба так много, так… задохнуться можно…
– Они тебе пиджак обляпают дерьмом, Сынок, ну их, пойдем отсюда!.. – Эмиль махнул рукой. – Ты еще не проголодался после завтрака?.. пойдем, пошатаемся… Хочешь прокатиться в гондоле?.. Эй, фьюить!.. – Он присвистнул, подзывая свободного баркайоло. – Тen dollars!.. Прего, синьор Морозов, таращься, пока у тебя глаза видят!.. Эх и красиво!.. Не забудь – холсты и краски, настоящие, венецианские, я тебе уже купил вчера в салоне на Лидо…
Они катались в гондоле по каналам два, три часа – Эмиль доплачивал водогребщику, и юный парень, облаченный в черный трикотаж, весело скалился – эти сумасшедшие русские отвалили ему, на радостях, его месячный заработок; не иначе – богатеи. Ну, русские вообще сумасшедшие, это понятно, это все знают. Зря только они ведут эту войну там, у себя, в горах. Dio mio, какое счастье, что в Венеции нет войны. И не будет. Люди сохранят этот город на сморщенной лапе старушки Европы, как драгоценный перстень… как морской, переливающийся аметист. Царица моря. Митя глубоко, замирая от наслажденья, вдыхал сырой, чуть с душком, воздух дрожащей в каналах воды, йодистый ветер, налетающий с лагуны. Вода вспыхивала мазками золота. Солнце поднималось все выше. Припекало. Они с Эмилем проголодались.
– А не зайти ли нам в пиццерию, Папаша?..
– В тратторию, хочешь ты сказать!.. На черта тебе банальная пиццерия, ты и в Москве можешь завалиться в любую пиццерийку на Тверской, слопать там эту идиотскую пиццу с чем хочешь, хоть с грибами, хоть с колбаской, а тут в траттории тебе подадут настоящую венецианскую еду – фрутти ди маре, осьминогов, креветок, кальмаров, устриц, только что выловленных мидий, их будут открывать руками прямо у тебя на глазах, все свежачок!.. И настоящее, неподдельное кьянти, кислое, как сто лимонов, глаз вырви!.. а дух, дух – в нос шибанет, со стула слетишь!.. крепче водки!.. Вон хорошая траттория, я знаю, я бывал тут, “Pimpinella” называется… валяй туда!.. Финита, гондольеро, держи, еще десять долларов твои!.. Прыгай, Митька, да в канал не свались!..
Митя выпрыгнул из гондолы неловко и вправду чуть не упал в канал. Вот бы смеху было – и костюм отжимай, и в гостиницу спеши, переодеваться. Слава Богу, обошлось, только ногу сильно подвернул, теперь хромал. “До свадьбы заживет”, – шутил Эмиль, искоса взглядывая на него. “Я больше не женюсь”, – улыбался Митя. Клятва игрока. Он понимал это. В конце концов, ему было только двадцать семь лет. И через неделю, второго марта, должно было стукнуть двадцать восемь.
Они завалились сначала в одну тратторию, где их забросали с головы до ног пахнущими йодом и водорослями frutti di mare, и Митя, ухмыляясь, неловко ковырялся в панцирях и лапках неведомых морских существ, закусывая действительно вкуснейшее кьянти из отборных сортов черного винограда; потом в другую, где их до отвала накормили сладостями; потом в кофейню, где они выпили сначала одну чашечку кофе, потом еще одну, потом еще, и у них глаза полезли на лоб, а сердце застучало, как оголтелое; кофе и вино бросилось им в голову, им захотелось приключений.
– Эмиль… послушай… ты обещал… а венецианские путаны?.. ты же сам говорил!..
– Ну, Митька, я вижу, тебе будет здесь не до красок, не до холстов… а я-то надеялся… ну, гляди в оба… следи… у тебя, как у мужика, должен быть на них нюх… это я уже отживший костыль…
Однако острые глазки Эмиля бегали взад-вперед, ощупывая проходящих мимо венецианок, оценивая их стать, проверяя на порочность: можно или нельзя подойти с вполне понятным предложеньем, не ударит ли негодущая дочь хороших родителей тебя по щеке – что из того, что синьорина носит ажурные колготки и юбку, еле прикрывающую бугорок Венеры. И это именно Эмиль ткнул локтем под ребро Митю: смотри!.. вот эти… ничего себе, хороши, стервы…
Они подошли к двум девицам в полумасках, в красивых вызывающих одеждах, недвусмысленно говорящих об их ремесле – на одной, черненькой, коротко, под мальчика, стриженной, была темно-синяя широкая шелковая юбка, ноги были все на виду, ажур чулков не скрывал ослепительной белизны голеней и тонких бедер; другая, чуть повыше ростом и пофигуристей, была туго затянута в черную шерсть, легкомысленная полосочка юбки спускалась чуть ниже живота, черные сплошные чулки обнимали длинные газельи ноги, низкий вырез платья открывал высокую смуглую соблазнительную грудь.
Маски у обеих девушек были сшиты из черного бархата, черное кружево отделки спускалось им на носы. Рыже-золотые кудри той, что повыше, трепал морской ветер. Кучка студентов, спешащих в университет на лекции и портфелями и тетрадями в руках, оглянулась на девушек. Куртизанки весело перемигнулись и отвернулись, переговариваясь между собой, глядя, как искрится и играет под солнцем маслянистая вода в канале. Далеко в небе прогудел самолет. Митя, охрабрев, подошел к девицам. Они не спешили оборачиваться. Они выбирали. У них был глаз наметан.
– Do you want to go in my hotel?.. – спросил Митя внезапно охрипшим голосом. – J have money… five hundred dollars, yes?..
Он растопырил пятерню – пятьсот, пятьсот долларов. Ну не за тысячу же снимать в Венеции путану. Слишком жирно будет. Та, что повыше, рыжекосая, надменно оглянулась. Он увидел, как алеет под черной полумаской, под отдутыми сырым ветром кружевами, красивый, целованный тысячей мужиков чувственный рот.
– Go home, boy, – сказала она ясно и громко по-английски, затем добавила по-итальянски: – Io sono La Granda Fiamma!
Она сказала еще что-то по-итальянски – Митя не понял, он не знал языка. Нахватавшийся в странствиях разных итальянских слов Эмиль быстро перевел:
– Она говорит, что она Великая Фьямма, что она стоит дороже, что она стоит тысячу долларов – не лир, конечно… Выбрасывать тысячу на венецианскую шлюшку, Митя?.. ты спятил, идем поищем посговорчивей, за сотню… небось, не королева…
Зеленые, похожие на длинные сливины глаза из-под маски вперились в него. Митя стал как вкопанный. Он не мог отвести от девушки в черном платье взгляда.
– Я хочу эту девушку, – упрямо сказал он. – Мы же с тобой богаты, Папаша. Баснословно богаты. И мы можем позволить себе все что угодно. Я хочу сегодня, сейчас именно эту девушку – и никакую другую. Thausend dollars, darling, yes!.. Все, я купил тебя!..
Он властно просунул руку под локоть девицы. Через черную колкую шерсть его обожгла ее горячая рука – будто бы он прикоснулся к горящему полену в костре.
– Andiamo, – рыжекудрая обернулась к нему, прижала его руку к своему боку локтем, и он почувствовал нежность голой кожи сквозь ажурные дырки, торчащее, вздымающееся в частом дыханье ребро. – Andiamo, caro. Noi siamo felice, quando siamo ansieme.
Они пошли под руку, не отрываясь друг от друга, по узкому венецианскому тротуару, с которого так легко было упасть в канал, если ты шел выпимши или мог зазеваться. Эмиль с другой путаной плелся за ними.
Девицы явно вели их либо в отель, где снимали номера для встреч, либо к себе домой, либо в похабную заштатную тратторию, где нищий владелец сдирал с девочек плату за закуток, где те работали, отстегивая ему баксы, лиры, фунты, франки. Ну так и есть, кабак. Только плохого пошиба, не “Пимпинелла”. Пахнет пережарками, острым томатным соусом; за столиками народ, одетый отнюдь не фешенебельно, сидит, мрачно жует, наворачивая на вилки, длинные желтые спагетти. Итальяшки умеют готовить тесто для спагетти без яиц, Эмиль ему объяснил. А все равно вкусно.
Митя чувствовал, как возбужденье охватывает его, поджигает со всех сторон. Он чувствовал неведомый дикий страх, смешанный с неистовым желаньем. Если б было можно, он повалил бы эту девицу в черном прямо на стол в трактире и изнасиловал бы прямо тут, на глазах у почтенной угрюмой молчаливой публики, жрущей и пьющей. Надо соблюдать приличья, обряды.
Какие, к черту, приличия. Сейчас она заведет его в номер, и он сорвет с нее одежду. И с себя тоже. Он чувствовал, как мучительно, невыносимо налипла на нем одежда, как ему охота скорее остаться голым, пьяным от вожделенья, дрожащим и жестоким, вонзающимся в тесто женского дикого, разъяренного и огненного тела. Итальянские проститутки, верно, пламенны. И имя у нее такое – Фьямма. Ну, сейчас она покажет ему… и он покажет ей… тысячи не жалко… если она захочет – он даст ей еще… и еще повторит…
– Перекусим еще?.. перед сраженьем… – Эмиль подмигнул Мите. Его обвислые щеки залоснились, усики над губой торчали победоносно. – Порцию равиолей… и вина с Капри… для поднятия мужского тонуса, а?..
Митя помотал головой: вы ешьте, я уж как-нибудь перебьюсь. Девка Эмилья, усаживаясь за стол, стащила маску. Под маской у нее оказалось загорелое скуластое лицо, полные губы, чуть раскосые глаза; она явно была с примесью негритянской крови – или, может быть, тайской, малайской. Пикантная штучка. Пусть лопают свои равиоли. Эмиль – чревоугодник. Да какой из него мужик. Он с Лорой не спал уже годами. Поглядим, какие чудеса сотворит с ним эта венецианская халдушка.
– Давай, давай, топай, мальчик!.. Приятных вам объятий!.. А что, – хлопнул Эмиль себя по лацкану пиджака, – сотовый у меня с собой, позвонить сейчас Лоре в Москву, ха-ха!.. сообщить, где мы ошиваемся… эх, как же хорошо на свете без жен, как они мешают, как надоели… и без них вроде бы – нельзя… за вас, дорогие!.. я поднимаю этот бокал мартини!.. Митька, только не женись, если она даже очень понравится тебе!.. я сам выберу тебе жену – хорошего рода, к примеру, из Риджино, из Аль Капоне, а-ха-ха-ха!..
Девушка в черной маске крепко взяла его за руку и повела. Митя ощущал под ногами щербатые ступени шаткой деревянной лестницы. Ему казалось – он попал на сотни лет назад. Они вошли в грязную, замызганную комнату с камином. Деревянные, оплетенные лозой стулья стояли около широкой низкой кровати, на которой валялась старая, вытертая шкура огромного волка. Где они только его отловили. В каких лесах. В Альпах, что ли. Да это же далеко на севере. Ну и что, охотники отстреляли, освежевали тушу, шкуру выдубили и высушили, в Венецию привезли. Девица подошла к нему и стала грубо, как мужик, расстегивать пуговицы на его пиджаке, рубахе. Это не он ее, а она его раздевала, и оторванные пуговицы и застежки летели в стороны, и губы ее под маской изгибались насмешливо, плотоядно.
– Фьямма, Фьямма… погоди… ты же измучаешь меня… О, черт, она же ничего не понимает… о, как с тобой хорошо… you are… beautiful…
Они сплетались на волчьей старой шкуре, голые, раскаленные, как раскаленный жидкий металл в доменной печи. Они лились горячей лавой, снова застывали, прижавшись друг к другу, сплетясь в безумном, страшном объятье. Она то подползала под него, то вскакивала на него верхом; она встала ногой на волчью оскаленную голову, согнув ногу в колене, и он, снизу, видел ее разверстое чрево, пух рыжих волос, обрамляющих красную, переливчатую, полную его вылившейся в крике и содроганьях влагой, жадную плоть, живую пещерку, раковину.
Раковина. Мидии. Он вспомнил мидий, и как разламывал их грязными, черными, немытыми пальцами мальчишка в траттории. Фрутти ди маре. Он поднял голову. Припал губами к соли, влаге, трепещущим складкам горячей кожи. Она сжала ногами его голову, закрыв глаза, ощущая его жаркие губы, ласкающие ее горящее неукротимое нутро. Он не надевал на себя бездарный резиновый колпак. Она может забеременеть. Ну и отлично, родится итальянский ребеночек. Дитя куртизанки. Ее губы усмехнулись, отдули ото рта черные кружева. Она так и не сняла маску. А он и не настаивал.
Она упала на него, он снова проник к нее – глубоко, властно. Да, он изголодался. Он соскучился. Он еще не умер, не сдох; он еще хочет жить. Какая женщина. У него никогда не было так. Нет, было. Не думать об этом! Не думать! Иначе он провалится снова в бездну, в черную, пустую бездну, будет падать, цепляясь руками за звезды, за черный ветер…
Он стал толкать ее в чрево все сильнее, все жесточе; не прошло и пяти минут, как он опять забился в дрожи наслажденья, будто в падучей. Его губы искривились, по лицу ручьями тек пот.
– Fiamma, you are grandious woman…
– Не трудись, – услышал он внезапно над собой, в потном любовном мареве, чисто говорящий по-русски насмешливый голос. – Не трудись говорить по-английски. Ты устал. Отдохни. Теперь я поговорю с тобой. Нам есть о чем поговорить.
Она спрыгнула с него. В одну секунду, молниеносно, оделась. Черное платье снова сидело на ней, как влитое. Черная маска прилипала к вискам. Над губой выступили капельки пота. Щеки горели розово-малиновым, горячим румянцем.
– Моя тысяча, щенок!
Он привскочил с постели. Его нога скользнула по гладкой серой, жесткой волчьей шкуре. О эти сволочные русские девки, везде они, во всех борделях бедняги Европы. Осадили все, что можно. Спасу нет. А он-то, дурак, думал – ах, венецианка, он спит с итальянкой. А это просто еще одна русская шлюшка приволоклась сюда на заработки. Ну и зашибает же она, надо думать. Дорого себя оценивает.
Такие наивняки, ротозеи-туристы, и попадаются. Руссо-туристо, Тарталья-каналья. Он, осклабившись, потянулся к джинсам, вытащил две зеленых бумажки по пятьсот долларов. Хорошо тебя надули, старичок. А что, она совсем даже неплоха в постели, эта Фьямма… Наташка, небось, или там Катька. Он швырнул ей деньги. Она с проворством обезьяны подобрала купюры, задрала юбку, засунула под черный гладкий чулок.
– Благодарствую. – Улыбка зазмеилась под маской. – Хотя… ты мог бы раскошелиться, мальчик. Тебе ведь понравилось спать со мной.
Он, сидя голяком на кровати, зло окинул ее взглядом.
– Я заплатил тебе так, как мы договаривались! Не вымогай!.. итальянка…
Он, скривившись, сплюнул на пол. Девица поднесла ко рту пальцы и громко свистнула. Митя отшатнулся. Еще чего не хватало. Засада?!
За дверью послышались шаги. Дверь грубо распахнули ногой. В каморку вошли двое в масках. Один малорослый, будто лилипут, другой тоже низенький, чуть повыше; оба встали у постели, где сидел опешивший голый Митя. Девица коротко рассмеялась.
– Мои сутенеры, дорогой. Как же это так, дорогая шлюха, и вдруг без сутенеров. Ты же прекрасно знал, что все вот так вот и получится. Зачем же шел. А, очень захотелось, понимаю.
Мужчины перемолвились между собой тихими словами на непонятном, неизвестном Мите языке. Шагнули чуть ближе к Мите. Один вцепился одной рукой в простыню. Другой – в драгоценный образок на груди.
– Они говорят, что ты слишком мало заплатил их девочке, – весело сказала русская путана. – Они хотят, чтобы ты выложил еще. И немало. Все, что у тебя с собой есть.
Вошедшие сделали еще шаг к обнаженному Мите, распластанному на волчьей шкуре. Он схватил джинсы, прикрылся ими. Засунул руку в карман. Вытаскивал деньги. Бросал на пол, бросал на кровать, бросал в лица сутенеров: нате, возьмите!.. Только отвяжитесь, выпустите, не калечьте, не издевайтесь!.. Я сейчас оденусь, уйду, забуду все, забуду вас, будьте вы прокляты…
Оба мужчины сорвали с лиц маски. Митя впился глазами в лицо того, маленького, что стоял ближе к нему. Раскосый, узкие глаза, торчащие скулы, морщины на лбу, как письмена, как страдальческий иероглиф, выцарапанный жизнью. Японец?.. китаец?.. кореец?.. или наш бурят, эвенк… мало ли в Сибири раскосых, ты же сам знаешь, Митька, ты там, в Сибири, на таких насмотрелся… вот Янданэ точно такой же, только этот – росточком не вышел…
Раскосый мужчина с искаженным ненавистью лицом судорожно вздохнул. Опустил руку в карман. Митя все понял. Холодный пот потек у него по спине. Нет, этого не может быть. Это невероятно. Это все ему снится, и он сходит с ума во сне. Сейчас он проснется в гостиничном номере, поглядит со смехом на спящего, храпящего Эмиля, закажет в буфете равиоли…
– Вот я где тебя хорошо подстерег, собака русская, – кивнул раскосый человек. Его русский язык был не слишком правилен, он говорил с акцентом, улыбался ненавидящей улыбкой. Скалился, как мертвая морда волка, чья шкура лежала поперек кровати. – Я ждал долго. Я следил долго. Я нанимал людей. Платил им. Я следил за тобой. Охотился за тобой. Я охотился хорошо, осторожно. Я же мужчина, я воин и охотник. Я тебя выследил. Я дождался, когда ты поедешь куда-нибудь далеко. Я пришел убить тебя.
Раскосый маленький мужчина выхватил из кармана руку с пистолетом. Нацелил пистолет на Митю. Путана медленно развязала, чтобы стащить, потом, раздумав, снова завязала на затылке черную маску, улыбаясь, и рыжие, кольцами, густые кудри свободно упали ей на плечи. Митя, переводя взгляд с раскосого на девку, закрыл рот рукой, чтобы не закричать.
– Спасибо, Инга, – кивнул снова раскосый, как кивает головкой бронзовый игрушечный китайский бонза. – Можешь идти. Я убью его сам. Я долго ждал этого. Это праздник для меня.
– Кто вы?!
Митин крик отдался звоном в старой стеклянной венецианской люстре, закачавшейся под грязным трактирным потолком.
– Я господин Окинори Канда, ты, собака. И я сейчас убью тебя, как собаку.
Улыбка взошла на разрумяненное лицо Инги. Она часто, тяжело дышала, будто остановилась на бегу.
– Погодите, господин Канда. – Она положила руку на локоть его маленькой руки, крепко держащей пистолет. – Погодите чуток. Это я веду его за руку. И наблюдаю, как он рвется, мучается. И я прошу вас не лишать удовольствия… меня. – Она передохнула, ласково погладила Канду по смуглой руке. Пистолет чуть дрогнул. Инга обернулась к Мите. – Он нужен… мне, так же, как и вам. В отличие от вас, он нужен мне… живым. Пока… живым. Потом… посмотрим.
Митя чувствовал, что он сходит с ума. Все плыло и катилось. Все вертелось и гудело. Бездна, черная бездна опять была рядом. Слишком близко. Сердце останавливалось. Господин Канда не остановится ни перед чем. Просьба Инги – детский лепет. Прав тот, кто вооружен. Сейчас он влепит в него две, три пули, и конец. Вот как все просто. И не надо ехать на войну на Кавказ.
Смерть приходит в грязном занюханном венецианском трактирчике, в каморке под крышей, где любились, сплетались и орали сотни, тысячи мужских и женских тел до них, за столетья до них, живых. И все умерли. Все сгнили в земле. А теперь умрет он. Годом раньше, годом позже.
А он-то думал – отметит в Венеции свой день рожденья.
Это Эмиль будет теперь отмечать день гибели Сынка.
Чем ты откупишься?! Всем своим долларовым диким счетом?! Господину Канда не нужны твои деньги. Ему нужна твоя жизнь. Ведь ты убил его жену. Задушил ее в постели. Прикончил ее – чтобы украсть картину, принесшую тебе кучу денег. И вот есть у тебя деньги, Митя, и ты не сможешь теперь купить на них свою жизнь, одну-единственную свою жизнь. Как хорошо, как славно тебе дали это понять. Но это все не игра. Ты играл довольно. Ты знаешь, как бросают самое дорогое на кон. Ты видел лица игроков – буземные, бледные, с расширенными зрачками, с раскрытыми ртами, где блестят то в хищной, то в отчаянной улыбке зубы, с горящими, как угли в кострище, дикими глазами. Для них игра – жизнь. Проживи свои последние минуты хотя бы не как собака, что ползет на брюхе к убивающим ее, лижет им руки.
Предсмертный ужас объял его. Черное пустое дуло моталось у него перед глазами. Господин Канда сейчас выстрелит. У тебя есть еще время взмолиться, Митя. Еще есть… время…
Уже нет. Времени нет.
Оскалившись, господин Канда нажал на курок. Молниеносное движенье Инги Митя не успел заметить – перед глазами мелькнула белая на черном рука, блеснула сталь револьвера. Двумя выстрелами в упор из револьвера с глушителем она уложила обоих японцев. Они упали, ловя спертый воздух ртом, корчась, затихая. Канде Инга выстрелила в голову. Из виска на пол стекала кровь из черной дырки. Его спутник лежал на полу лицом вверх, и громадное красное пятно расплывалось на белой манишке под отворотом черного пиджака.
– Ты нюхал смерть?.. – Она убрала револьвер в карман шерстяной юбки сзади, на ягодице. – Не нюхал – понюхай. Вблизи она плохо пахнет. Особенно твоя собственная. Вот она какая. Она разная. Она заманчивая. Она – наркотик. Ты, Митя высоко поднялся, а те, кто воспаряет слишколм высоко, до головокруженья, всегда нюхают смерть, как кокаин, впрыскивают ее себе в жилы, как эфедру… И… у смерти сладкий запах, правда?..
Она переступила через трупы, подошла к нему. Она стояла от него, голого, дрожащего, скрюченного на постели, слишком близко. Он, раздувая ноздри, чувствовал запах ее пота, доносящийся от нее, запах ее спутанных влажных волос, ее соленого лона, час назад целованного им.
Она положила руки ему на голые, покрытые смертным потом плечи.
– А ты бы хотел… умереть вместе?.. – вкрадчиво, нежно спросила она его, улыбаясь. – Чтобы только ты и я… Сначала я застрелю тебя… Или ты – меня… А потом пулю – себе в висок… слаще не бывает… это так сладко, Митя… это слаще любви.. ты же чувствуешь… ты же сам знаешь…
Он задрожал. Он почувствовал, как это и в самом деле сладко. Как это будет сладко, нежно, чудесно. Когда пуля войдет ему в висок, он испытает дикое, последнее блаженство. Смерть – это не только боль и страх. Это боль неистового блаженства, последнее объятье, в которое ты заключаешь на прощанье мир, последний жгучий поцелуй, что ты даешь миру. Расстреливаемые, которых удалось оживить потом, позже, те, кто выжил, говорили: в последний миг любишь жизнь больше всего, неистовей всего. Ты содрогаешься в наслажденье, как в конце акта. Акт закончен. Твоя жизнь, вся, сполна, выбрызнута к звездам. Что зачинает смерть?! Пустоту?! Или новую жизнь?!
– Ты хочешь испытать последнее блаженство, Митя?..
Он оттолкнул ее руками от себя. Она чуть не упала на пол. Захохотала. Он с ужасом глядел на нее.
– Кто ты?!.. Инга?!.. Или…
Лицо той женщины, что шла рядом с ним по снежному Арбату от театра Вахтангова до ресторана “Прага”, встало, незримое, вровень с его лицом.
Она вынула револьвер из кармана, обтерла его короткой юбкой, бросила на пол. Пошла к двери. Вычеканила грубо:
– На будущее, щенок: когда идешь с девкой в бордель, бери с собой увесистую пачку денег и хорошую пушку. Мне твоя тысяча баксов не нужна. Можешь ею подтереться. – И добавила по-итальянски: – Porca madonna.
Наклонилась. Задрала юбку. Вытащила из-под черного чулка две пятисотдолларовые бумажонки и швырнула ему в лицо.
Он, судорожно одевшись, затолкав деньги, разбросанные по полу и по кровати, в карман – какие-то бумажки уже успели выпачкаться в крови, хорошо еще, чудом ни джинсы, ни рубаха, ни пиджак не запачкались, – всунув ноги в башмаки, корчась от ужаса, пнув на полу револьвер, перешагнув через недвижные мертвые тела японцев, побежал искать в недрах траттории Эмиля.
Он заглядывал, задыхаясь, во все закутки, стучался во все ободранные двери под крышей. Трактирчик был не слишком просторный – скоро он Эмиля нашел. В крохотной каморке, еще меньше, чем та, где они с Ингой кричали, неистово обнимаясь, и где Инга убила господина Канду, на такой же старой венецианской столетней давности кровати, толстый и голый, откинув простыни – ему было жарко, душно, в обнимку со стриженой черноволосой девицей-мулаткой или, может, тайкой лежал Эмиль – старик, жаба, уродец... Он лежал, смеясь, положив одну руку на девицу, выгнувшую груди к потолку, смуглые, крупные, наливные, держа в другой горящую сигарету – сибарит, полностью довольный всей жизнью и нынешним веселым днем. Когда дверь скрипнула и запели половицы, он весело воззрился на бледного как мел Митю.
– Митька, ну как девочка?.. Моя – что надо!.. На старости я сызнова живу!.. – крикнул Эмиль, затягиваясь, выпуская из рта дым прямо в лицо смуглой путане. – А ты чего это такой белый?.. все соки из тебя, что ли, высосали?!.. Так надо подзаправиться!.. сейчас я трактирщику прикажу – он нам прямо сюда перчики фаршированные подаст, бутылочку хорошего белого мартини!.. подкрепимся, тем более, Нинетта тоже проголодалась… А, Нинетта?.. – Он ущипнул ее за щеку. – У нее бабушка была из Бангкока, чуешь?.. огненная дракониха!.. ну и жару мне задала!..
Митины глаза бегали, метались. Он кинул взгляд в зеркало на стене и увидел, как умалишенно у него блестят выкаченные белки.
– Она убила их!.. Убила!..
Он пошатнулся. Силы мгновенно ушли из него. Серая тьма обволокла его, и он упал на кровать плашмя, рядом с любовниками. И застыл – так застывает крупная рыба, вытащенная на берег, убитая багром или широким веслом.
Очнулся. Сжал руку в кулак. Слишком легкой была рука. Он поднес пальцы к лицу. Аметиста на среднем пальце больше не сияло. Украла Нинетта, девица Эмиля?.. Или сам Эмиль тихонько снял, позарившись… Или… быть может… там, в пылу любви, в неистовой постельной тарантелле.. его сдернула у него с руки Фьямма, дьявольская Инга?.. Камня не было. Ушла еще одна драгоценность. Еще одна драгоценная, чужая, старая, похищенная им, непрожитая жизнь.
Он повернул руку ладонью к себе, закрыл ладонью лицо и заплакал.
… … …
В Москве, по возвращении, он нашел в почтовом ящике письмо. Руки его задрожали, когда он вскрывал конверт. От Коти, из Чечни… Буквы вспыхивали, расплывались у него перед глазами. Он читал и плакал. Не мог унять слез. О, каким он стал малодушным, слезливым, как баба. Он сжимал зубы, закуривал, сидел на кухне в облаке дыма, чертыхался, матерился, а слезы все лились, и бумага, исписанная убористым, быстрым благородным Котиным почерком, дрожала в его руках.
“Дорогой, золотой мой, бедный мой Митенька! – писал Котя. – Мой духовный заблудший брат, бедный московский баран мой! Только бы тебя там, в Москве, не повели на закланье. А мы все здесь – заложники. Смерть ходит рядом. Боевики будут биться до последнего. Запад их подкармливает чем может, но и наши генералы уже сказали нам всем: головы здесь положите, но гидру раздавите. Помнишь, Митенька, плакаты времен гражданской войны, смешные такие: раздавим гидру империализма, и все такое прочее. Теперь – какую гидру мы раздавим?.. Какого волка убьем?.. Мы выбиваем зуб – а на его месте вырастает еще один; мы выдираем выросший – а там, из окровавленной, страшной челюсти, из кровавых костей еще один клык прет! И мы вынуждены стоять на одном месте и дубасить, дубасить в челюсть – а она, как заколдованная, все полна и полна зубов… Холодно. Голодно. Хотя сюда поставляют продукты, приготовить их в полевых условиях, под непрерывным обстрелом, в грохоте, вое и лязге, под криками умирающих, очень трудно; мне кусок в горло не лезет. Я жутко исхудал – если вернусь, если останусь в живых, ты меня не узнаешь. Наши ребята гибнут пачками, то и дело подрываются на минах. Мне рассказывали бывалые вояки, что вот так было в Афгане – сплошные мины, и солдатики летят в разные стороны, разорванные на куски – куда рука, куда нога. Гранатометы в ходу. Мы не спускаем их в плеч. Тяжелая штуковина, я тебе доложу.
Насколько я разбираюсь в расположении войск и в верном ведении войны, есть несколько с виду незначительных просчетов, которые в недалеком будущем, если не изменится соотношение сил, могут превратиться в роковые. Я не генерал и даже не офицер, чтоб указывать. Я пошел сюда солдатом и умру солдатом.
Умереть здесь, Митя, проще пареной репы. Мы подошли к северным районам Грозного, и по нам что есть сил лупят снайперы, засевшие на крышах многоэтажек, на башнях et cetera. Жители ушли из города, но не все. Я видел, как уходили – мимо нас шла тропа – по снегу, в метельную ночь, горами, лесом, люди, жалкая кучка мирных жителей – семейные пожилые пары, с тючками, где одежда и примитивная еда, подростки, женщины с малыми детишками у груди. Почти без вещей. Бежали. Спасали свою жизнь. Попрощавшись с домами, со всем нажитым, с прежними жизнями. Я видел их лица, Митенька. Бог с небес, должно быть, тоже видел эти лица.
Как ты живешь, друг мой? Живи, покуда живется. Только, прошу, Бога не забывай. Не думай, что я, как старый старичок, учу тебя молитвам и благочестию. Ты отнюдь не благочестив, да и я сам грешник, великий грешник. Все мы грешники, Митя; так зачем мы не хотим уйти от греха, бросить его, кинуть его?! А потому, что грех сладок. Грех – всегда легок, сладок и приятен, он – иллюзия, замена счастья, совершая грех, человек мыслит, что он счастлив, и доволен собой, и мнит: вот я сделаю это сейчас, ну и хорошо, а завтра этого я больше не буду делать; а приходит завтра, и ты говоришь себе: ну, сегодня еще раз, последний раз, и все, ведь это же так сладко, так хорошо. Но, Митя! Терпенье Господа не безгранично. Я сейчас не проверяю терпенье Господа. Я просто воюю. Моя жизнь – вся, теперь уже до конца – принадлежит Ему. Пусть все будет, как Он захочет.
Москва очень отдалилась. Совершенно не представляю, как можно ходить по улицам, погружаться в колодец метро, есть с золоченых тарелочек, спасть в чисто застланной постели. Здесь поле, выстрелы, война, взрытая взрывами земля, запах гари, горелого мяса, горячего железа, пороха, селитры, крики и матюги, и снова выстрелы и выстрелы. Все грохочет.
Да еще зима, холод. Лютый холод. И ни минуты тишины.
Конечно, бывают затишья. Странные такие – после них еще ужаснее с небес обрушивается свист пикирующих самолетов. Техника у нас будь здоров, на высоте, и пушки, и ракеты, и танки великолепные, да и у врага не хуже. А воевать у нас умеют лишь те, кто прошел уже войны, кто поопытней. Мальчонки, салаги – гибнут сразу. Отправляем в госпиталя уже не в Назрань, не в Ростов – уже в Саратов, в Самару, в Уфу: поблизости в больницах мест – нет. Журналисты не сообщают о потерях. Я тебе говорю, Митенька, вне зависимости от того, попадет или не попадет это письмо в руки “государственных читальщиков”, – потери у нас огромные, колоссальные. Ребята умирают бесконечно, и новых солдатиков привозят из частей беспрерывно. Идет бойня, мясорубка. Такой, наверно, и должна быть война. Любая война. И я, мужчина, до сих пор не понимаю, отчего ее люди выдумали.
За мрачным прогнозом, за бодряцким камуфляжем – живой ужас людской. Кровь и стоны наших мальчишек, и их матери нам никогда не простят. Все горит и пылает, Митя. Сгорим ли мы? Будет последнее сраженье, Армагеддон последний. Это, здесь, еще не конец. Как далеко виден, Митя, огонь на снегу! Особенно в солнечный, яркий день… А горы здесь красивые, такие спокойные, отлогие, но и крутенькие тоже есть – раздолье для альпинистов. Благословенная земля, которую мы, люди, превратили в землю смерти. Так нам и надо.
Я тут помогаю, Митенька, полковому священнику. Он крестит ребят, кто пришел воевать некрещеным, отпевает погибших, хоронит, кропит святой водой и освящает орудия, что привозят нам из Центра. Его зовут отец Михаил. Светлый такой человечек, молодой еще очень, юноша почти; он монах из Печерского монастыря в Нижнем Новгороде.
Поехал сюда из любви и жалости – к воюющим, к погибающим. Армии очень нужны священники, я все понял. Вера нужна нам, как воздух, и люди, ее носители и излучатели, – тем более. Живая вера!
Отец Михаил длинный, вроде тебя, худой такой же, светло-золотая борода, усы – лучами вокруг рта, лучистые же брови, глаза светятся – как солнышко. При виде его даже смертельно раненые солдаты улыбаются. Говорят: когда он накладывает руку – боль отпускает. Он уже соборовал тут многих, и умирающие получили громадное облегченье, счастье даже.
Мы с отцом Михаилом ведем важные беседы, если выпадает время в этом Аду побеседовать. Он хорошо умеет варить перловую кашу – он сам варил и меня угощал. Митя, я дал обет. Если я выживу, если меня на войне не убьют – я вернусь и постригусь, я стану монахом, я всю отпущенную мне Богом жизнь буду отмаливать перед Ним всеобщие огромные, и несть им конца и краю, черные, тяжелые грехи.
Благословляю тебя. Умоляю тебя только об одном – не предай, не погуби душу свою. Я не напрасно встретил тебя. Я чувствую, что я послан тебе. Держись, Митенька, поелику возможно. Заканчиваю письмо – начался артобстрел. Работать надо. Отправлю это письмо с москвичом, журналистом Оскоцким – он послезавтра летит в Центр, конверт опустит либо в Самаре, либо прямо в Москве.
Обнимаю. Христос с тобой. Котя.”
Митя, пока читал Котино письмо, выкурил полпачки сигарет, прокоптился весь. Тер глаза кулаком. Поставил чайник на огонь, вскипятил себе чаю. Как не хотелось ему ухаживать за собой одному. Он не хотел есть, не хотел пить, не хотел идти в душ, мыться, раскладывать постель. “С золоченых тарелочек”, “в чисто застланную постель…” Он, без женщины, давно уже не занимался бельем. Так можно опуститься, Митя. Вернуться в дворницкий мрак. Ну и что, мрак, а зато там, рядом, были хорошие люди. Кто – люди?! Старая Мара?! Безрукая Сонька?! Да, Сонька, Мара. Да, Янданэ. И бедный Гусь Хрустальный, его где-то пришили, как Флюр сказал – Москва большая. Да, Москва большая, а жизнь опасная. Жить вообще опасно. Кирпич на голову может упасть. И никакой отец Михаил тебя не отпоет, не оплачет, не сотворит по тебе панихиду.
Он бросил письмо на кухонный заляпанный, давно не убираемый стол, среди чашек, блюдец и фарфоровых чайничков со старой, уже заплесневелой заваркой. Закрыл глаза. Господи, если он умрет, сдохнет вдруг, – помяни его, разбойника, мафиозо, денежного мешка, наглого парвеню, авантюриста Митю Морозова, во Царствии Своем.
Он лениво протянул руку. Взял дистанционник со стола. Нажал кнопку. Экран телевизора загорелся яркими лубочными красками. На экране расцветала, вспыхивала, гасла страшная кавказская война – бои за Грозный были в разгаре, солдаты пробирались к центру города, выкуривали боевиков из укрытий, отстреливали снайперов, а снайперы, затаившись под крышами, отстреливали солдат. Вот она, война. И зима. Снова война и зима. Зимняя Война – будет ли ей конец когда-нибудь?!
И внезапно кадр переместился. Москва. Район Садового кольца – где-то у Красных Ворот. Взрыв. Взорвали большой жилой дом. Митя знал, помнил этот дом – громадный сталинский дом с аляповатыми, в завитушках, балкончиками, с высокими окнами, а внизу еще было бистро, и довольно вкусно готовили – он как-то, идя мимо, забежал перекусить: недурной куриный бульон, пожарские котлетки с косточкой. Корреспондент бесстрастно отснимал разломы стен, завалы, живые и мертвые окровавленные руки, торчащие из-под груды камней. В кадр попало перекошенное, страшное лицо оставшейся в живых матери. Ее ребенок, судя по всему, погиб. Она тянула руки к руинам. Вопящий рот, безумные глаза. Митя вздрогнул. Какие зеленые, цвета свежей июньской травы, были у нее глаза. Или это цветной телевизор смеялся над ним?!.. Он бессознательно нажал на кнопку дистанционника, переключая программу. По другой программе тоже говорили о взрыве. В районе метро “Новогиреево”. Взорвали большой жилой дом прямо напротив универмага “Новогиреевский”. Милиция, солдаты, бегущие, кричащие люди, носилки, санитары, воющие сирены “скорых”, слезы, вопли, тревожный голос диктора за кадром: за минувшие сутки в столице взорван уже третий дом… поступают сведения из разных городов России – из Екатеринбурга, Воркуты, Смоленска, Новосибирска, Иркутска… взрывы, взрывы… нам объявлена террористическая война… Митя провел рукой по лбу. Может, он спит?! Черт!
Он стал, как бешеный, нажимать на кнопки, переключать программы. По всем программам шли новости. По всем каналам показывали развалины взорванных домов, плачущих и кричащих людей, воинские подразделения, милиционеров при полном вооружении с отчаянно сжатыми губами, больничные палаты, полные раненых.
Митя вскочил на ноги. Швырнул дистанционник. Его губы зашептали: не может быть, не может быть. Гады. Сволочи. Не может быть!
“Все может быть, – сказал насмешливый женский голос, и он услышал его – внутри ли, снаружи. – Все может быть, Митя. Все уже происходит. А ты отказывался от легкой, сладкой смерти. Не хочешь подобру-поздорову – будет тебе со страданьем, со слезами, с кровью, с кромешным ужасом вокруг, а все равно будет”.
Ночью он внезапно вскочил, включил свет – низко висящее бра над кроватью, подошел к книжной полке, выхватил книгу, которую боялся открывать, хотя Котя все время и просил его об этом, и сам, вслух, читал ему из нее. Новый Завет.
Почему Новый?.. Все новое – хорошо забытое старое.
Может быть, под его особняк тоже подложили взрывчатку, и сейчас рванет, и его тело вылетит в окно, разорванное на тысячу кусков.
Он, дрожа, открыл книгу. Перелистал желтые старые страницы. Он купил это Евангелие на Арбате, у старого пьяницы с красным, как брюква, носом, мужику не на что было выпить, и он, поняв, что склонившийся над ним высоченный богач в отделанной бобровым мехом дубленке – желанный покупатель, затянул тоскливую жалостливую песню о том, что ребенок болеет, что престарелая мать уже не встает, а нужны лекарства, что дочь наркоманка, что он сам… ну неужели не купит, такой-то богатый!..
“Ведь это же настоящее Евангелие, все по-церковному, а для неграмотных – вот, сбоку, в колоночке, и русский перевод!..” – прокаркал пьяница, уповая на Господа: Господи, ведь Твое Евангелие продаю, будь милостив ко мне, заставь богача купить Твою книжку у бедняка, и я тут же подамся в лавочку или в чепок, тут же чекушку куплю!.. “Сколько?..” – спросил Митя. “Триста”, – глазом не моргнув, ответил алкаш. “Рублей?..” – переспросил Митя. Пьяница вытаращился на него, как на придурошного. Митя протянул ему две пятисотрублевки. Когда он уходил с книгой под мышкой, пьяница крестил его безостановочно, мелко, будто солил, и кланялся ему вслед, и бормотал, и плакал, и благословлял.
Он открыл Евангелие от Иоанна на той самой странице, которую Котя, чуть не плача от умиленья, читал ему вслух еще тогда, когда они вернулись из Ипатьевского монастыря. Он стал сам читать вслух. Его губы задвигались. Его тихий голос наполнил комнату. Ему показалось – за стенками, за окнами, далеко, зазвучали невидимые трубы.
– Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Куда Я иду, туда вы… не можете прийти… – Голос его сорвался. Сошел на шепот. – Заповедь новую даю вам, да любите друг друга… По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою… А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете…
Он умолк. Путь. Разве кто из живущих на земле знает путь. Вот он встал на путь, на который он хотел встать. И куда он его привел?.. Да привел ли?.. Может, он, Митя Морозов, уже давно разбился и лежит на дне пропасти, а ему все кажется, что он движется, идет, дышит, делает дела?.. Бог. Что такое Бог? Он, по сказкам этим древним, где-то там, наверху, в небе, в облаках. Фу, какие детские сказки. Он не там. А где Он? А этого никто не знает. Может, Он – в нас. Внутри нас. И мы можем с Ним беседовать. И если он, Митя, вдруг скажет, крикнет: Бог!.. где Ты!.. хочу Тебя видеть, знать, что Ты – есть!.. – может, Он возьмет – да и выйдет, явится ему, маленькому, насквозь просоленному страшным грехом?..
А слабо тебе, Митька, крикнуть. Слабо.
Так нет же! Вот тебе, трус! Я крикну! Назло всем!
Назло – себе…
Он набрал в грудь воздуху. Крикнуть хотел. Вышел – шепоток.
– Бог… где Ты… дай мне знак… Тебя нет… докажи, что Ты – есть…
Тишина. Упорная, мертвая, всесильная тишина.
И в этой кромешной тишине, где-то далеко, в темном ночном воздухе, над Митной головой, под потолком, раздался всхлип. Тонкий, жалобный ребячий всхлип. Будто кто-то горько плакал, сокрушался, но не хотел, чтоб его услышали. И еще раз. И еще.
А потом возник тонкий, нежный звук. Тянулась одна нежная скулящая нота плача. Нечеловеческого, тончайшего, как паутинка, плача – тонкое, как волос, рыданье, небесная скорбь.
И в углу, там, где стоял шкаф с книгами, начал разгораться слабый свет.
Свет усиливался, превращался в слабое нежное сиянье. До рассвета было еще далеко, да и окно прорезало стену совсем в другой стороне. Митя, сидя на кровати с Евангелием в руках, почувствовал, как у него волосы встали дыбом. О, больше никогда он не будет глядеть бездарный ящик, все эти бестолковые фильмы ужасов, все эти бесконечные триллеры, где сплошняком – выстрелы, кровь, выстрелы, вот такой неведомый потусторонний свет из темных ночных углов, женские крики, мужские проклятья. Господи! Как ему страшно. Господи, как же страшно, как холодно ему.
– Господи, Ты ли это, – дрожащим голосом сказал Митя и замер. Он слушал – что донесется извне. Он слушал себя. Он боялся смертельно. Сиянье ярчело. При свете, льющемся из угла, он мог бы прочитать страницу. Он дернул за шнур, бра погасло. Сиянье стало сильнее. Митя поднес Евангелие к лицу и стал медленно, запинаясь, дрожа, читать:
– Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Я есмь лоза, а вы ветки; кто пребывает во Мне… и Я в нем…
Он еще раз, шепотом, повторил: и Я в нем, – и, не отрывая взгляда от сиянья, что росло и мощнело, подумал: Он – во мне, – как это может быть?.. что за бабушкины сказки!.. – и прочитал дальше, про себя, глазами: “Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет…” Вскочил с кровати. Захлопнул книгу. Пошел прямо, лицом на таинственный свет, сочащийся из ничего, ниоткуда, и снова нежный, на тонкой еле слышной ноте, будто бы детский плач остановил его, предостерег, ударил тонким ангельским копьем в сердце.
И тогда он услышал. Он услышал – и подумал: я схожу с ума. Да, конечно, я схожу с ума, а как же иначе?.. ведь только сумасшедшие видят и слышат – такое…
Он услышал голос. Голос говорил ему мерно и скорбно, Мите казалось – не по-русски, но отчего-то он понимал все до слова, хотя речь лилась знойно, медно и пустынно, будто на неведомом, забытом пустынном языке:
– Ты же слышал, Митя, ты же слышал: раб не больше господина своего. Если Меня гнали – будут гнать и тебя, Митя. Ты можешь грешить и дальше, можешь убивать и предавать, можешь грабить и накоплять сокровища, но ты не будешь иметь прощенья, извинения во грехе своем. Ты не веришь в Меня, Митя?.. Ты не веришь в Отца Моего?.. Тебе будет свидетельство. Ты узнаешь. Не сейчас; ибо люди хотят все узнать, услышать здесь и сейчас. Они хотят быть счастливыми на земле – здесь и сейчас. А им дано будет счастье только тогда, когда они отрекутся от себя во имя Мое и навек пребудут со Мною. Ты пошел по пути, Митя, но путь твой уводит от Меня. Тебя уводит от Меня искуситель, он же и Меня искушал, – но Я был сильнее, ибо я рожден от Отца моего, а ты рожден, чтобы увидеть Меня, но ты слеп еще, и повязку с глаз не снимаешь – боишься, не хочешь… Сними повязку, Митя! Ты убил – покайся! Ты был жаден, ты грабил, ты опять убивал – покайся!.. Ты не веришь, что Я есть, Митя?!.. Сними повязку с глаз… сними повязку!..
Он мазнул рукой по лицу. Обхватил руками голову. Заткнул пальцами уши. Стал раскачиваться взад-вперед. Закричал сам себе: я пьян!.. я пьян… Он был трезв как стеклышко. Он дрожал, как в приступе малярии, и его зубы стучали друг об дружку. Упал головой в скомканное одеяло. Забился, как припадошный. Когда он поднял от подушки голову, свет померк. Он огляделся. Пустая тихая комната. Занавеси на окнах. Одинокая звезда горит алмазом сквозь стекло.
Ему позвонил Бойцовский. Он услышал в трубке циничную, пропитанную скрытым смехом, странную речь. Бойцовский был будто под шофе – подозрительно бодр, дьявольски весел. “Мы все делаем как надо, Митя. Ты понял, что мы все делаем как надо?! Кто захочет нам помешать – тому глаз вон. Они… захотели нам помешать?! Гляди, что выходит. Мы, только мы, и никто больше, купили гибель этой страны. И мы дорого заплатили. Если только кто переплатит, как на аукционе, покроет нашу ставку – ну, тогда мы умоемся”. Митя бросил трубку. Зазвенел его сотовый. Митя взял сотовый и отчетливо сказал: “Я выбыл из игры. Временно. Не звони мне больше. Я схожу с ума”.
Он бросил на диван сотовый, зажмурился, упал лицом в подушку, вышитую Изабель. Золотая жесткая нитка царапнула ему щеку.
Он знал о том, что представители тайного Мирового Правительства заседают рядом с ним, здесь, в Москве, в штаб-квартире на Тверской – Бойцовский ему сам об этом сказал; не иначе, Борис был пьян, по трезвянке он бы никогда не выболтал этого, даже Мите. Эмиль промолчал, но Митя знал, что Папаша тоже был там. Заседайте, милые. Вы, возможно, победили. Россия давно уже – страна безумцев, захвативших власть, думающих, что они самые умные, самые хитрые, самые богатые, самые могущественные. Россия сходит с ума. Россия – сумасшедшая. А она думает – она царица Мафии. С виду это, конечно, так. Но все это делириум, все это палата для буйных. Жемчужные ожерелья сорвут с груди, норковые шубы сожгут на площадях. Еще немного вы продержитесь! Еще немного мы… продержимся…
В России власть преступников, да. Но сами преступники достойны жалости. Ты сам достоин жалости, Митя, но это понимает лишь один только Котя, больше никто. Котя, только бы не убили тебя. На мне твой крестик, на мне образок моего святого, хоть я и не верю ни черта в эти побрякушки. Ты в них веришь – мне этого довольно. Митя выходил на улицу – там в глаза ему, в лицо, искаженное приближеньем сумасшествия, бросались угрюмые лица нищих под землей, в метро, баянистов, распяливающих баяны, голосящих “На сопках Манчжурии” и “Прощанье славянки”, а то и “Синенький, скромный платочек”; там ему под ноги катились мальцы в отрепьях, с пустыми жестяными барабанами на груди, поющие: “Захотел воды Исус – а ему дали уксус!.. Захотел воды Исус – а ему дали уксус!.. Посмеялися над ним, над Господом дорогим… Вы подайте деньгу мне – будет лучше же себе!..” – там на перекрестках, близ хлебных ларьков, стояли милого, приличного вида седенькие старушки, ознобно кутающиеся в ангорские, в оренбургские шали, и они протягивали руку, они умоляли – неслышными губами, прозрачными, полными слез глазами: “Дайте денежку!.. Дайте денежку!.. На хлебец!.. Пожалуйста!..” – и Митя, отвернувшись от них, ибо их плывущего, слезящегося взгляда нельзя было перенести, лез в карман, вынимал любое, что там моталось – баксы ли, рубли.
Старушки чуть в обморок не падали от вида долларов. Крестили Митю, как святое виденье. “Спасибо, батюшка!.. Ты один среди богатых такой добрый!.. все – жадные…”
Жадность. Что такое жадность?
О, Митя, ты прекрасно знаешь, что такое жадность. Ты испытал это чувство, когда Бойцовский поманил тебя пятьюстами миллионами. Ты не мог побороть его, справиться с ним. Ты поддался ему. И, поддавшись, ты предал друга. А друг – там, под пулями, любит тебя и благословляет. Что это?! А это, Митенька, схожденье с ума такое. Оно мучительное. Оно совсем не мгновенное: раз – и сошел, и легко тебе и блаженно, и босиком ты идешь по снегу. Так не бывает. Все происходит медленно, страшно. За все надо платить. За освобожденье души – втрое.
Митя срывался с места. Заводил свой “мерс”. Ехал – отчего?.. какая муха его кусала?.. – на черные рынки Москвы: в Щелково, в Черкизово, в Салтыковку. Бродил меж лотков, заваленных дешевыми восточными – турецкими, китайскими, тайваньскими – товарами. Глядел на “челноков”, часами, днями топтавшихся на морозе, выручавших – сколько?.. ровно столько, чтобы прокормить семью, да и то не всегда. Глядел на их обмороженные, красные лица; на красные, обтянутые ветром руки; на красные от водки глаза – торговцы все время прикладывались то к бутылочке с водочкой – чтоб согреться, то к термосу, где плескался горячий кофе пополам с коньяком.
Ах, седая блестящая Лора, тебе и не снился, сука, такой вот заработок. Каждому – свое?! Да, каждому свое. Митя, кряхтя, покупал у “челнока” то красивое женское платье, то дубленку-разлетайку, то махровый халат – заворачиваться после ванны. Кому, какой женщине он все это накупал?.. А никакой. Она мерещилась ему и тут же исчезала во мраке. Она убегала от него. Ева убегала от Адама, опрометью бежала из его никому не нужного Рая, а Рай уже был охвачен пламенем, уже был в кольце огня, и орудия лупили дальнебойными, и самолеты гудели над затылками неистово, и, гляди не проходи мимо дома, он заминирован!.. – прямо за его спиной рушился, оседал наземь дом, и крики неслись к небу, и зимнее солнце сверкало ослепительно, а ночью незрячие от слез глаза кололи длинными иглами звезды.
Рынки, рынки!. Черные рынки, рынки, где продавали людскую еду… Митя забредал и туда. Митя ходил, хмурясь, глядя с высоты своего каланчевого роста, на развалы хурмы, на алость разломленных гранатов, на распилы мерзлого мяса, на зеленые стручки маринованного перца в берестяных туесах, на горы грецких орехов, на красные – снова красные, с грязными ногтями, в цыпках – замерзшие грубые руки торговцев, что торговали людской едой, без которой человеку не прожить и дня… А если не есть совсем?! Митя кивал: мне горбуши взвесьте, пожалуйста, и найдите с икрой. Да как же я в нее влезу, господин хороший?!.. – весело кричала торговка, красноносая девчонка с челкой до бровей, в белых испачканных чешуею нарукавниках, грея руки у рта, – только разве разрезать!.. Разве узнаешь, что у рыбы внутри!.. Митя бросал купленную рыбу в сумку. Разве узнаешь, что у мафии внутри. Разве узнаешь, что у страны, чреватой ужасом, внутри. Что у будущего внутри, ты, жалкий человек, разве узнаешь.
Митя, как зачумленный, как неприкаянный, брел на вокзалы, бродил вечерами, ночами, как если б он сам был бомж бесприютный, по площади Трех Вокзалов, забредал то на Казанский, то на Ленинградский, а вот он и Ярославский, его родной, – его, сибирский, восточный, на его перрон он спрыгнул когда-то с владивостокского скорого.
Он глядел на нищенок, ночующих в теплых вокзальных мраморных углах – их шпыняли, били резиновыми дубинками милиционеры, делая зверские лица, орали: “Встать!.. Здесь нельзя спать!..”
Нищенки вставали, испуганно убегали, подобрав юбки; милиционеры держали за загривки опустившихся, обмотанных чудовищным тряпьем, грязных и пьяных мужиков – жителей подворотен, ах, им тут тепло, рядом с буфетом, рядом с запахом съестного?!.. в шею их!.. в шею!..
Дубинка тяжело опускалась на ребра, на плечи, на спину и так забитого жизнью, властью человека. Мир тебя заклевал; мир – ворона, ты – гнилая корка. Птицы расклюют – и не заметят… “Сволочи!..” – закричал избитый бродяга, шатнулся и упал – на мраморный, блестевший чистотою пол вокзала.
И люди, задумавшие ехать куда-то, спешащие мимо с баулами и чемоданами, равнодушно смотрели, как грязный человек, скрючившись, лежит на мраморе и плачет, и отворачивались – это было не их дело. Да, не ваше собачье дело это было, господа.
Митя шел, шел все дальше по Москве – шел каждый день, живя особой, сумасшедшей бродяжьей жизнью; он ничего не понимал; он знал – в Москве есть притоны – в одном, бандитском, на Таганке, ему довелось побывать, – что в Москве есть ночлежки, и там ночую те, кому негде приклонить голову; Сын Человеческий не знает, где приклонить голову, и богатый человечек строит ему ночлежку, снимает ему теплый душный зальчик, грязную каморку, берет за ночлег копейку – а какая она, копейка за ночлег?.. большая?.. маленькая?.. ночуют бедняки – значит, по карману…
Его внес ветер ночного огненного безумья в маленькую ночлежку для бедных на Малом Каретном, близ сада “Эрмитаж”. Он увидел ряд кроватей, как в больнице или в лагере, вытертые верблюжьи одеяла, плоские, будто вагонные, подушки. На кроватях лежали люди. Некоторых трудно было назвать людьми – язык не поворачивался. Митя с сожалением, страхом, еле сдерживая рыданья, глядел в зажмуренные, скованные безумным сном лица на серых подушках.
О, наволочки со штемпелями; о, несчастная, сырая обувь у кроватей и посушить негде. Его лицо каменело. Он широко крестился. Дежурный, берущий деньги с бомжей, испуганно и недоверчиво смотрел на его богатую дубленую черную куртку, на бобровую шапку, сдвинутую на затылок, на страдальчески сморщенный, потный лоб.
“Вам… переночевать?..”
Митя сам не знал, что с ним. Он хотел бы бухнуться тут же, на одну из этих жестких утлых кроватей, уснуть сном без просыпу, черным сном без сновидений. Сам себя не понимая, боясь, пугаясь сам себя, он подходил к дежурному, совал ему в руку триста, пятьсот долларов. “Купите сюда новых одеял… теплых…”
Резко поворачивался, уходил, убегал. Сбегал по лестнице, как вихрь, вырывался наружу, в снег и вой метели. Какое тяжелое билось в груди сердце. Как большая чугунная гиря. Как каменный копер, бьющий в ветхие стены.
И, выйдя на улицу, в пургу и ночь, он садился на корточки рядом с сумасшедшей старухой, восседающей в булочной на ящике из-под вина, и вынимал из-за пазухи купленную в киоске дешевую пиццу, и разламывал, и совал ей в руки, и плакал, и ел вместе с ней. Старуха шамкала беззубо, таращилась на него, как на придурка: богач такой, а рядом с ней в снегу сидит!.. Митя ел, глядал на старуху, плакал. Вьюга выжигала ему глаза. Снег так искрился, что глазами было больно, и они слезились, как от резаного лука. Как это Котя говорил, ты же помнишь: кто никогда не ел своего хлеба со слезами… Что это с ним, Боже?! Да нет, все просто. Все замечательно. Он сходит с ума – только и всего.
И, поднимаясь, даже не отряхнувшись от снега, вывалив последние деньги на ладонь нищей старухи, он снова шел по улицам, по роскошным, красивым улицам Москвы, мимо изящно, стильно отделанных – о, что за дизайн!.. какой евроремонт!.. – сверкающих безумными рекламами домов, а на первых этажах располагались кофейни и бары, модные салоны и фешенебельные магазины, шикарные рестораны и отчаянные казино, где каждый, о, каждый мог попытать счастья, а также несчастья; и он глядел на этот блеск, на гладкие стекла витрин, на фигуры великолепных холодных манекенов, что стояли за стеклами, на жемчуга на их картонных мертвых шеях, на гигантские макеты пузырьков модных духов, на немыслимые наряды, на шелково отливающие, с небрежным расчетом брошенные напоказ ткани – о, это духи от Нины Риччи!.. а этот костюмчик от Версаче, не правда ли, как мило!.. – а эти жемчуга, ведь они же настоящие, они не поддельные, их выловили ныряльщицы, ама, близ берегов солнечной Японии, на Хоккайдо, на Хонсю… – он шел мимо тупорылых шуршащих народом, как мышами, маркетов, где “дубленки круглосуточно”, где “ночью – самые низкие цены”; он шел, и сиянье широких витрин вызывающе обдавало его, ослепляло, и он закрывал глаза рукой, и он глядел в сторону, вбок, – а рядом с витринами снова сидела она, нищая старуха, подняв умоляющие глаза, протягивая просящую руку, и слезы текли из слепых глаз, и он видел – это была старуха Голицына, и он шептал: простите, Ирина Васильевна, простите меня, простите, простите, – а метель взвихривала мех его шапки, трепала полы дубленки, била его по щекам, по глазам: гляди, гляди на свое богатство, богатый, и на свою бедность, бедный, гляди, не отворачивайся.
И он не выдерживал, он отворачивался и кричал, и крик поглощала ночь, и вьюга заметала его, и публика, шедшая мимо него по Тверской ли, по Садовому ли, по Арбату, пожимала плечами: вот еще один умалишенный, почему их не забирают психбригады, да сейчас ведь весь мир с ума сошел, дорогая, да, дорогой, а жаль человека, прилично одет, видать, из обеспеченных, да нет, он просто напился, упился до чертиков, у, вот так все они, богатеи, нажрутся и веселятся, творят что хотят.
Он начинал сходить с ума по-настоящему.
Он не мог оставаться один в доме. Он включал свет, везде зажигал свет – ему надо было много света вокруг, чтобы горели все люстры, все лампы, торшеры, бра, светильники; он даже зажигал свечи – еще те свечи, что подарил ему Котя, что он сам покупал в их с Котей блужданьях по московским храмам. Если он оставался в темноте, его начинала колотить неистовая дрожь. Он пробовал заглушить дрожь коньяком – она не проходила. Он включал везде свет и закрывал глаза, бросаясь ничком на диван, пытаясь уснуть при свете. У него все болело внутри, болела голова, раскалывалась от боли, как орех. Будто в голову выстрелили, и ранка в черепе не зарастала, все не затягивалась, и боль снаружи просачивалась внутрь, сквозь черную кровавую дырку. Он слышал – шаги. Кто-то входил в комнату. Кто-тг входил к нему. “А-а!” – кричал он страшно, соскакивал с дивана. Пустота. Тишина. И стоило ему снова рухнуть на подушки, вышитые золотой ниткой, как шаги слышались снова, и, не открывая глаз, он уже знал – перед ним в комнате стоит Изабель.
“Изабель, это ты?.. это ты, я знаю…”
“Это я. Это я, Митья”.
“Зачем ты пришла?!.. Я боюсь тебя… уходи… Ты пришла, чтобы забрать меня?!.. я еще не хочу… мне еще рано!.. уйди, молю!..”
“Это я бойся тебья, Митья. Твой друзья убиль менья. Убой.”
“Какие… друзья?..”
“Я знать… я догадайся, какой. Я не видеть, кто… в театр быль так темно… но я все равно знай – это твой друзья…”
“Изабель!.. Я клянусь тебе – я не знаю, кто это!.. Я не желал твоей смерти… я же не мог нанять киллера, чтобы убить тебя!.. Это же сумасшествие полное!.. это безумье… это кошмар…”
Она наклонялась к нему, лежащему на диване, зажмурясь. Он слышал ее легкое дыханье. Он чувствовал запах ее волос. Она протягивала руку, и легкое тепло руки достигало слабым веяньем Митиного искривленного лица. Он так дрожал, что скрипели пружины дивана, будто он занимался с кем-то любовью.
“Я знать, ты не хотель, чьтоб я умирай. Я хотель всьегда жить. На ньебесах тоже есть жить, Митья”.
Он протягивал руки. Только коснуться ее, коснуться хотя бы раз. Неужели это правда, и в мире все живое, и никуда ничто не исчезает, и ничто не появляется из ничего. Что такое смерть?! Он не знает. Да знает ли кто из живущих.
“Изабель!.. я тебя люблю… коснись меня… обними меня…”
Она горестно вздыхала – он слышал слабый вздох, шелест волос, тихий стон.
“Не могу… если я обнять тебья, ты – умирай… а ты сам говориль, еще – рано…”
Еще вздох, еще, удаляющиеся по паркету шаги. Митя, не открывая глаз, отирал со лба холодный пот обеими руками. Яркий свет торжественно горел повсюду – иллюминация, красота, ночной безлюдный раут. Он вставал с дивана, шатаясь, шел на кухню, освещенный ярким светом. За рамами он нашел бабочку, не уснувшую на зиму. Она медленно ползала по стеклу. Он вынул бабочку из-за рамы, посадил ее на палец, заплакал над ней.
Это ОНА убила ее. Это ОНА ревновала его и убила ее. Это ОНА устроила кровавый спектакль в Венеции. КТО ОНА?!.. Она – Дьявол. Да, Дьявол. Она же тебе сама сказала. Разве ты не помнишь. Я ненавижу ее. Я уничтожу ее. Если я увижу ее еще раз, когда-нибудь… Ты увидишь ее еще раз. Хватит ли у тебя сил?!
Дьявола не так-то просто убить из огнестрельного оружья. Ты будешь наводить дуло, стрелять – а пули будут мазать мимо, будут всаживаться в кресла, в обивку стульев, в мебель, в стены, рикошетировать, плясать вокруг. Будут вмазываться в масло ее тела, а крови не вытечет, кровь не будет брызгать, пули будут тонуть в ней, как в море, а она будет смеяться, невредимая, живая, такая же веселая, гладкая, сытая, как и прежде. Она будет смеяться над тобой. Она пойдет на тебя с протянутыми руками, с загнутыми когтями, она вцепится тебе в горло, и песенка твоя будет спета. Что делать?! Пули не помогут. Револьвер – дерьмо. Надо сделать нож. Сделать, ха!.. Купить…
Тебе что, слабо купить хороший, добротный, острый “золинген” баксов за триста… пять звездочек – как коньяк… Нет! Таким ножом ты ее не возьмешь. Надо выточить нож на наждаке – острый, с загнутым кверху концом – самому, и долго, долго вытачивать, точить, заострять лезвие, доводить его до нитки, до паутинки, как это делают бандиты, до безумной остроты, чтобы только взмахнуть – а воздух уже сам разрезал ее плоть, ее трепещущую, розовую отвратительную плоть…
Да, он станет бандитом. Он выточит такой нож. Собственноручно. Он убил людей – он убьет ее, Дьявола. Убить ее! Иначе она уничтожит всю Москву. Это она насылает на Москву взрывы. Это она затеяла войну в Чечне. Это она… на ней – кровь. И она выбрала его. Она выбрала его, чтобы проверить его. Сможет ли он. Не струсит ли. А он – струсил. Надо было там, в Венеции, в той дешевой каморке с кроватью, где лежала волчья шкура, выхватить у нее из руки револьвер и выстрелить ей прямо в голову, в лоб, как она выстрелила господину Канда и его другу-японцу, – а он не смог, струсил, таращился на нее, дрожа, как ребенок, как мальчишка, впервые глядящий дешевый триллер. Он ничего не смог. Сможет ли теперь?!
Он забыл ее номер телефона. Он потерял его. Он не будет звонить ей. Она сама появится. Она же следит за ним. Она не упустит его. Он нужен ей. Купить наждак, стремительно вращающийся шершавый диск, спрятанный в металлическом кожухе, врубить на полную катушку в сеть, приставить стальную пластину – и точить, вытачивать нож. Он убьет ее. Он убьет ее!
Колени слабели. Подгибались. Руки наливались свинцовой, неподъемной тяжестью. Он не мог шевельнуться. Он не мог даже раздвинуть губы, чтобы улыбнуться, чтобы всласть похохотать, посмеяться над собой.
Когда Митя проходил, пробегал мимо метро “Театральная”, он увидел – скрючившись, на снегу, подстелив под себя рваное полотенце, сидит в полосатом восточном среднеазиатском халате раскосая и смуглая восточная девочка. Пять черных косичек болтались у нее за плечами. Вшивая, должно быть, пальцы из головы не вынимает, чешет голову ногтями. Девчонка протянула грязную крохотную лапку.
“Пода-а-айте, господин!..” – заканючила она гнусаво, жалобно. Митя как вкопанный остановился, зашарил в карманах. Теперь, выходя из дому, он запасался деньгами и раздавал их направо, налево.
Он наклонился к девочке и сунул ей в холодную ручку десять долларов. Девочка скорчила рожу, как обезьянка, закатала денежку под рубашку. Митя отошел уже, завернул за угол, как внезапно за его спиной жахнуло так, что он на мгновенье оглох, и взрывная волна бросила его оземь.
Он упал на тротуар, в грязь и снег, ничком – как падал ночами на диван в своем особняке, преследуемый призраками. За его спиной поднялся, встал до неба страшный грохот обвала, послышались дикие человечьи крики.
Пыль забила легкие. Он обернул голову. Шея не гнулась – его контузило. Дом сзади рухнул, обвалился; из выбитых оконных стекол вырывалось пламя. Он сел на тротуаре, ощупал себя. Голова болела, слышал он с трудом. Хорошо его ударило. Он остался цел. Кости целы. Руки-ноги целы. Что еще надо тебе. Он тяжело встал, побрел обратно. Остановился. На рваном дерюжном полотенце лежало тельце девочки, которой он подал милостыню. Оторванная голова, с пятью черными косичками, валялась поодаль, на губах застыла улыбка. Из разорванных лохмотьев шеи на снег вытекали обильные ручьи крови.
Митю вытошнило прямо на снег. Он приткнулся лбом к стене дома, и так его рвало, будто бы он был мертвецки пьяный, будто б надрался водки от пуза. Он не слышал душераздирающих криков, топота людей, бежавших от взорванного дома прочь, воя машин, свиста милиционеров. Его выворачивало наизнанку, и так болела голова, что ему казалось – уж лучше ее оторвать и бросить на снег, и пусть она улыбается, и не плачет, не страдает больше никогда.
А когда он, контуженный, добрел домой, до Гранатного, и ввалился в свой особняк, – долго же он входил к себе домой, все не мог попасть ключом в замок, плакал, содрогался, корчился, а голова болела так сильно, так невыносимо, – то он нашел в почтовом ящике записку почтальона: “Вам телеграмму приносили, вас не было дома, позвоните туда-то, во столько-то”. Он набрал номер почты. Любезный девичий голосок сообщил ему текст: встречай ростовским поездом завтра утром, привет, Котя. Он встрепенулся. Котя приезжает! С войны… Сердце сжалось. Ему не понравилась телеграмма, хотя в ней не было ничего такого, что могло бы огорчить или взволновать. Приезжает – ведь это радость!.. Котька, живой, ура, война разжала челюсти, выпустила тебя на волю…
Он стоял на перроне радостный, прижимал к груди купленный букет дурацких кроваво-алых роз, коробку с тортом “Прага”, а голова у него так болела. Радостная улыбка не сошла у него с лица и тогда, когда он увидел вышедшего из вагона Котю Оболенского. Котя тоже увидел его. Бросился к нему, обнял его. Правой рукой. Левой руки у него не было. Вместо левой руки болтался рукав гимнастерки, заткнутый за широкий солдатский ремень.
Он сидел рядом с Котей, напротив него, у себя в Гранатном переулке, он все сделал, вымыл посуду, накупил всего в магазинах, сам сервировал стол, сам поставил на него все, что надо – ведь он был двурукий, у него было две руки, а Котя сидел напротив него с одной рукой, и улыбался так чисто, так ясно, что не плакать было невозможно. Митя так и наливал вино – слезы текли по щекам; так и накладывал на тарелку Коте всякой всячины, пододвигал нарезанные мясо, рыбу, овощи, икру – а лицо так и заливалось слезами, они, слезы, все текли и текли неостановимо.
– За твое возвращенье… за возвращенье!..
Он не мог говорить. Горло будто перерезали. Слезы текли по губам, как соленая кровь. Котя улыбался весело, хорошо. Он своей улыбкой словно говорил Мите: ну что ты, Митя, ведь все в порядке, жизнь идет, я жив, я повидал войну, я сделал все что мог, и Господь вознаградил меня, Он надоумил меня, Он пожаловал мне жизнь, хотя мог ее отобрать на войне, и я счастлив, – а ты-то что ж ревешь как корова?.. Плакать мужчине не к лицу…
Они сдвинули рюмки. Раздался печальный хрустальный звон.
– Хорошо еще, Митенька, что я – левой руки лишился, не правой. Правой теперь буду креститься, есть, мастерить, одеваться… писать… правая ведь держит перо… И копать землю могу, в монастыре ведь вскапывать землю придется, овощи сажать… И благословлять правой буду – и тех, кто любит, и тех, кто ненавидит. И праведников, и грешников. Навидался я всякого народу на войне, Митя. Господь оставил мне правую руку – Он любит меня. И на войне я не раз убеждался в этом.
Они подняли рюмки, выпили. Митя во все глаза глядел на Котю. Котя быстро захмелел, моментально. От радости?.. в тепле… в мире, покое… оттого, что рядом не рвутся снаряды… от хорошей дорогой водки – не от разведенного водой спирта, хотя там, на морозе, был хорош и спирт, хорошо шел, под матерок, под шматок консервов с ножа – зубами…
Митя глядел на него, живого. И сильно, смертельно завидовал ему. Завидовал тому, что Котя и в аду, в котором он побывал, не утерял всего того, что имел; что он и без руки был счастлив, будто с двумя руками, будто женился на самой лучшей девушке Москвы, и Митя сейчас выпивал на его помолвке; завидовал тому, что у него есть выбранное им и преопределенное ему Богом будущее, в то время как у него, у Мити, не было ничего, хотя и было все.
А что у него было?
Куда он ни кидал мысленный взор – кроме чудовищного счета в банке, у него не было ничего. Вещи?.. Дом?.. Машина?.. Тряпки?..
Дом мог сгореть. Машину он покупал уже который раз. Вещи его не интересовали уже – они интересовали его лишь сначала, когда они ему были в новинку, когда он мотался по магазинам и приобретал их, дивясь им, как ребенок, и складывал в багажник, и вез домой, и расставлял, как дитя расставляет купленные матерью дорогие игрушки по разным углам. Он быстро к ним охладел, не замечал их.
Жену убили; Папаша был жук еще тот; женщины?.. Какие, к черту, женщины… У него были только деньги, деньги на счету. Это была единственная его реальность. Игра?.. Может быть, начать играть снова?.. Когда он начинал играть – это ему, пожалуй, нравилось… Вот Котя поиграл в войну – гляди, гляди, что получилось…
– Я бы не смог, как ты, – вырвалось у него.
Котя, завеселевший, краснощекий – Боже, как обветрились на чеченском зимнем резком ветру его нежные, как у девушки, щеки, как заматерели, обросли звериной шерстью, щетиной!.. – удивленно смотрел на Митю, хватаясь за горлышко бутылки, наливая новую рюмку.
– Что ты имеешь в виду, Митенька?.. – спросил он и подмигнул ему. – Что так глядишь на мой пустой рукав?.. не бойся, сварганят протез, буду ходить с протезом – от живой руки не отличишь… И ты бы все там смог, как я… И тебя бы Бог припер вилами к стене – и ты бы туда поехал… Тебя, как видно, Бог не припер… Но тебе здесь было не лучше, дорогой, – я же по лицу твоему вижу…
Митя закрыл глаза и представил себе Соньку-с-протезом. Черный, старинный протез, страшный, как черная лапа серийного убийцы в черной перчатке. Сонька часто снимала его, не любила. Сейчас такие не делают. Сейчас все подделают под жизнь, под настоящее, только пальцы шевелиться не будут. Он помотал головой, закусил губу.
– Наливай!.. – крикнул он. – Да, мне тут худо было!.. Да, я тут спятил совсем… И еще спячу… Котька, да ведь это не жизнь, которой я здесь живу! – вдруг выкрикнул он, сам испугавшись своей догадки, своего прозренья. – Это ведь не жизнь! Это смерть, Котя!
Котя стукнул рюмкой о его рюмку. Глаза Коти светились, сияли весело. Искрились, будто солнце в них играло. Он взял в пальцы кисти скатерти, стал крутить их, мотать, сплетать в косичку.
– Слава Богу, Митя, что ты хоть это понял, – тихо, весело сказал он. Поднял налитую всклень рюмку. Выпил, охнул, не закусил. Изабель с портрета глядела на них ясными прозрачными глазами, и в ее взгляде просматривалось насквозь время.
Он отвез Котю к нему домой, еле заведя “мерс” на морозе. Господи, какая лютая зима в этом году. А еще обещали весну раннюю. Зачем меняются времена года?! Эмиль то и дело звал его к себе. Надо было ковыряться в грудах ненавистных денежных бумаг. Он прикидывался больным. Верещал в трубку: у меня грипп, у меня ангина, у меня мигрень. “Пить надо меньше”, – сердито шутил Эмиль, спрашивал дотошно: тебе каких лекарств привезти?.. Митя гудел: никаких. Отвяжись, Папаша. Организм сам справится.
Это было вранье. Он сам не справлялся с собой.
Он не справлялся с безумьем.
С ужасом, налетавшим на него, как порывы резкого черного метельного ветра.
Все качалось и плыло перед глазами, будто он слишком много выпил. Будто он пьяный шатался по улицам. Будто он мертвецки пьяный валялся на своем диване, и Изабель, уже не стесняясь, сходила к нему с портрета, босая, простоволосая, грустная, русая – французская крестьянка, не барышня Рено. Она держала в переднике пук полевых цветов, бросала на Митю полевые пахучие гвоздики, колокольчики, мяту, ромашки, желтые лютики – “куриную слепоту”. Митя стряхивал с себя цветы, они падали с дивана на пол. Утром он искал около дивана высохшие стебельки, сухие венчики. Он перестал спать совсем. Его мозг работал напряженно, безостановочно и тяжело-железно, как локомотив, как доменная печь. Деньги! Его деньги! Он должен их обратить в дела! Он должен сделать так, чтобы они жили, а не лежали мертвым грузом на счету, как… как лежит в земле мертвое тело, поедаемое червями… как лежит в земле тело Анны… тело Андрея… Зачем он мечется по Москве?!.. Он сам не знает. Его продолжали больно ранить бедняки – зачем бедных так много, как собак нерезаных; зачем их не отправляют в резервации, в отдельно построенные кварталы, города. Зачем они тянут к нему руки?! У него ведь не так много на счету баксов, бедные господа. Он не Рокфеллер. И не Форд. И не Николсон. И не Рено. И даже не Дьяконов. Он всего лишь Морозов. О, господин Морозофф?!.. селф-мейд-мен, бьютифул… Человек, сам сделавший свою судьбу… Господи, зачем ему эти деньги… зачем… зачем… Господи, возьми их у него… Господи, может, вложить эти чертовы миллионы баксов в восстановленье какого-нибудь храма?!.. с удовольствием… только вот храм Христа Спасителя уже отстроили… но ведь он не единственный!.. надо подумать… надо придумать…
Он метался. Голова гудела как колокол. Речи уже не осталось. Слова иссякли. Ему не хотелось говорить с людьми. Он избегал общества Коти. Он бежал от Эмиля, от надоедливой светской хитрой Лоры. Он бросал трубку, если слышал в ней голоса Бойцовского, Прайса. Он думал уже слабо, беззащитно. Он погружался в смоляное море паники, в бездну страха. Чтобы заглушить страх, он пускался во все тяжкие. Он, беременный безумьем, стремился скорей выносить его, скорей родить страшное сумасшедшее дитя. Он знал, что безумье навсегда поселилось в нем. Что он его никогда не вытолкнет из себя, как ни будет стараться.
Он бросился в великие загулы, и его отчаянные гулянки запоминала накрепко обреченная, ожесточившаяся, погрязшая в блеске роскоши и тьме нищеты несчастная Москва.
Он покупал цыган, цыганские хоры, щедро платил трясущим плечиками цыганским смазливым девочкам, кутил в “Праге”, “Пекине”, “Арагви”, на “Седьмом небе” Останкинской башни, в ресторане гостиницы “Космос” на проспекте Мира; в ресторане Центрального Дома Литераторов он устроил настоящий цыганский триумф – привел туда цыганский хор из “Стрельны”, разбрасывал по полу баксы, высыпал из корзинок апельсины и яблоки на паркет, на столы, за которыми сидели изумленные писатели, заказывал у официантов бутылки – мартини, коньяк, лучшие французские мускаты – и швырял их очумелым посетителям, и кричал: напишите стихи обо мне, как живу я в этой несчастной стране!..
Цыгане уже знали его, любили его – он платил так много, что беднягам могли только присниться такие гонорары. Цыганки пели ему, подходя близко, совсем близко – так, что кончики их обнаженных, в вырезе платья, грудей касались его локтей, его груди: пей до дна, пей до дна, Дмитрий Палыч дорогой!..
И он пил до дна, а цыганки визжали и хлопали звонко в ладоши, а угрюмые курчавые сине-смуглые цыгане ударяли по гитарным струнам, рокотали, накармливая дикой степной музыкой жаждущую крови публику. Публика жаждала крови и не получала ее – так хоть страстной, кровавой музыкой можно было сегодня ее, пресыщенную, напоить, утолить ее жажду.
И цыганки плясали, и изгибались, и хлопали себя ладонями по вздернутым щиколоткам, и били в ладоши; и Митя тоже вздергивал ногами и бил себя по щиколоткам вместе с ними, и не было для енго лучшего развлеченья, не было лучшего лекарства, чем цыгане.
Ими он хоть на миг излечивался от мученья, от безумья. Они затягивали его в воронку безумного веселья, и он думал: лучше я потону в безумном веселье, чем в скорбном, черном безумье, лучше пусть я сгорю на огне лихой пляски, разудалых песен, волью в себя много сладких вин и крепких водок, высосу все сладкие алые губки красоток-цыганок, насую им за лифы тьму баксов, чем погибну в своем страшном особняке, перед страшным портретом мертвой жены, в роскошном мертвом Раю, что я сам для себя создал, будь я проклят.
Так, мотаясь с уже знакомыми, с уже оседлавшими его, доящими его кошелек цыганами по Москве, по разномасоным ресторанам и гостиницам, он набрел, наконец, на давно знакомый ему “Интурист”. Он пригласил сюда цыган – они должны были явиться в десять вечера, плясать и петь ему всю ночь.
Забавно, отчего он до сих пор не подавался веселиться и гудеть на Тверскую, на такую фешенебельную поп-улочку, где тусовка сменяется тусовкой, где не угасают бешено пляшущие рекламы, где толкутся бесконечно, денно и нощно, классные валютные проститутки, самые, видать, лучшие бабы в мире, ибо нету красивей и слаще русской бабы – что в супружеской постели, что в блуде…
О, проститутки!.. Как это ему раньше в голову не пришло?.. Бедные, несчастные девки, ночные бабочки, путаны… Как же вам несладко, однако, приходится… Ночи напролет, с незнакомцами, с иноземцами, работа, работа, потная, виртуозная – поди-ка изобрази страсть, если ни крохи, ни капли ее ты уже не чувствуешь – отупела, озверела, устала… Вы устали, девицы?!..
Он сдвинул на затылок песцовую шапку. Подошел к кучке красоток, сиротливо жмущихся к подъезду “Интуриста”, с важным, а то и вызывающим видком прогуливающихся мимо крыльца, курящих, косящих на мужчин, что входили и выходили, выходили и входили. Крикнул весело, пьяно:
– Вы устали, девицы?!.. Кто сильно устал тут мотаться на морозе – шаг вперед!.. Я приглашаю вас!
Одна из девок, высокая, крашеная блондинка, вздрогнула, оглянулась, отвела от лица дымящую сигарету, окинула Митю надменным взглядом. Ее выщипанные бровки изумленно, насмешливо поползли вверх. Митя увидел близко ее крашенные розовым перламутровым лаком длинные, загнутые вниз, как у зверя, ногти.
– Ты что, спятил, фраер! – протянула она сквозь зубы, опять поднесла сигарету ко рту, затянулась. Мелкий искристый снег летел ей в размалеванное румянами лицо, оседал на тяжело нагруженных тушью ресницах, таял на щеках, на подбородке, и она отерла мокрое лицо ладонью осторожно, стараясь не размазать макияж. – Куда это ты нас на ночь глядя приглашаешь! Уж не в ресторан ли!.. А не жирно ли тебе будет, ангелочек ты наш?!..
Она захохотала, и, как по команде, захохотали все товарки, сгрудившись в кучку, с любопытством уставившись на Митю, – ничего себе хлыщик, и прикинут недурственно, дубленочка шикарненькая, шапчонка супер, корочки самые что ни на есть модельные, – девочки привыкли встречать по одежке, да и провожать тоже по ней же, девочки мигом оценивали содержимое бумажника при помощи одного лишь беглого взгляда на его обладателя, – поэтому опытные девочки, с наметанными глазками, придвинулись ближе, еще ближе, еще: ну, фраерок, что ты нам тут еще покажешь, какое представленье.
Девочки не убегали. Они глядели на Митю, как львы глядят на арене на дрессировщика, держащего перед ними горящий обруч. Митя чуть не завопил: прыгайте!.. пламя-то ненастоящее!.. а там, если прыгнете, – там Рай!.. там теплый зал, официанты, салфетки, меню, два часа счастливого отдыха от всех забот, музыка, вино, блеск восхищенных глаз…
– В ресторан, куда же еще! – крикнул Митя, и горстью снега ветер ударил его в лицо. – Или вы не хотите?!..
– Все?!.. – Теперь пришла очередь надменной девице с сигаретой изумляться неподдельно. – Все не хотим?!.. Всех нас ты, что ли, приглашаешь?!..
Она обвела рукой стайку разнаряженных проституток. Девочки тут же выставили напоказ ножки в прозрачных дырчатых колготках из-под коротеньких зимних шикарных одежонок. Девочки не привыкли тушеваться. Дикий, сумасшедший мужчинка должен был оценить их всех по достоинству, во всей красе. Денежного мешка нельзя упустить!.. вы же это знаете, помните…
– Всех! – крикнул Митя и обвел рукой размалеванных хорошеньких шлюшек. – Всех, девочки! Вы что, не поняли! Идемте!
И он пошел впереди всех, он первым взошел на крыльцо, и они потянулись вслед за ним – внезапно притихшие, опуская накрашенные глаза, стесняясь, засовывая замерзшие голые руки в рукава норковых модельных шубеек, как побитые, как бездомные собачки, ползущие на брюхе к тому первому, кто позовет их в дом, в тепло.
Митя прошел мимо двух молоденьких охранников в белых смокингах – из нагрудных карманов у них торчали красные платочки, – сунул им по сто баксов; мимо толстого неповоротливого швейцара, застывшего около старомодного бабушкиного фикуса, и тоже всучил ему долларовую купюру. Махнул девицам рукой.
– Живо!.. Думаете, тут с вами будут церемониться!.. Ладно, я пошутил, раздевайтесь спокойно, причесывайтесь сколько влезет, можете сходить пописать, если сильно надо… вон туалет…
Девчонки фыркали, зажимали рты ладошкой, прихорашивались перед высокими гостиничными зеркалами. Сколько раз многие из них прошмыгивали сюда в номера, украдкой вспархивали в лифтах на высокие этажи, забивались в номера, и иностранные мужики, лепечущие, должно быть, всякую чушь на незнакомых языках, проделывали с ними во тьме номеров, а то и при ярком свете – кое-кто любил заниматься сексом и при ярком, даже слепящем свете – все что хотели, от мыслимого до немыслимого, от рвотного до телячье-нежного; и такие случаи бывали, что на проститутках клиенты после женились, так очаровывали они их своим бесстыдным, бешеным искусством, но это бывало очень редко, а так – хлеб был горек и тяжел, каким и полагалось быть трудовому хлебу. А тут…
На халяву пожрать в ресторане – что может быть смешней!.. Вот они и хихикали, вот и скалились, как маленькие пираньи, отбирая друг у друга помады и расчески, подводя друг другу веки на ходу сногсшибательными импортными тенями.
Митя стал в ресторанных дверях. Метрдотель с изумленьем и ужасом воззрился на молодого человека в шикарном, от Версаче, смокинге и целый цветник девиц, благоухавший, хохочущий, шушукающий вокруг него. Легкие девочки, это сразу видно. Откуда он взялся вместе с ними. А, понятно. Сутенер выгуливает своимх крошек. Гуляет, плесень.
Двойной свинячий подбородочек метрдотеля дрогнул, как студень. Глазки заблестели. Ну, сейчас он покажет этим гостиничным пройдохам. Сейчас он распорядится. Официанты сдерут с них со всех отнюдь не по счету. В “Интуристе” обманывать умеют. “Капусты” у этих кралечек куры не клюют, а их хозяин… у, какой поджарый, суровый волчара!.. Волчье, бешеное, темное, заросшее разбойничьей бородой лицо… А зубы блестят в улыбке, безумной, больной… Только бы ты заплатил, сука, можешь хоть изнасиловать здесь, на виду, какую-нибудь из своих крашеных куриц.
– Вон за те столики проходите, пожалуйста, господа!..
Девочки не цыплячьей стайкой побежали за столы – внезапно превратившись в надменных пав и величественных королев, двигались медленно, соблазнительно-вызывающе, окидывая томными, оценивающими взглядами ресторанную публику. На них оглядывались – среди них было много хорошеньких; по совести, они все были хорошенькие, только иные раскрашены так, что краска сползала штукатуркой.
– Рассаживайтесь, девочки! – кричал Митя. Зубы его блестели из неряшливой, неподровненной бороды. У него снова отросли волосы, как и встарь, когда он дворничал; черные пряди висели по плечам, и в иных сверкали молнии седины. – Чувствуйте себя как дома!.. Официанты, сюда!.. Берите заказы!.. Девочки, заказывайте все что хотите, да раздайте же вы девочкам меню, раззявы, как вы медленно работаете… если б я был директор – я бы вас давно уволил…
Митя смеялся, дирижировал проститутками, как хороший дирижер. Метрдотель взирал уже без издевки – Митя успел и ему сунуть пару зеленых бумажек. Выраженье лица кабанчика-метрдотеля волшебно изменилось. Спина его согнулась. Мордочка умильно сморщилась. Губки сложились в вежливо-подобострастную улыбочку: чего изволите?.. Девочки строили ему глазки, шептались: ах, какой прелестный хрюшка!.. А наш-то крэйзи каков?!.. Наш – лучше всех… ну, бывает, люди с ума сходят, а тебе-то какое дело, Светка, мы тут классно посидим, с кайфом, оторвемся…
Официанты уже несли на подносах щебечущим девочкам всяческую заказанную снедь, и подносы кренились, наклонялись в их руках, чуть не падали из рук, и с профессиональной ловкостью официанты огибали столы, чуть задевая штанинами за скатерти, и сгибались в три погибели, и расставляли тарелки на столах перед девицами – с цыплятами табака, со шницелями и лангетами, с чахохбили и осетриной фри, с закусками, щедро обложенными зеленью, бухали об столешницы бутылки с вином, с армянским коньяком.
Девочки оживлялись, поправляли прически, разрумянились, кое-кто уже наливал в бокалы вино и коньяк, чокался, и девицы хмелели быстро и красиво, хорошели прямо на глазах, и вот уже весь ресторан гостиницы “Интурист” засматривался на них, будто бы снимали тут фильм, будто бы работала съемочная группа, и привезли с конкурса красоты первых красавиц Москвы, – а это были всего-навсего замерзшие у входа проститутки, и вот они отогрелись, порозовели, глаза их засияли. И они стали похожи на богатых женщин, которых мужья вывезли вечером в ресторан – отдохнуть.
Да чем, в сущности, женщина отличается от женщины?.. Ничем. Митя на миг закрыл глаза, представил здесь, за ресторанным столом, Хендрикье, помытую, шикарно одетую, замечательно причесанную. И веснушки не надо убирать тональным кремом. Ей и веснушки пойдут. Женщину красит мужчина, рядом с которым она пребывает. Он создает ей образ ее жизни. И, если она живет хорошо – она и будет красива.
А эти, стодолларовые, пятидесятибаксовые шлюшки, а то и дешевле… Эти, жмущиеся в холодный вечер, в метельную ночь к стеклянным подъездам “Интуриста”, “Космоса”, “Рэдиссон-Славянской”… Он вырвал их из дегтярной ночи. Он втолкнул их сюда. Купил им банкетный зал. Купил им всю эту вшивую, идиотскую еду, это дрянное питье, и вот они пьют и едят, и вот они хорошеют на глазах, и вот они все – принцессы и царицы, а ты, а ты, богатый мужик, ты кто такой?! Метрдотель подошел к нему. На его поросячьей мордашке было написано искреннее желанье услужить.
– Там, господин… – он слегка задыхался, тучный, одышливый, поправляя пухлой ручкой галстук-бабочку на глотке, – там… цыгане!.. Они говорят – их приглашал какой-то господин Морозов… Уж не вы ли это будете?..
– Я буду, – кивнул Митя и развеселился – вот они, его родненькие, его славные цыгане, вот сейчас-то и начнется все самое веселое, самое огневое, а то все сидят и скушно едят, двигают челюстями, вместо того, чтобы пуститься в пляс, пить одну за другой рюмки, бросая хрусталь через плечо – пусть осколки разлетаются в разные стороны, как жизнь, как душа!.. – Это ко мне! Это я заказал! Я их купил, любезный… Пусть проходят!
И в ресторанный зал “Интуриста” входили, приплясывая, влетали, крутя цветными могучими юбками, похожими на пышные цветы – на пионы, на мальвы, на орхидаи, – потряхивая голыми плечиками, сверкая глазами, разномастные цыганеки – и старые, грузноватые, с золотыми шинами тяжелых древних серег в оттянутых мочках, и молодые, юные совсем, с детскими личиками, смугляночки, звенящие золотыми браслетами на вскинутых тонких запястьях, – а за ними шли скрипачи, наяривая на скрипках зажигательные витиеватые мелодии, цеплявшиеся друг за дружку, как цветы в венке, и бородатые цыгане-гитаристы – в хромовых сапогах, в рубахах навыпуск, с золотыми цепями на обнаженных волосатых грудях; гитары подскакивали и метались в их сильных руках, струны рвались, не было у цыган жалости к гитарам, не было пощады, и гитары плакали и стонали, как женщины, и, как женщины, разнузданно, пьяно хохотали, и цыганки, входя в притихший, изумленный зал, плясали все неистовей, все огненней вздымая голые смуглые руки из буйства алых, черных, малиновых, парчовых, ярко-зеленых тряпок, будто это были не женские руки, а живые огни, огни тех костров, давно погасших в широкой степи, и теперь горевших в каменных мешках огромных диких городов, – и встряхивали огромными расписными платками цыганки, разворачивая перед глазами людей розы и маки, тюльпаны и хризантемы, заметая холодное пространство, полное белых казенных скатертей, никчемной еды и шуршанья денег, живым цветным огнем, неистребимым, неугасимым.
Да, огонь этот тоже горел, пылал за деньги – Митя щедро отвалил цыганам за свой заказ, ведь они должны были петь и плясать ему всю ночь, – но что оставалось делать им, кочевникам, обреченным на прозябанье в каменно-железном гигантском улье?! И цыганки взмахивали платками! И задирали ноги, выплясывая весело, и груди их выпрастывались из дрожащих тряпок, и черные волосы метались и вспыхивали в свете ресторанных люстр! И они были – ветер, они были – призрак свободы, они были – обман жизни. А может, это-то и была настоящая жизнь – утраченная Митей, та, которую он взалкал.
– Сюда! – крикнул он. – Ближе! Пусть девочки споют вместе с вами!.. А то и спляшут!.. Мои девочки веселые, у них огня хватит… пороху хватит!..
Цыгане подобрались ближе к столам, где пировали шлюхи. Цыганки затрясли плечами прямо над бифштексами и ростбифами. Кисти платков обмакивались в душистый желтый мускат, в рюмки с водкой.
– Какие вы веселые, девчонки! – крикнула та шлюха, с крашенными перламутром ногтями, что надменно курила у стеклянного подъезда. – Не слабо вы танцуете!.. А я тоже так могу! – Она взяла со стола и опрокинула себе в рот рюмку водки. – И-эх!.. Шурка, погляди, как я могу!.. Еще лучше!.. Пошли, пошли, пошли… и-и-иэх!..
И шлюха с розовыми ногями, с высокой, коком, прической – густые начесанные волосы шапкой стояли надо лбом – вместе с цыганами бойко пошла вприпляс по залу, раскидывая руки, взвизгивая пронзительно, стуча высокими каблуками по полу, будто отплясывала чечетку, и Митя, охватив всю ее стройную фигурку в нагло-короткой юбке, не удержался, скинул пиджак на кресло, отхлебнул вина прямо из горла бутылки, тоже разбросил руки, будто хотел обнять все, всех – и пошел плясать рядом с ней, с валютной проституткой с Тверской, а она плясала не хуже, чем истая цыганка, а то и лучше, в ее пляске чувствовалась радость отчаянья, счастье последнего мига, когда страданье человека так велико, что последним усильем он переступает его – и оказывается уже по ту сторону страданья, оказывается в безумье и блеске отчаянья, становящегося на глазах последним праздником, ярким вызовом; и она плясала, закидывая голову, и плечиками трясла по-цыгански, и он ударял себя ладонью по щиколотке, как цыган, но они были не цыгане, они были отчаянные, отчаявшиеся русские люди, они плясали последнюю свою пляску – на глазах у обожравшегося, изумленного мира, перед сытыми лицами людей, завоевавших сладкое место под вечным солнцем: богач и проститутка, а на самом деле – просто мужчина и просто женщина, они сбросили с себя социальные лживые плащи, они хотели и одежды сбросить, так они вспотели, отплясывая, и он расстегнул рубаху, обнажив грудь, и у нее платье сползло с плеч, держась лишь на вызывающе, дерзко торчащих сосках, вся грудь была наружу, светилась лимонным золотом, снеговой чистой белизной, – они были чисты, как в первый день творенья, чисты и румяны, и тяжело, хрипло дышали в танце, как в любви, – он – мужчина, она – женщина, чернобородый дикий Адам и румяная Ева с огненными глазами, с пышными волосами, их еще позорно не выгнали из Рая, и их еще не соблазнил змей, какой, к черту, змей, они сами соблазняли друг друга, это был их танец, и танцем они кричали миру, погрязшему в обжорстве и довольстве: на свете есть лишь мужчина и женщина, и они могут принадлежать друг другу не только в соитии, а вот так, танцуя, свободно глядя друг на друга, свободно сплетая горячие руки, горячие губы – прилюдно, бессмертно. Митя подхватил проститутку на руки, она выгнула спину, коснулась затылком пола; он приподнял ее, их лица оказались рядом, и он жадно припал губами к ее губам, он жадно и жарко поцеловал ее – как не целовал еще ни разу в жизни ни одну женщину: пылко, священно, как намоленную святыню.
И он упал перед женщиной на колени. Он поклонялся ей. Он обвил руками ее талию, и она стояла, смеясь, смотрела на него сверху вниз, и глаза ее горели, вспыхивая влажным пламенем сквозь густо накрашенные тушью ресницы.
И зал взорвался аплодисментами, и скрипачи-цыгане еще рьянее запиликали по струнам, выражая лишь музыкой свое восхищенье. Кое-кто из девиц засвистел пронзительно, по-хулигански, поднеся два пальца колечком ко рту.
– Гениально!.. Это финиш, девчонки, да?!.. Кирка-то – во дает!.. Будто бы из балета Большого театра!.. Атас!.. Шурочка, а ты так не сможешь, козявка…
Митя задыхался. Он вскочил на ноги и снова обнял плясунью. Она подняла к нему залитое потом, счастливое лицо.
– Ну мы с тобой и даем, – задыхаясь, пробормотала она. – Слышишь, это нам, что ли, хлопают?.. Тебя как?..
– Дмитрий… А тебя – Кира?.. я слышал… вон, они кричат тебе…
“Ки-ра, би-и-ис!.. Кирка, би-и-ис!..” – вопили опьяневшие девицы, поднимая высоко полные бокалы, звеня хрусталем; одна из девиц, подвернув ногу на высоком каблуке, упала под стол, и бахрома скатерти накрыла ее с головой, как цыганский шатер. Официанты, смеясь, уносили грязную посуду, меняли блюда.
– Еще станцуем?..
– Погоди, дай дух переведу…
Митя огляделся. Вся его белая шелковая рубаха пропиталась потом, темно отсырела, прилипала к плечам, к спине. Он отбросил со лба мокрые пряди. Кира схватила со стола бутыль муската, сначала сама жадно припала к горлышку, потом, утерев ладонью рот, протянула Мите.
– Выпей, Димка, легче станет. Ты отличный парень. Я думала, ты псих. – Она повертела пальцем у виска. – У тебя баксов куры не клюют, так, что ли?.. – Она, продолжая глядеть на него завлекательно, цапнула, не глядя, со стола пачку сигарет, подруга Шурка поднесла ей, щелкнув, зажигалку. – Выиграл в казино, что ли?.. Или…
– Или, – сказал он, отпив полбутыли муската. – Какое тебе дело. Отдыхай. Твое дело отдыхать. Мое дело…
Разбитная цыганка, уцепив пальчиками юбку с двух сторон, подбежала к ним.
– Голубки, голубки!.. – запела она, завертелась перед ними. – А если я сейчас вам, хорошие мои, погадаю!.. ручку позолотите?.. щедро позолотите – всю, всю правду скажу!..
Митя, улыбаясь, слизывая пот с усов, вытащил из кармана две стодолларовых бумажки, засунул цыганочке за корсаж. Они взвизгнула, присела. Схватила Митину руку, припала к ней губами. Митя отдернул руку. Она снова цепко, как клещ, схватила ее, перевернула ладонью вверх.
– Дмитрий Палыч, Дмитрий Палыч, – забормотала цыганка торопливо, будто сразу хотела выложить все, как на духу, – Дмитрий Палыч дорогой, не отталкивай меня, а лучше послушай меня… Вот она, линия жизни, ух, какая же сладкая жизнь у тебя будет… будешь в золоте купаться, на золоте кататься, с золота есть, на золоте спать… да не будет покоя тебе никакого от того, не будет… а про сердце что?.. вот линия сердца, вот она, прорезана глубоко, острым резцом… сколько женщин, Дмитрий Палыч, и все – твои!.. да только ни одна с тобой не останется, ни одна счастьем не станет… потому что судьба… судьба…
Цыганка, разрумянившись, отдув со лба кудрявую прядь, наклонилась ниже над растопыренной Митиной пятерней, поднесла ее к носу, чуть ли не обнюхивая. Она была за работой, цыганка, она работала, и Митя знал – нельзя ей мешать.
Шлюха Кира стояла рядом, насмешливо улыбалась, процедила сквозь зубы что-то вроде: а не пошла бы отсюда эта шарлатанка, брешут всякую чушь, а у самих на уме – только денежка, денежка за лифчиком… Митя взял цыганку за подбородок, приподнял лицо. Совсем юная, молоденькая. Глазки черные глядят серьезно, ресницы распахнуты до отказа, чуть загнуты к бровям, – у говорящих кукол бывают такие невинные глаза. Белые зубы под верхней чуть вздернутой губкой торчали, как у зайчонка, поблескивали под лучами люстр.
– Что там у меня с судьбой?.. – спросил он строго. – Говори. Не скрывай ничего. Я тебе заплатил. Говори правду.
Вот как, пронеслась у него в голове мысль, и за то, чтобы тебе говорили правду, тоже, оказывается, надо платить.
Цыганочка смотрела на него молча. Потом тряхнула головой, вырывая лицо у него из руки. Кира насмешливо выдохнула, снова берясь за бутылку:
– Ну, что ж не врешь больше?.. Ври дальше!..
Цыганка внезапно поглядела на Митю исподлобья, мрачно. Черные глаза девушки налились сплошным, смоляным мраком. Такого цвета бывает печная сажа в старых разрушенных печах. Если сажа в печи загорится – беда.
– Линия судьбы у тебя обрывается резко, дорогой, – сказала цыганка мрачно и жестко, как прокурор на суде, произносящий приговор. – Я не знаю, смерть ли это. Вот здесь обрыв – и, вижу, не из-за человека. Тебя не убьют. Верней, это не человек – тот, кто прервет твою судьбу. Но и… не зверь. – Она держала Митину руку и уже не глядела на нее. Глядела Мите прямо в глаза. Митя глядел, как часто поднималась в вырезе черного платья, расшитого алыми маками, ее юная маленькая грудь. – Я не знаю, кто это. Я вижу – обрыв… и дальше…
Он сжал ее руку.
– И дальше – пустота…
Он выпустил руку цыганки, рассмеялся. Смех вышел натянутым, ненужным. Скрипачи яростно пиликали на скрипках вокруг них, цыгане запели знаменитую: “Ой, загулял, загулял, загулял парнишка д-молодой, молодой!.. в красной рубашоночке, хорошенький такой…” Гости ресторана подсаживались к опьяневшим девочкам. Знакомились напропалую. Девочки поимели успех. Цыгане закрутились цветастым вихрем, водоворотом в новой пляске.
– Ты хочешь сказать, что я… упаду в пустоту?.. И полечу в ней, не зная, за что схватиться?..
Перед его глазами встала та ночь в Китай-городе с Ингой, когда он впервые ощутил бездну и полет в ней, и панику смерти, охватывающую все внутри, когда ты знаешь – нет опоры, нет возврата. А есть вечное паденье, ужас вечный.
Цыганка вдруг выпустила его руку, взметнула юбки, взмахнула ими, вхяла за концы платок, лежащий у нее на плечах. Ее лицо озарилось обольстительной, ярко-белозубой улыбкой, зовущей в пляс, зовущей пить и веселиться – будто она и не гадала только что Мите о судьбе.
– Полетишь, полетишь!.. – крикнула она и побежала прочь от него по залу, оглядываясь, высверкивая в него огнем глаз – так выметывает фейерверк в ночи холодные зерна щедрых искр. – Полетишь, касатик Дмитрий Палыч, на ковре-самолете полетишь!.. Клетку с жар-птицей не забудь!..
Митя попятился. А, какая же все чепуха, ересь, безумство. Живо только то, что – здесь и сейчас.
Он рванул из кармана шелестящие купюры.
Пошел по залу.
Стал весело разбрасывать зеленые бумажки по столам, на пол, кидать их в руки посетителям, в лица проституткам, и те ловили, визжа и задыхаясь, и хохотали, как умалишенные, а он все бросал деньги, все бросал, и глаза его горели нехорошим, зеленым пламенем, правильно он сделал, что запасся деньгами, идя сюда, он так и хотел, он так и задумал, его так и подмывало разбросать это все вокруг, чтоб не отягощало его карманы, чтобы деньги летели, как летят капли дождя, как летят хлопья снега, падали жаждущим, глупым людям в руки, в лица, – он сам был недавно такой же глупый, он думал: деньги, они всемогущи, они осчастливят меня, они сделаю все, что я захочу, – ан нет, деньги не могут сделать того, что они не могут никогда, и до счастья им так же далеко, как смерти – до жизни, – и он все бросал доллары, все бросал, и люди все ловили их, и люди с ума сходили от его безумья, они были оба безумны – он и мир, и он бросал миру его зеленую кость: на, лови!.. жри, ты ведь этого хочешь, мир!.. – и он сорил деньгами, как семечками, он хохотал, скаля зубы, над деньгами, над собой, над жадно ловящими их людьми, он слышал их крики: фальшивые?!.. нет?!.. с ума сошел мужик, с ума!.. – и повторял себе одними губами: да, я сошел с ума, но от меня ведь не убудет, я буду жить всю жизнь и вот так сорить баксами, и их у меня не убудет, вот в чем весь ужас, и я буду все время пировать, я буду пить вино, водку из горла, я умру на пиру, и меня, мертвого, отпоют в ресторанном зале, положат на ресторанный стол, – а купюры все летели зеленым снегом, и ошеломленный метрдотель закричал: “Может быть, “скорую” вызвать?!.. ведь он же совсем спятил, этот господин!..”
– Гуляем на все!.. – оглушительно крикнул Митя, сам чуть не оглохнув от своего крика – ему показалось, стекляшки люстры сейчас разобьются, посыплются на него. – На все гуляем!.. Эй!.. Лакей!.. Еще сюда коньяку… еще миску черной икры тащи!.. Ложками будем есть, девочки, ложками!..
На пиру во время чумы надо икру есть ложками, да, ложками.
И девочки ели.
И девочки плясали с Митей.
И мужчины валом валили к их проститутским столикам, приглашали девиц, уже втихаря уводили их в гостиничные номера, и Митя кричал: стой!.. куда вы!.. куда?!.. не троньте!.. это мои девочки, мои!.. И его принимали за сутенера, и в спину ему шипели: у, владелец подпольного борделя, мы тебя как-нибудь накроем хорошо, повытрясем из тебя доходы, обнаглели эти пройдохи до того, что в “Интурист” ужинать валят, да еще с цыганами!.. – а цыгане знай себе пели и плясали, и брякали и звучно плакали гитарные струны, и бились гитары в руках у цыганских чернобородых мужиков, как голые кричащие женщины, и цыганки вились вокруг Мити, подбегали к нему, липли к нему, обвивали его смуглыми руками, шептали ему на ухо: Дмитрий Палыч, миленький, а полюбите меня!.. а меня!.. а я что, плохая?!.. – улещали его: мы спляшем вам еще и споем, ведь долгая ночь впереди, только выбери среди нас самую красивую, самую голосистую, да с собой и уведи, ведь мы видим, все насквозь видим, ты – одинокий!.. – а он, улыбаясь, лез в нагрудный карман, в карманы джинсов, вытаскивал баксы, он ими нашпигован был, как фаршированная рыба, он все правильно рассчитал, вот и Машеньке досталось, и Глашеньке, и Радушке, и Земфире, и той, юной, что гадала ему, глядя круглыми черными испуганными глазами, о его несчастной судьбе.
А он глядел на них расширенными глазами, чувствуя, как внутри него вздымаются и опадают волны безумья, радости и боли.
– Пляши, цыгане! – Он задохнулся, и крик его прорезал густой, сладкий ресторанный воздух. – Пляши, родные! Умру с вами в пляске!.. Задохнусь… Время наше гадкое, а вы, дорогие мои, самоцветы в грязи!.. Люблю вас, люблю!..
Он кругами пошел по залу. Чернота обнимала его лицо. Перед глазами стеной вставала тьма. Он боялся, что вот-вот упадет, но не падал, а шел вперед, подхватывая под мышки визжащих цыганок. “Я безумен, – шептал он им, – я безумен, я как опия напился, но я все соображаю, я все помню, и сколько вам денег должен – тоже помню…”
Его шатнуло вбок, он вскинул глаза и увидел в бушующем море пьянки, далеко в зале, в недрах гудящего безумной цыганской оргией столичного кабака, за столиком странно знакомую черноволосую женскую голову.
Он слепо пошел на нее, протянув вперед перед собой руки. Отшвыривал ногами стулья. Сидящая за столом все приближалась, а ему казалось – она удаляется от него. Он подошел совсем близко; женщина встала и наткнулась на него, и чуть не упала через его шагнувшую вперед ногу, зацепившись за его ботинок. Она вскинула на него глаза, и он увидел близко ее лицо.
И она тоже увидела его лицо. Ее глаза натолкнулись на его глаза. Все ее раскосое, изжелта-смуглое восточное лицо высветилось мгновенной ненавистью, узнаваньем, испугом, праздником. Сколько лет прошло?.. А, совсем немного. Жизнь тоже маленькая. И мы сами маленькие в ней. Алмазики в короне Бога-Царя.
Он глядел на нее, как коршун глядит из поднебесья на зайца, чтобы через миг броситься вниз. Улыбка тронула его губы под черными волчьими усами. Черные поседелые пряди нефтью текли вдоль щек. А она, чьи черные смоляные волосы раньше висели свободно вдоль лица, мотались по плечам и по спине, теперь убрала свои черные космы на затылок, в аккуратный траурный пучок, закутала сеткой, усаженной черными жемчугами. Она смотрела на него пристально и победительно. И через годы она была его владычицей. Она не сдавалась ему. Она никогда, никогда не принадлежала ему.
Он убрал выставленную вперед ногу из-под ее ноги. Она усмехнулась. Ресторанные люстры заливали их медовым и молочным светом.
– Иезавель!
Она повела плечом так, как делала это раньше, когда сидела на грязном коммунальном полу в неизменной позе лотоса.
– А ты совсем не изменился, Митя. Так… чуть-чуть. Ты все еще художник?..
– Я сапожник, – сказал он мрачно, пожирая ее глазами, как хороший антрекот. – Я цыган. Я бродячий актер. Я рыдаю, а за слезу мне бросают копеечку. Откуда ты тут?.. Впрочем… какие лишние вопросы я задаю…
Она отступила на шаг. Показала рукой на рыжего лохматого человека за столом, подавшегося вперед всем мощным торсом, уперевшего локти в столешницу; он глядел на них из-под очков, небрежно, как стрекоза, сидящих на вздернутом веснушчатом носу, с плохо скрываемым любопытством. Где, когда Митя видел это лицо?!
– Мой муж, американский бизнесмен, крупный предприниматель, известный галерист, глава всей антикварной кодлы Америки, ха-ха, один из сенаторов Белого Дома, Юджин Фостер. Прошу любить и жаловать.
Фостер, как рыжий медведь, увалень, тяжело, смущаясь, выпростался из-за стола. Протянул Мите руку. О, какое крепкое пожатье. Со времени парижского Филипса он заметно растолстел, укрупнился. Такую дылду если развезет – получится невероятный громила. Худая высокая Иезавель в сравненьи с верзилой-мужем выглядела болотной тростиночкой.
Неужели это она, беднячка Иезавель, когда-то сидела на голом полу, вся голая, закрывшись лишь смоляными прядями, в позе вечного лотоса, медитируя, забывая обо всем, уходя далеко за облака, накачавшись бурятскими наркотическими шариками?
Она, выходит, тоже сделала карьеру. Всяк человек делает карьеру. Кто-то делает карьеру наоборот: спит на мраморе вокзалов, укрывается дерюгой. Кто-то – едет в Нью-Йорк и спит в собственных апартаментах на Пятой авеню, укрываясь одеялом из гагачьего пуха. А в сущности, каждый спит и видит сны. И больше ничего.
– Юджин!..
– Дмитрий.
– Велли, это твой друг, я понял!.. о, вы покровитель цыган… Велли, пригласи твоего приятеля поболтать к нам в гостиничный номер!.. Мы остановились прямо тут, в “Интуристе”, не надо никуда ехать, только подняться в лифте на девятый этаж… продолжим там?.. – Фостер подмигнул Мите, заправил за ухо грубыми пальцами рыжую прядь. – Что пьете?.. виски, мартини?.. Велли, что ты молчишь как рыба, ты лучше знаешь вкусы… твоего друга!..
Фостер прекрасно говорил по-русски. Ого, да ты парень не промах, подумал Митя, ты сразу раскусил, что твоя Велли встретила тут, в Москве, никакого не друга, а бывшего любовника. Будь спокоен, муж, мне Иезавель нужна, как собаке пятая нога. Правда, интересная встреча. Вот никогда бы не подумал.
Цыгане, раскачиваясь, пели рядом со столом Юджина “Невечернюю”. Ночь только начиналась. Веселье было в разгаре. Проститутки плясали с посетителями, исчезали за дверью ресторана с клиентами. Митя внимательно поглядел на Иезавель. Ее буддийское скуластое лицо было бестрепетно, как всегда.
– И виски, и джин, и мартини, и все что хотите, – сказал Митя жестко, отчетливо. – Иезавель знает – я не привередливый. Когда-то мы с ней глушили и самую дешевую водку из горла, запивая восточные шарики, вызывающие виденья. Мы оба любили галлюцинации, не правда ли, Иезавель?..
– Идиот, – сказала она бесстрастно, изобразив подобье улыбки. – Ты все такой же идиот, Митя. Юджин, он очень забавен. Пошли все к нам в номер. Юджин, он может быть очень полезен тебе, он художник, у него есть картины, неплохие картины, ты можешь его запросто выставить в “Залман-гэллери” и вообще где хочешь.
Фостер не отрывал от него взгляда.
“Я тебя где-то видел, парень”, – говорили Мите его желтые, как у тигра, глаза из-под очков.
“Я тебя тоже, кореш, – взглядом отвечал Митя. – И ты прекрасно знаешь, где”.
Фостер вздохнул. Протянул Мите руку.
– Ваше лицо мне знакомо, – пробормотал он. – Но не помню ничего. Сколько лиц промелькнуло перед одним моим лицом. Толпы народу, как это, Велли?.. без-дна… Я точно видел вас… вы никогда не бывали в Америке?.. по-моему, на Лексингтон-авеню, на одной мощной тусовке у моего друга Кэндида, когда он делал вернисаж… нет?..
Иезавель встала первой. Она никогда не любила ждать. Он помнил, как она выгоняла его из каморки, когда он надоедал ей. Она пошла к выходу, проламывалась сквозь пляшущих и поющих цыган, и цыганки накидывали ей на плечи бумажные цветы, и обматывали ее платками, и, когда Митя с Юджином встали из-за стола и пошли следом за Иезавелью, цыганка, гадавшая Мите, крикнула им вдогон: “Берегись рыжих!.. Не водись с рыжими!..” – и Митя оглянулся, и увидел – проститутка Кира, с начесанным коком надо лбом, стоит у замызганного, заставленного тарелками с недоеденными блюдами, грязного, с кровавыми винными пятнами на скатерти, стола, глядит на него, и тушь ползет у нее по щекам вперемешку с медленными, прощальными слезами.
КРУГ ШЕСТОЙ. НЕНАВИСТЬ
Они сидели в номере в мягких креслах, Иезавель – закинув ногу за ногу, курили хорошие американские сигареты, медленно тянули из рюмочек виски “Scott”, перебрасывались ленивыми словами, делая вид, что устали, что немного пьяные и расслабились, а на деле – внимательно, навострив уши, слушая друг друга, запоминая, что к чему, прикидывая – может ли тот, другой, быть мне полезен, или он опасен для меня. Юджин курил красиво, откидывая голову, как Ричард Гир. Ай да муженька отхватила подлая лимитчица. Он всегда знал, что Иезавель – баба оторви и брось. И где только она его зацапала. Ведь никуда никогда не ходила, стерва, только сидела, скрестив коричневые ноги, да лежала на прогрызенных мышами матрацах. Дядюшка Случай! Митя, потягивая виски, слушал Фостера. Фостер – Митю. Иезавель слушала их обоих, с виду небрежно, презрительно куря, разгоняя дым рукой.
– Я устраиваю достаточно масштабные выставки в Америке, Дмитрий, – Фостер стряхнул пепел в пепельницу-кораблик. – Мои политические деяния – это моя повинность… поденная работа, так, Велли?.. а художество, а художники – это мое хобби, это… ну, как это… это моя свободная душа. Я испытываю наслажденье просто от вида картин, висящих на стене. – Он смотрел на Митю в упор и не узнавал его. Будто бы Филипс был в прошлом веке. – Потом, я делаю на них деньги. Я раскручиваю художника так, что он приносит мне большие деньги. С малой рекламой я был не стал и возиться. Я никогда не мелочусь. Если я приобретаю что-то – я приобретаю классную вещь, будь то старая работа или современный автор. Если я продаю художника – он уже разрекламирован, и я запрашиваю за его живопись очень высокую цену. Ну, например, недавно я на Манхэттене, в “Залман-гэллери”, продал Джорджа Эллиса за… м-м-м, сейчас вспомню… за три миллиона двести тысяч долларов! Это совсем неплохо для современного художника! За такие цены покупают старых мастеров!
Да, старых мастеров, притом с аукционов. А Юджин так умеет развернуть рекламную кампанию, что на ныне живущего и даже еще молодого художника покупатели набрасываются так, как если б он был Питер Брейгель-старший или сам Рафаэль.
Реклама! Всесильный бог, реклама. Что за черт, если б его мазню кто-нибудь мог вот так подать, он давным-давно был бы…
А тебе не нравится тот способ, каким ты разбогател? А чем этот способ лучше или хуже других способов?
Так распорядилась жизнь. Ее новый виток интересен. Гляди не упусти эту рыжую американскую акулу. Надень на нее поводок. Сенатор, мать его. Галерист краснорожий. Сам, небось, в искусстве ни черта не смыслит, зато в деланьи денег смыслит лучше некуда.
Митя тоже постучал пальцем по сигарете над пепельницей. Усмехнулся понимающе: мол, знаем мы все эти штучки, я-то тоже не лыком шит.
– У нас, в Москве, современный художник может продать в галере свою работу за тысячу, ну, две, три тысячи баксов. Пять – уже суперцена. За такие цены здесь никто живопись не покупает.
Юджин стрельнул в него глазами. Подлил в рюмку еще виски.
– Значит, мое предложенье вас в некотором роде осчастливит?..
Митя потупился, как красная девица. Отпил из рюмки.
– Благодарю. Я подумаю. Я не…
Он хотел сказать еще раз эту сакраментальную фразу: “Я не художник”, – еще немного пококетничать, набить себе цену, как Юджин немедленно замахал руками, закорчил негодующие рожи, все веснушки на его конопатом лице зашевелились, затанцевали:
– О, вы просто скромный слишком, Дмитрий!.. Я же вижу, вы – художник!.. О, вы художник, мне даже не надо смотреть ваши работы, я вместо работ вижу вас, и я немного психолог, я видел массу разных людей, я работаю с людьми, и я догадываюсь, что именно вы – художник! Я уже вижу мысленно, представляю ваши работы… Я сделаю вам выставку в Мома-музеуме… в Центре современной русской культуры у Александра Глезера!.. Александр – мой давний друг, я помогал ему деньгами, помещеньями, я выставлял у себя его русских авангардных авторов, и это я познакомил Сашу с Бертом Чандлером, мэром Джерси-Сити, и его коллекция русского авангарда в Америке обрела статус муниципального музея!.. Вы не представляете мои выходы на людей, мои возможности!.. Я предлагаю вам невиданный разворот вашего искусства, а вы… еще и упираетесь!.. У-пи-ра-етесь – так, Велли, это будет по-русски?.. ну, когда человек – упрямец…
Митя осушил рюмку до дна. Странно, чем он больше пил, тем больше у него прояснялось в голове. Он чувствовал, как он чуть выныривает из безумья. Он же художник. Он художник, как он об этом мог забыть. И ему предлагают вынырнуть окончательно, выбраться на берег.
Он же погибнет здесь, в Москве, живя той жизнью, которой жил в последнее время. Он потонет в отчаянье, и никакие цыгане, никакие водки и вина, что он вливает себе в глотку, никакие помощи ночлежкам и больницам не спасут его. Его мертвецы приходят к нему и мучают его. Они доконают его.
Он должен спастись. Он возобновит занятья живописью, подготовит выставку, полетит в Америку. Он прославится. Он заработает имя, славу, деньги самим собой, своим собственным трудом, искусством. Боже, он отработает все. Он смоет с себя всю черноту, весь ужас. Он обелится. Господи, как это прекрасно, что Ты послал ему Юджина!
– Делайте выставку – и летите!.. Я сделаю вам вызов хоть завтра!.. Можем вместе пойти в посольство, у меня там все послы – друзья, можем прямо к Джону Фэрфаксу отправиться, он сделает вам визу сразу на год, на десять лет…
Юджин развеселился, раскраснелся. Иезавель молча смотрела в ночное окно, В стекло, как огромная белая бабочка, билась метель.
– У меня сейчас в Нью-Йорке, – выдавил Митя смущенно, как школьник, – мой приемный отец, Эмиль Дьяконов… Он живет в самом Нью-Йорке, в Центре… снимает там квартиру… а может, он уже ее и приобрел… По крайней мере, он всегда останавливается на Бродвее, напротив “Хилтона”… Мы можем ему сейчас позвонить, посвятить его в наши планы…
Фостер бросил в пепельницу сигарету. Его лицо просияло, будто он нашел клад.
– О, Дьяконов?! – Он выкрикнул это так громко, будто звал самого Дьяконова через стену, из соседнего номера. – Так что ж вы… так что ж ты раньше не сказал! Мистер Эмиль – мой большой друг! Мы вместе с ним решаем совместные финансовые дела по двум нашим странам… копаемся во всех банковских проблемах… а потом, я же у него на Филипсе картину купил, очень классного Тенирса, это просто мировое открытие, какая работа, пол-Америки уже у меня дома на нее посмотрело, Велли советует – отдай в музей, тебя убьют, ограбят… полистине бесценная вещь, за нее не жалко было тех денег, что я во Франции отдал!..
Вот как. Оказывается, у Эмиля он картину купил. Не у него. Его рассеянный покупатель прочно подзабыл. Что значит власть и властители. Хоть ты и богач, Митя, а все равно не властелин. Не тот имидж у тебя, дружок. Как ты ни вылезай из кожи – не тот.
– Ты вообще соришь деньгами, Юджин, – холодно произнесла Иезавель. – Картина хороша, ну и что. Лучше бы я для детей купила ту виллу во Флориде. Это было бы гораздо практичнее.
Вот как. Романтичная бурятская наркоманка стала практичной американкой. Неисповедимы пути Твои, Господи.
– Ты еще увидишь эту работу у меня в Нью-Йорке… грандиозная вещь!.. “Изгнание из Рая” называется… Вся сияет, просто как драгоценный камень!.. Настоящий брильянт в мировой живописи!.. Я чувствую себя просто владельцем целого “Метрополитен-музеума”, когда эта работа – у меня!.. она написана маслом на меди, ты представляешь?!..
Митя побледнел.
– Еще виски… пожалуйста.
Иезавель, пристально глядя на него, плеснула ему виски в рюмку.
– Ну что, звоним Эмилю?!.. ты знаешь…
Фостер осекся. Пожал плечами. Извинительно поглядел на Митю.
– По-моему, вы уже перешли на “ты”, Юджин, – сказала Иезавель. Зевнула. – Митя, нет смысла тебе сейчас ехать домой. Мы постелим тебе у нас в номере. Вон еще одна кровать, видишь. Не рассчитывай, шведскую семью или секс втроем тебе тут никто показывать не собирается. Все, я ложусь, я устала. Обсуждайте свои чертовы картины и выставки сколько хотите, хоть до утра.
… … …
Какая ты, Америка, оказывается. Ты совсем не страшная. Ты совсем не Иная Планета, как ему представлялось.
Хотя вдоль по Нью-Йорку и гуляет запах сырой пустоты.
Океан рядом.
Серые, стеклянные, пегие стены небоскребов, упирающихся в зенит.
А зима здесь теплая. Здесь нету зимы. В январе – рубаха нараспашку. Хоть в шортах ходи.
О Америка, какая же ты жадная, какая стремительная! Люди бегут по авеню в нарядных тряпках, едут в лаковых машинах – а рядом, скорчившись на лавке, бездомный негр жует сэндвич, едва не давясь, жадно, быстро: может, украл еду, стащил с лотка, пока продавщица зазевалась.
На чисто вымытом тротуаре – кусок собачьего дерьма.
И профессор-медик, что в России вещал с кафедры о глазных болезнях, здесь, не изучив языка, здесь работает таксистом, как и все поколения русских эмигрантов в прошедшем, канувшем в вечность двадцатом веке.
Он хорошо перенес перелет. Самолет шведской авиакомпании “Корона” садился в Лондоне – время перелета увеличилось, а в Лондоне из самолета почему-то никого не выпустили – террористов, что ли, боялись?.. или чего другого?..
Митя, развалившись в кресле, охотно брал жареных кур, вафли, вино, соки с подноса в руках изумительно хорошенькой стюардессы. Вот бы написать ее портрет, думал он, провожая изящную фигурку глазами. Говори прямо, Митя, вот бы ее где-нибудь в темноте и в тишине повалить на пол и задрать ей юбку. Почему ты себе-то лжешь. Себе-то хоть не лги.
Он вез в Нью-Йорк свои работы – он все-таки приготовил в Москве выставку. Какую? Что это были за работы? Какого живописного уровня, какого класса? Самоделки? Талантливые вещи? Бездарная мазня?
Фостер действовал по принципу: дареному коню в зубы не смотрят. Он сам пригласил Митю и сам рисковал. Остальное его не интересовало. Он знал твердо: успех на восемьдесят процентов решает хорошая реклама. А остальное – талант, красота, необычность, личность – это все завитушки, виньетки. По большому счету, их может даже не быть. Фостер раскручивал таких дуболомов, что за их пачкотню не дал бы и ломаного цента никакой мало-мальски уважающий себя коллекционер.
А покупатели с толстой мошной вываливали за это дерьмо тысячи, сотни тысяч.
Митя был спокоен, как слон. Он знал: дело не в его работах. Дело в самом действии, в самой акции. Он делает выставку в “Залман-гэллери” – Фостер ее продает. И берет себе процент. Шестьдесят, семьдесят процентов с продажи. Так делают здесь, в Америке. Юджин ему все объяснил. Это очень выгодно для галериста.
Митя попотел в Москве, малюя работы, закрашивая натянутые на подрамники холсты, а потом, высушив, снимал их с подрамников и скручивал в рулоны – чтобы легче было транспортировать, заталкивать в самолетный багаж.
Когда они приземлились в Нью-Йорке, прощаясь с хорошенькой бортпроводницей, он улыбнулся ей. Она улыбнулась ему. Может, встретимся еще, красавец бой, чао. Он перед отлетом постригся, побрился, приобрел вполне респектабельный вид.
Эмиль был извещен о приезде, встречал его в аэропорту. Юджин и слушать не захотел о том, чтобы Митя остановился на Бродвее, у Эмиля. “Нет, нет – только у нас, у меня!.. Он мне будет нужен в любую минуту… Сейчас предстоит самое сложное – перевозка работ в галерею, натягиванье их на подрамники, развеска… О, Эмиль, это такая – ты не представляешь!.. – Велли, как это по-русски?.. – а, ка-ни-тель…”
Сырой воздух, сырое дыханье огромного зверя, невидимого океана.
Серые камни Нью-Йорка.
Небоскребы – как вздетые в небо гигантские бушприты старых кораблей.
Кто сюда приплыл первым?.. Колумб?.. Иезавель сказала, что Америку в девятом веке открыл норвежец Эрик Рыжий, он плавал сюда на своих ладьях, и потом уплыл обратно – ни к чему ему была чужая земля, и, должно быть, их корабли разбило о скалы, Эрик так и погиб в море. Все мы плывем через море. Все мы плывем через время.
Митя широко, по-американски, улыбался Юджину, Иезавели, кушая у них дома с красивых, просто музейных тарелок, разговаривая на ломаной смеси русского и английского с их тремя раскосыми ребятишками, катающимися у них под ногами, словно кегельные шары. Детки были мал мала меньше. Иезавель рожала погодков, сейчас, видимо, взяла у мужа тайм-аут. В Америке в богатой семье принято иметь много детей. Четверых, пятерых… Девочка и два мальчика, совсем неплохо. Мальчики были черненькие, девочка – рыженькая. У всех по-бурятски косили глаза.
Дом – полная чаша, недурно устроилась злая бурятка. Он наблюдал за Иезавелью тайком. В Америке, замужем за сенатором и знаменитым галеристом, она немного подобрела. Некогда злиться-то, знай ухаживай за детьми – ребятишки отнимали много времени, а Иезавель не полагалась на нянек и кухарок, хотя и те, и другие водились в большом богатом доме. Она отлично болтала по-английски, пела английские песенки, отчитывала прислугу, виртуозно ругалась, если кто-то из ребят пачкал землей чистенький костюмчик или стрелял в воробьев из рогатки. Девочка, Полли, увлекалась вышиваньем. В ее спаленке стояли пяльцы, рамки с натянутыми вышивками, она все время посасывала исколотые иголкой пальчики. Некоторые из вышивок были настоящими произведеньями искусства. “Как монахиня в монастыре, – подумал Митя, рассматривая изделья Полли – пышный алый пион, сказочный золотой город в летящих пухлых облаках. – Юджин через несколько лет и на поделках дочери сделает роскошный бизнес. Он все пустит в дело”.
Митя немного пошатался по Нью-Йорку, порассматривал город, людей.
Город как город, люди как люди. Не лучше и не странней, чем в Москве.
Много негров, цветных, раскосых. Вавилонское смешенье языков, лиц, нравов.
Каждый сохраняет свою неповторимость; Митя забредал в китайский квартал – Чайна-таун, в Итальянский квартал, в негритянский Гарлем, и в Гарлеме том тоже не было ничего особенного, ничего пугающего и бандитского – зданья как зданья, люди как люди. Все это легенды, про убийства, про кровожадность, про грабежи и насилия. Их в Нью-Йорке ничуть не больше и не меньше, чем в любом городе мира – в Москве, в Венеции, в Иркутске, в Шанхае.
Он остановился, гуляя по Гарлему, перед кучкой молодых ребят-негритят, окруживших худого, глазастого паренька-негра, с вывороченными, толстыми губами. Парень прижимал к груди что-то, что толпичка его друзей – или недругов – как видно, пыталась у него отнять. Митя не знал языка, не мог пацану ничем помочь. Один из окруживших мальчика внезапно ударил его кулаком по лицу. Мальчонка пошатнулся и упал. Из его рук вылетел голубь. Белый голубь, с раздутым зобом, с махровыми белыми, как хризантемы, крыльями. Голубь взмахнул крыльями и быстро взлетел ввысь. Мальчишки задрали головы. Следили за птицей. Провожали глазами. Ударенный черный мальчик лежал на камнях, закрывая голову руками. Парни попятились. Развернулись. Гурьбой побежали прочь.
Свернутые в рулоны холсты были перевезены на Манхэттен, в галерею. Митя, оказавшись наедине со своими наспех намалеванными работами, растерялся. Он, развернув рулоны, долго смотрел на них, потирая лоб, тиская подбородок. “Все это самопал, бодяга, – сказал он сам себе, с тоской глядя на потеки ярко-желтой, багряно-красной краски по черному, по зеленому фону, – ну да ладно. Я переживу. Юджин дурак. Он думает, что это авангард. Если б сюда вдруг заявился Шемякин или, к примеру, Игорь Снегур, они бы не задумываясь дали мне по шапке. Это не живопись. Это просто краска размазана по холсту… ну да наплевать! Сделаю вид, что я художник. Не буду расстраивать Фостеров. Они и так чересчур любезны со мной”.
Он сколачивал подрамники, потея, напрягая мышцы. Ему помогал любопытный мальчик-негритенок, которого Юджин приставил к нему – с целым ящиком гвоздей, плоскогубцев, отверток, молотков, скотча, с вязанкой реек и багета для оформленья. Все это Юджин купил моментально в ближайшем маркете, сунул негритенку: “Help!” Митя сосредоточенно колотил молотком по рейкам, по подрамникам. Подрамники пахли упоительно – славное было дерево, ель, может быть; похоже на ель. Из такого дерева мастера делают скрипки, и они поют.
Он бил и колотил по деревяшкам в пустынных залах галереи допоздна. Ночь спустилась. Митя лазил по стенам, развешивал работы. В полночь заявился Юджин с бутылкой джина и тостами, с сеткой испанских апельсинов. Они выпили джин, съели апельсины, разбросали по залу апельсиновые шкурки, Митя кричал: “Инсталляция!..”
Когда Фостер спросил его: долго ты тут еще будешь валандаться?.. – Митя сказал обреченно: пока все не развешу, отсюда не выйду. Заночую тут. Ну что ж, ха-ха, хохотнул Фостер, может, пара крыс к тебе и забредет на огонек, вон там, в каморке, возьми надувной матрац, на подоконнике пачка крекера и банка пива, если вдруг захочешь жрать и пить. Не переутомись!.. ведь завтра открытие… Первая твоя персональная выставка в Америке, артист, ты чувствуешь?!.. тебе надо быть завтра во всеоружии, блистать!.. ты же не знаешь, что такое открытие выставки в Нью-Йорке, на Манхэттене!.. это полный блеск, старик, ты запомнишь это на всю жизнь… Я пригласил на вернисаж всех своих друзей из Белого Дома…
Митя покивал головой: да, да, – рассеянно улыбнулся. Юджин смылся. Митя снова пододвинул стул к стене, полез вешать новый холст. Повесил, спрыгнул, отошел. Сложил пальцы в трубочку, рассматривая полотно. Черная хмарь, черно-красные тучи несутся по небу; холм, похожий на череп, кругло-пологий, на холме – черный крест. И ослепительно-белый ангел, парящий в небе с белой Судной трубой. Он не назвал эту картину. Ко всем остальным он худо ли, бедно, прицепил названья. Как он назовет эту?.. “Новая Голгофа”?.. “Искупление”?.. А, плевать. Завтра Юджин придет – назовет с ходу.
Юджин умный. Умней его. Или он Папашу прижмет. У них у всех мозги варят. А у него уже съехал чердак совсем. Все, basta cosi, stupido, как сказали бы в Венеции. Пора бай-бай. Наломался он, будто дрова рубил. Он включил в зале весь свет, все люстры под высоким потолком, все софиты, висящие напротив картин, и обозрел плоды трудов своих.
Н-да, если это подсвечено вкусно-стильно, то и смотрится, в целом, неплохо. Зря он так себя честил. Дмитрий Морозов может пригласить на презентацию и Михаила Шемякина, и Эрнста Неизвестного. Ну, любопытный Саша Глезер, везде вылавливающий новых русских авангардистов, непременно придет, Юджин уже радостно сообщил ему об этом. Следующая выставка – у Глезера, это решено. И Эмиля заставят выступать на презентации от имени всея России. Чуть ли не Президента пригласили. На его-то бестолковые мазюльки!.. “Вот так делается высокое искусство”, – подумал он высокопарно и шутовски, оглядывая экспозицию. Махнул рукой. Цапнул с подоконника банку с пивом, присосался к ней. Фу, теплое, противное, пенистое, как шампунь. Наше, русское, куда лучше.
Ага, матрац!.. Митя, напыжив щеки, надувал его целый час. Надув, бросился на него, как в море, застыл, замер, вытянувшись. О-о, как болят руки, мышцы спины. Все, спать. Ему ли привыкать спать во всей амуниции, в джинсах, без подушки. Там, у дворников… Он вспомнил, как безумно, сумасшедше спал все последние месяцы в своем доме в Гранатном: кидаясь прямо на одеяло, не расстилая постель, при всех включенных люстрах и бра, а то и прямо на полу, трясясь от холода, подгибая колени к подбородку – чтобы холод выгнал из него безумье, страх, череду видений. Слава Богу, Юджин вынул его из этого черного бочонка. Того гляди, он опять станет человеком. Уф… до чего здесь холодно, в галерее, топят плохо… накрыться бы чем-нибудь тепленьким…
Он встал, притащил куртку, накрылся ею, снова лег. Тишина. Поскрипыванье паркета под матрацем. Посчитать, что ли, слонов, чтобы заснуть?.. Еще одна ночь в Америке… Если он захочет, он может купить себе дом на Бродвее. А пошла она, эта Америка. Все равно в Москве лучше. Привык он к Москве. Потом, здесь цыган… нету…
Ему долго не спалось – он мерз, дрожал от холода, потом, наконец, стал задремывать. Сквозь сон он услышал – шаги.
Кто-то крался к нему по паркету зала.
Его веки отяжелели. Он не мог их поднять.
“Черт, мне это все снится, откуда тут бандиты, здесь же сигнализация, – смутно, сонно подумалось ему, – надо спать, не надо поднимать головы…”
Он и не смог поднять головы. Чьи-то властные руки вмялись в его плечи, пригвоздили его к резиновой увлажнившейся под ним ткани. Он забился под чужими сильными руками, Попытался сбросить их. Не смог. С усильем разлепил глаза. Веки поднялись, как чугунные. Рядом со своим лицом он увидел розовое женское лицо. Рыже-красные кудри свешивались с висков женщины ему на щеки. Ее губы торжествующе улыбались. Зеленые глаза сияли нестерпимо в кромешной темноте. Она была в черной узкой маске – тонкой бархатной полосочке, прикрывавшей ее брови и подглазья. Митя помотал головой. Виденье не исчезало.
– Здравствуй, Митенька, – губы виденья шевельнулись, дрогнули. Улыбка обнажила блестящий жемчуг ровных зубов. – Вот ты и до Америки добрался. Художником прикидываешься. Да ты-то прекрасно знаешь, что не художник ты. Ты никто. Ты дрянь. Да, ты дрянь. Так будь же дрянью до конца. Сделай здесь, в Нью-Йорке, то, для чего ты сюда приехал.
Он задергался под ней. Она навалилась на него всем горячим, жадным женским телом. Она была в одежде, в том черном шерстяном тонком платье, в котором была в Венеции – а ему казалось, что она без одежды.
– Пусти меня!.. ты…
Она смеялась.
– Ты же так всегда хотел меня, Митенька. Всегда, всегда. Ты же просто не мог без меня жить. Ты только прикидывался, что можешь жить без меня. Без меня ты начал сходить с ума. Я же знаю. Ты пичкал себя всеми возможными лекарствами. Но меня не позвал. А я – вот она. Сама пришла.
– Уйди!.. – хрипло вскрикнул он. Она продолжала смеяться – тихо, вкрадчиво, почти беззвучно.
– Я тебя совращу, – прошептала она. – Ты же все равно мой, Митенька. И только мой. Я твой вечный соблазн, и тебе от меня не уйти. Ты же хочешь поцеловать меня. Поцелуй меня. Возьми меня. И я возьму тебя.
Она дернула плечом, стащила вниз податливое вязаное платье. Под платьем у нее ничего не было. Голое, нежно сияющее тело было так прекрасно, что Митя задохнулся от восторга. Он покрыл поцелуями ее грудь. Нашел губами сосок, прильнул. Она обняла его ногами, просунула руку ему под шею, сильнее прижимая его лицо к себе.
– Ах ты, мой котеночек, – ее насмешливое воркованье жгло, испепеляло его. – Да, вот так целуй, и еще, и еще. Я люблю, когда ты меня целуешь. Ну, входи в меня, ибо я, я – врата твои.
Она стоя на коленях над ним, раздвинула ноги, расстегнула его джинсы, и он со стоном проник в нее, задыхаясь, мгновенно ужасаясь – как плотно, крепко ее жадное чрево обхватило его, будто жадные, сосущие губы. Она стала медленно, нежно двигаться на нем, прижиматься к нему животом; положила руку ему на губы, когда он хотел что-то сказать.
– Молчи. Я сама тебе скажу. Тебе сладко со мной?.. И сладко будет всегда. Потому что ты продался мне. Ты пошел за мной, когда я поманила тебя. Я приказала тебе – и ты пошел. Ты ведь мог отказаться. Ты уже убил однажды. Ты уже сошел с ума. На твоих картинах – схожденье с ума. Поэтому убей еще раз. Сумасшедшему все спишется с рук. Убей и сделай деньги. Новые деньги. Сделай себе такие последние деньги, чтобы тебе не пришлось больше ни о чем думать никогда. Убей их обоих.
Она сильнее задвигалась на нем. Он застонал от наслажденья.
– Ты ведь за этим сюда прилетел. Только не хочешь себе сознаваться в этом.
Он ударял в нее снизу всем телом, изголодавшимся по женщине, по любви. Сбросил ее руку с губ.
– Нет!.. Не за этим!..
– За этим, – улыбка изогнутого розового рта была неуничтожимой. Улыбка давила его и душила. Улыбка втыкалась в него ножом. – Ты приехал за этим. Ты хотел этого все время. С тех пор, как ты понял, что это Юджин Фостер и что картина у него. Ты сейчас пойдешь и убьешь их обоих. Сейчас. Пока ночь. Пока темно. И все спят.
– И… Иезавель?!..
Его страшный крик отдался под гулкими сводами залов “Залман-гэллери”.
– На детишек, трус, у тебя рука не поднимется. Хотя… если б ты был совсем мой, ты бы смог… Беда в том, что ты еще не целиком мой… Ты борешься… Ты читаешь вслух книжки, которые тебе не надо читать… Сейчас я возьму тебя, и ступай. Ступа-а-ай!
Она выгнулась на нем, задрожала, ее губы раздвинулись, между зубами показался розовый дрожащий язык. Он, сходя с ума окончательно, вонзился в нее, как кинжал, по рукоять, забился, ослеп и оглох на миг.
Когда он очнулся, в зале никого не было. Он сам лежал поперек матраца, из которого вышел весь воздух, и паркет холодил его голые ягодицы. Приспущенные джинсы смешно болтались на щиколотках. Обессиленный уд, искусанные губы. Он привскочил, натянул штаны. Обхватил руками гудящую голову. Спятил, он совсем спятил. Какая чернота. Какая темень у него в башке. Как страшно то, что он сейчас сделает. Ведь она, живая или виденье, сказала ему сейчас его правду. Правду, ничего, кроме правды.
У Юджина Фостера квартира располагалась на двадцатом этаже – такой же был у Мити когда-то в Москве, когда он жил в высотке на площади Восстанья. Митя добрался от галереи домой к Фостеру быстро, очень быстро. Все было рядом. Это был все тот же Манхэттен. Митя хорошо запомнил дорогу. Юджин дал ему ключ, чтобы Митя мог уходить и приходить когда угодно, не ставя в зависимость хозяев.
Он октрыл дверь своим ключом и прокрался в квартиру. Двухъярусная квартира, двенадцать комнат. И еще особняк в Вашингтоне – Иезавель ему сказала уже. Так и должен жить сенатор. Он тоже так будет жить. Она же сказала сегодня ночью: последние деньги. Ты заработаешь сейчас себе последние деньги. Не теряйся.
Пробираясь через гостиную, увешанную работами современных живописцев и холстами стариков, он поискал глазами своего Тенирса. Нашел. Видишь, ты уже думаешь о нем: МОЙ Тенирс. Это так и есть. Не посягай никто на его добро. Эта картина суждена ему. Она суждена ему по жизни. Она будет суждена ему после смерти. Может, он, украв ее вновь, насмотрится на нее и напишет такую же, еще лучше. И прославится. И тоже, как Тенирс, не умрет.
Чем он убьет Фостера?.. Ах, да. Он и не подумал об орудии убийства. Какой же он растяпа. Револьвера у него нет. Искать оружие в столах, в ящиках у хозяина?.. Глупо. Грохот, треск, все проснутся, дети заплачут. Он огляделся. На стене висела превосходная гитара. На ней было натянуто, вместо шести, двенадцать струн. Внутри белела надпись: “Cremona”. Он сдернул гитару с крючка, оторвал струну. Отличная удавка. Лучше не придумать. На этой гитаре Иезавель бряцала, пела ему русские песни, старинные романсы – ностальгический момент, – аккомпанируя себе, слабо подыгрывая: она знала всего три, четыре аккорда, смущалась. Господи, Иезавель играет на гитаре. Если б кто ему в Москве, тогда, в дворницких коммуналках, об этом сказал, он бы похохотал вволю.
У супругов было по отдельной спальне. Интересно, сегодня они спят отдельно… или – вместе?.. Он знал, где находится спальня Юджина – он безошибочно толкнул ее дверь. Он сразу увидел спящего Фостера. Обе его руки мирно лежали поверх зеленого атласного одеяла. Он спал сладко, слегка похрапывал. Ну, Митя, хоть ты и специалист, а все же как это трудно – убить человека. Особенно спящего. Безоружного. Того, который не защищается. И не знает ничего о смерти своей.
Может быть, это хорошо, что не знает. Так ему легче.
Он тихо подкрался к постели. С носка на пятку, священный танец убийцы. Неслышный, нежный. Протянул руки с гитарной струной в них. Шея Юджина была вся наружу – души не хочу. Он накинул металлическую удавку; Юджин всхрапнул, вскрикнул, просыпаясь, Митя уже давил, душил, заведя оба конца струны за затылок Юджина, упав на него, придавливая к постели всей тяжестью. Как медленно человек умирает. Как долго. Пот тек по вискам Мити. Он держал удавку, затягивая ее на шее сенатора, до тех пор, пока его тело под ним не перестало биться и дергаться.
Все. Кончено. Он встал. Отшатнулся от кровати. Отер пот с лица обеими руками. Рыжие веснушки на носу у мертвого Юджина побледнели. Глаза выкатились из орбит. Рот так и остался распяленным в беззвучном крике – а зубы у Фостера оказались длинными, как у лошади, в живой улыбке это было незаметно. Митя сам оскалился, повторяя улыбку мертвеца. Похоже?! Он кинул взгляд в зеркало спальни. Нисколько не похоже. Теперь – Иезавель.
Иезавель. Ну, это стервоза еще та. Он-то помнит это.
С ней придется помучиться.
Он неслышно выскользнул из спальни Юджина и пошел по белой крашеногй деревянной лестнице наверх, на второй ярус. Там располагалась спаленка Иезавели, а рядом были обе детские – Полли и мальчиков. Митя, войдя в спальню Иезавели, сперва растерялся: а где же кровать?.. У Иезавели в спальне не было кровати. Она спала на полу, как истая степнячка, бурятка, монголка – на коврах, на верблюжьей кошме, по-кочевому, по-аратски. Ее голова лежала на жесткой коровьей шкуре.
Да, кровь никуда не денешь. Кровь всегда возьмет свое.
Здесь, в Америке, надменная азиатка попыталась создать себе иллюзию степи, хоть маленький островок своего родного безбрежного кочевья, стука копыт и скрипа древних колес, звучавших у нее в горячей крови. Она спала, отбросив одеяло. Она была совершенно голая. Никаких сорочек, рубашек и кружев. Дикое смуглое коричневое тело Иезавели. Как он желал его когда-то. Как он бесился, когда он желал ее, а она не допускала его к себе. Сейчас он убьет ее, и сразу отомстит за все. За все, что было и чего не было тогда.
Он подошел ближе. Иезавель пошевелилась. Как его разжигала ее нагота. Ее муж мертв. Он может сделать с ней все, что хочет. Он задрожал. Сорвал с себя рубаху. Затоптал на полу штаны. Окно было открыто. Он вздрогнул на сквозняке. Да, он выспится с ней, прежде чем он убьет ее. Это будет красивым жестом.
Он встал перед спящей Иезавелью на колени. Толкнул ее в грудь, переворачивая на спину. Она мгновенно проснулась, ожгла его взглядом. Два голых тела: ее и его. Как это красиво, дико. На кошме… на коровьей шкуре. Он помнит, как он весь превращался в потоки, в жаркие огненные потеки краски, звезд, рыбьих молок, древнего ужаса, когда она впускала его в себя, снисходя до него. Он отомстит. Сейчас он изнасилует ее. Напоследок.
Иезавель хотела воскликнуть: ты спятил, Митька!.. – но он грубо, безжалостно ударил ее по лицу, коротко кинул: молчать, стерва. Поздно уже.
Она вцепилась ему зубами в руку. Он, с восставшим удом, растолкал коленями ее ноги.
Он взрезал ее, как взрезают рыбу острым кривым ножом. Она забилась на его остроге. Из прокушенной ею руки текла кровь.
Он, уже пронзая ее собой, ударил ее еще раз, и еще, и еще. Ее голова моталась туда-сюда, как тряпочная. Он грубо вдвигал себя в нее, работая как поршень, как насос. Он насиловал ее, и в этом была прелесть мести. Как это, оказывается, тоже сладко – месть. Иезавель, вот я и отомстил. И это еще не конец. Я хочу, чтобы ты, ты сама, перед смертью своей, содрогнулась в последнем бешеном взрыве страсти – со мной. Вместе со мной. Чтобы ты меня наконец познала. Таким, каков я есть. Ты меня всегда презирала. Всегда прижимала к ногтю. А теперь я тебя прижал. Я взял твою жизнь. Она оказалась женской и жалкой. Ты же как все женщины, Иезавель. А корчила всегда из себя царицу. А теперь я возьму твою смерть.
Она забилась под ударами его тела, закричала сквозь пальцы, что он прислонил к ее рту:
– А-а-а-а!.. Уми…раю!..
Сейчас ты умрешь. По-настоящему. Я ненавижу тебя. Я отправлю тебя туда, к твоим степным лошадям, к твоим монгольским коням, чтоб они там, в небесной степи, пояли тебя, грубо взяли тебя.
Он выдернул себя из нее, еще дымящегося. Схватил запястья Иезавели, стонущей, задыхающейся – она еще не могла отдышаться от внезапного безумья. Заломил ей руки за спину. Навалился на нее, чтоб она не дергалась, не вырвалась. Схватил простыню, ухватил зубами, разорвал, держа один конец в зубах, другой – в кулаке. Лоскутьями перемотал руки Иезавели, потом ноги, связав ее крепко – ей было уже не вырваться. Она смотрела на него полными ужаса глазами. Она начала понимать, что происходит.
– Ты что, Митя, сбрендил?.. – сказала она разбитыми, испачканными в крови губами. – Ты… рехнулся?!.. Что ты делаешь?!.. я сейчас закричу…
– Кричи, – сказал он, увязывая простынный узел. – Кричи как можно громче. Их больше нет. Они все мертвы.
А что, если и детей тоже убрать, подумал он мгновенно, одним махом всех – и свидетелей нет. Он, связав ее, схватил, поднял ее на руки, будто жених, несущий новобрачную на супружескую кровать.
Рядом с собой он видел лицо Иезавели. Оно было на удивленье спокойно. Вот сука. Она и сейчас, уже все поняв, держится так, будто он вывозит ее кататься по Лонг-Айленду в комфортном “шевроле”.
– Ты все врешь. Ты просто хотел меня поиметь, сволочь. Ну, поимел. Ты доволен?!..
– Да. Сверх меры.
– Тогда пусти меня. Кончай весь этот балаган.
– Иезавель, это конец. Молилась ли ты на ночь, Дездемона. Помолись своим бурятским богам, если сможешь, паскуда. Я отомстил. Я отомстил тебе.
Он уже знал, как он убьет ее.
Он понес ее прямо к раскрытому окну. Занавески отдувал ветер. Сырой нью-йоркский зимний ветер, fucking mother ветер, от которого у детей закладывало носы и у нее, Иезавель, поднималась в груди глухая тоска по брошенной за океаном грязной, нищей стране. Она здесь была богата и счастлива. Куда этот идиот несет ее?!.. зачем… Она забилась в его руках, как рыба. Да, большая, огромная рыба, гигантская сибирская рыба – таймень, енисейский осетр, байкальский елец. Он крепко держал ее.
– Пусти!.. – Он видел, как смертельно побледнело ее лицо, стало цвета простыни. – Пусти, Митя… Если я тебе что в жизни сделала не так – прости меня… Пусти!.. Зачем ты!..
Он подошел близко к окну. Сырость, ночь, холод, ветер, пустота, океан. Океан близко, там, за каменными пальцами небоскребов. Чертовы пальцы, каменные белемниты. За каждым окном – трагедия. Чьи-то жизни рушатся. Чьи-то души умирают. И воскресают. Сейчас одно тело полетит, вопя, вниз, а душа воспарит вверх. Тело вниз, душа вверх – хороший расклад. Не то у него. У него тело неуклонно идет вверх, тело обрастает роскошью, деньгами, домами, благостынями, а душа… Не думать о душе. Зачем о ней думать! Она приносит лишь мученья. Как Иезавель мучила его душу. Он никогда этого не забудет.
Он поднял ее на руках выше, она вся извивалась, опять пробовала кусаться. Она боролась за свою жизнь. Ее лицо страшно исказилось. Она выкрикивала самые отборные, самые площадные и гадкие ругательства, каких поднабралась там, давно, в Москве, в трущобах лимиты, в дворницких веселых коммуналках. Он перекинул ее через подоконник, ударив ее затылком оконную створку, и выбросил ее вниз, в темень, из окна, с двадцатого этажа. Он слышал, как, падая, она кричит. Потом все умолкло.
Он высунулся из окна – посмотреть. Липкое, гадкое любопытство разобрало его. Иезавель, вернее, то, что осталось от Иезавели, лежало внизу. Она разбилась на куски, как ваза. Отдельно лежала маленькая, еле видная сверху голова; рядом – кисть руки. Размозженная плоть кроваво устилала тротуар. На Бродвее было пустынно. Никого. Скоро любой полисмен, делая ночной обход, подойдет к разбитому трупу, засвистит, вызовет по сотовому полицейскую машину. Надо спешить.
Он кинулся из спальни вниз. Скатился по лестнице. Дети! Нет, он не убьет детей. Пусть девочка Полли вышивает свои сусальные цветочки. “У меня есть мама, папа!.. Пиф-паф. На конфетку, сиротка”. Хорошо, что они не проснулись. Дети – свидетели. Ну и пусть. Он отмажется. У него есть защитник. Папаша. Это танк. Скорей!
Картина висела на стене среди других картин в гостиной, тихо мерцала. Золотые апельсины Рая подмигивали из темно-зеленой листвы. Завернуть бы во что! Нету ничего. Он нацепил куртку, сунул медную доску под куртку. А, какая разница. Некогда уже кумекать.
Горничные и вся прислуга у Фостеров, сделав все дела по дому, уходили спать к себе, не оставались у хозяев. Это здорово. Прекрасно, что никакая заспанная мулаточка с кружевной наколкой на черных кудрях не откроет ему любезно дверь, не пролепечет по-английски: куда вы, мистер, среди ночи… Скорей, дурак! Сейчас загудят полицейские машины, и тебе конец!
Он, вспомнив Варежку, взял мягкую вязаную перчатку, аккуратно вытер все дверные ручки, все, к чему могли прикоснуться при уходе его руки. Тихо закрыл за собой дверь. Тихо вышел. Тихо, почти беззвучно, повернул ключ в замке.
Лифт плавно опустил его вниз. Когда он вышел из дому, он забросил ключ от квартиры Фостеров в канализационный люк. Он прошел мимо разбитого тела Иезавель, стараясь не глядеть на него.
Куда теперь?! Эмиль дрыхнет. Куда ноги несут, вот что!
И я пьяный, пьяный от убийства… Я убил их обоих… Я убил их обоих! И картина – опять со мной! Вот она, под курткой, под моей длиннополой курткой, похожей на короткое разночинское пальто! Ура! Я победил!
Ему казалось – он стоит в ярко пылающем костре, но не чувствует боли от полыхающего кругом огня.
Ноги сами несли его, и он доверился ногам. Ноги занесли его в Чайна-таун, китайский квартал. Он читал вывески на английском – ничего не понимал; глядел, вытаращившись, на китайские иероглифы, что золотой паутиной, густо-алой кровью светились на черных ночных стенах – и умалишенно улыбался. Надо спрятаться. Надо завалиться в какую-нибудь китайскую харчевню. Его с собаками не найдут. Он будет сидеть за столиком, пить… что пить?.. Что пьют эти черти китайцы?.. Иезавель, раскосая стерва, ты и сейчас, убитая, не отпускаешь меня. Я пришел в твой квартал, в восточный квартал. Это в твою честь. Я помяну тебя, дорогая. Я выпью здесь за тебя.
Он, прижимая к боку, к ребрам, медную доску, дернул за веревочку – старинный звонок мотался над дверью маленькой лавчонки, а из двери несло жареными яствами: забегаловка, судя по всему, вот оно, его убежище. Навстречу ему вышел китайский мальчик лет двенадцати, смешно покланялся, откинув назад растопыренные ручки, жестом пригласил войти. Он вошел. Ничего не видел – тьма, дым, острые неведомые запахи, сразу властно вошедшие в его раздувшиеся ноздри. Где он?!
Он почувствовал – его взяли под руку, ведут. Он доверился руке. Впереди начало светлеть. Он, вместе с мальчиком, сопровождавшим его, вошел в слабо освещенный маленький зал, полный доверху дымом, как густым молоком. Посреди зальчика стояли столики, за ними не сидел никто.
У стен, на длинных скамьях, на брошенных на пол коврах, сидели и лежали люди. Они держали в руках трубки, курили. Длинные, как змеи, изогнутые трубки, а то и прямые, как тонкие флейты; а вот и гнутые, наподобье лебединой шеи. Какой сладко-горький, опьяняющий запах. Что они курят?! Мальчик склонился перед ним опять в забавном утином поклоне, пробормотал что-то по-китайски, потом – по-английски. До него дошло. Здесь курили опий.
Он согласно кивнул головой: да, принеси. Мальчик щелкнул пальцами, гортанно, как птица, выкрикнул короткое китайское слово. Из-за бамбуковой занавески, скелетно стучащей мелкими бамбуковыми косточками, показалась круглолицая китайская девушка с круглым черным подносом в руках. Она поставила перед Митей поднос на пол, присела на корточки. Жестом показала: раздевайтесь, господин. Митя жестом же ответил: не хочу, холодно, я замерз, посижу так, в куртке.
Он следил, что она делает. Она открыла маленькую жестяную шкатулочку. В шкатулочке густела, медово застывала непонятная тягучая смола. Китаянка вытащила из прически длинную шпильку, похожую на иглу. Подцепила на острие шпильки кусочек смолы из шкатулки. Дала Мите в руки: подержи. Держа иглу, он глядел, как девушка ловко разжигает масляный светильник, как берет у него из рук иглу с кусочком смолки и подносит к огню. Шарик смолы начал растапливаться на огне, засиял волшебным, нежным, красно-золотым светом. Красно-золотой, рыжий. Цвет ЕЕ волос…
Он тряхнул головой. Китаяночка, загадочно улыбаясь, протянула руку, цапнула с подноса сухой широкий пальмовый лист, положила туда горячую растопленную каплю, понюхала, улыбнулась; взяла с подноса длинную деревянную трубку, засунула туда шарик, сделала сама несколько затяжек, раскурила. На ее круглом лице написалось священное блаженство. Она протянула трубку Мите.
Он взял трубку обеими руками. Поднес мундштук к губам. Затянулся. Он думал – это как курево, как сигареты, и надо затягиваться глубоко, часто. Китаянка сердито помотала головой: нет, не так. Снова взяла трубку у него из рук. Затянулась. Легла на лавку, откинула голову. Глядела в потолок, улыбалась. Потом снова поднесла трубку ко рту. Ему показалось – она подносит к губам не трубку, а его напряженный уд. Капелька смолы. Капля жизни. Любовь – это опьяненье. Он всегда хотел опьяниться. Он никогда опьяниться не мог.
Он тихо показал девушке на ковер на полу. Сам сел. Она сползла с лавки на пол. Он тихо обнял ее. Попеременки они курили трубку с опием, затягиваясь медленно, отдыхая после затяжек. Он почувствовал, как звенящий дурман наполняет виски, тает подо лбом, как внутренность медного черепа становится мягкой, как масло, как льющийся мед.
Ему захотелось женщины. Здесь были люди. Он расстегнул ремень джинсов. Китаянка склонилась над ним, играла на нем, как на флейте. Он чувствовал, как горячи и сладки ее пьяные от опия губы. Когда он был уже близок к изверженью, она отрывалась от него, хитро блестела щелками глаз. Потом опять склоняла голову, и мученье возобновлялось.
Он забыл, кто он такой, зачем он здесь, где он. Время сдвинулось с оси, кудель мгновений перестала наматываться на веретено. Он ждал конца – а конца все не было и не было. Китайцы в совершенстве знали искусство недеяния. Девушка погрузила его в слепую сладость забвенья – себя, мира; осталось только томящееся мужское естество, ждущее ужаса и счастья и все не награждаемое им.
Исхода не было. Существовал только исток.
Китаянка довела его до такого состоянья, когда он беспрерывно ощущал разлитое по всему истомленному телу сладкое великое мученье, и он не хотел прощаться с ним. Оторвавшись от его тела, бесконечно целуемого и ласкаемого ею, она снова поднесла к его губам трубку с горящим опием. Он вдохнул на сей раз глубоко, как табак – и стал проваливаться в пропасть, в пустоту. Бездна. Вот она. Бездна – счастье, спасенье. Человек летит в бездне, и никто его не остановит.
Когда он очнулся, круглолицей девушки уже не было рядом с ним. Трубка с погасшим опием лежала на подносе. Рядом с трубкой лежала бумажка. Он прочел счет. Усмехнулся, дрожащей, еще непослушной рукой выложил на поднос деньги. Господи, какие копейки. За такое немыслимое счастье. Он не уйдет отсюда. Он еще не исполнил всю программу. Он еще напьется тут с китайцами их дурацкой рисовой водки, он еще погрызет тут каких-нибудь жареных черепах, копченых улиток. Эй, сюда!.. Он, в забытьи, крикнул это по-русски.
Давешний мальчик услужливо подбежал к нему.
Митя жестом показал: пить, выпить.
Мальчик исчез, а взамен появились два старых китайца, их тощие белые бороденки мотались, как приклеенные, на коричнево-сморщенных подбородках. Они опять же жестами пригласили Митю за столик, он встал, побрел, шатаясь в дыму, чуть не упал. Его затошнило. Обкурился. Не беда. Бывало и хуже, там, в Столешниковом. Он уселся за столик, чуть не сломав хрупкий стул, осевший под его тяжестью – он был такой большой, высокий для миниатюрной чайна-таунской опиекурильни. В руках у китайских стариков светились две бутылки водки; на этикетках были изображены извивающиеся змеи на ярко-красном, пролетарском фоне. И золотые звезды над змеиными головами. Черт, как это хорошо. Такую водку он будет пить впервые. А закуска?..
Он показал рукой – кушать, ам-ам. Старик вынул из-за пазухи пакет, вынул его содержимое, расставил по столу. Сушеный картофель. Блюдо с жареными червячками. Странное зеленое, терпко пахнущее очищенное яйцо. Старик важно поднял высохший палец, что-то стал лопотать по-китайски – должно быть, об этом замечательном тухлом яйце, считавшемся здесь великим деликатесом. Любимое блюдо китайского императора династии Тан?.. Митя пожал плечами. Давайте водочку разольем. Ешьте сами ваши зеленые яйца. Он и жареными червяками с удовольствием закусит.
Они со стариканами усидели две бутылки на троих, как делать нечего. Опьяневшие китайчата трясли его за куртку, приставали, выманивали деньги. Он дал им много – двести долларов, пусть подавятся, больно жирно будет. Налички у него больше не было, в дальнем кармане куртки была запрятана кредитная карточка его банка. Он развел руками.
Опийный хмель, водочный. Почему ж это он все трезв, как стеклышко, и – ни в одном глазу. Он вскочил из-за стола, попятился, послал раскосым старичкам воздушный поцелуй, кидая напоследок, на чай, двадцатидолларовую бумажку, завалявшуюся в кармане джинсов. Китаянка не ограбила его, лежащего на ковре в забытьи, не обшарила его карманы.
Вот она, бедняцкая честность. А ты. А ты, дрянь богатая. Что же ты наделал.
Он сгорбился, скрючился в три погибели, упрятал лицо в ладони, заплакал. Пьяные слезы, да, пьяные. Ужас должен был выйти из него вот так – слезами. Кого он оплакивал?! Себя?! Эх, все одно и то же. Что Россия. Что Америка. Беднота и богатые. Хорошая жратва, плохая жратва. И опьяненье, погруженье в пьяную бездну – как предчувствие той Великой Бездны, куда скатимся, упадем все мы когда-нибудь.
Он утер рукой нос, щеки. Нюня. Размазня. Кончай реветь. Ты же мужик. Негоже так. Скорей! К Эмилю! Ведь уже, наверно, утро!
Он побежал к выходу из китайского притончика, сшибая стулья, натыкаясь на разлегшихся повсюду охмуренных людей. Круглолицая китаянка уже сидела верхом на одном из посетителей. На ее круглом раскосом лице не отражалось ничего – ни удовольствия, ни отвращенья. Оно было кругло и бесстрастно, как кругло и бесстрастно было лицо их надменного Будды. Как лицо Иезавели – там, давно, века назад, в аратских степях, в голых нищих каморах Москвы.
Он выбежал на улицу. Дома Чайна-тауна уже были окутаны рассветной дымкой. Он подумал – это опийный дым. Покачнулся. Папаша его спасет. Картина здесь, с ним. Он вышел сухим из воды. Но его могут все равно зацапать. Зачем он потерял время в притоне. Что ж, так надо было. Ему надо было, после убийства, еще раз понюхать, как пахнет бездна.
Когда он отыскал дом Эмиля, было уже совсем светло. Он взобрался по лестнице тяжело, будто всходил на гору, задохнулся. Лора открыла ему дверь. Он клацал зубами – от рассветного зимнего океанского холода, от ужаса. Лора все поняла без слов, когда он вытащил из-за пазухи медную доску, с одной стороны измазанную маслом и лаком. Ее губы поджались тонко, ядовито. Дурень парень. Сорвиголова. А они с Эмилем потом все расхлебывай. Это пахнет международным скандальчиком первого разряда.
– Митя, – сказала она строго, как настоящая мать, – на тебе лица нет. Успокойся, разденься, прими душ. Эмиль в Москве. Он срочно вылетел в Москву, ему надо было там быть кровь из носу. Он скоро прилетает. Завтра, послезавтра. Отдохни, отдышись. Поешь, я тебя покормлю. И ляг спать. Картину… – она покосилась на Тенирса в его руках, вздрогнула, – я спрячу. Положу в свой личный банковский сейф, в ячейку, под охрану. Это самый надежный способ храненья. Уж оттуда-то она никуда не исчезнет.
Она подтолкнула его в ванную – иди, мойся. Унесла картину, держа в вытянутых руках, как колючего дикобраза. Митя стоял в душе, сидел в ванне до умопомраченья. Чуть не уснул там. Лора выволокла его из ванны, мокрого, голого, жалкого, доволокла до постели, уложила, взбила под его головой подушку. Последнее, что он увидел, прежде чем провалиться в небытие, – Лорины крашеные ногти, перламутровый лак, как у той дерзкой проституточки, торчавшей перед стеклянным подъездом “Интуриста”.
Он спал трое суток, как под сильнейшим снотворным. Проснулся внезапно, будто его подтолкнули под локоть. Перед ним на стуле сидел Эмиль, пристально глядел на него. Лицо Эмиля было нехорошим. Оно все расплылось, он стал еще больше похож на жабу. Папаша глядел на него не так, как всегда. Он глядел на него с брезгливостью, отвращеньем, и, Митя мог бы поклясться, – с ненавистью.
– Я отправил твою чертову картинку в Москву. В мой банк. В мой сейф. Под мои замки.
Митя поднялся на локтях в постели. Бессильно рухнул в подушки.
– Ты!.. Сволочь!..
Он почувствовал даже лежа, как у него отнялись ноги.
– Матерись хоть сутки напролет, Сынок. Это уже не твоя вещь. – Эмиль сложил губы подковкой. Его фюрерские усики задергались нервно. – А моя. Чао, бамбино, сорри, как поет моя любимая Мирей.
Митя хотел встать – и не мог. Он хотел спустить ноги с кровати – и не мог. Он владел лишь руками. Откинув одеяло, чертыхаясь, он попробовал еще раз встать – и не смог, упал на одеяло, бессильно, зло зацарапал простыни.
– Что со мной?!.. Почему я… не могу встать?!..
– Лора угостила тебя, дружочек, кое-какими таблетками. Ты тут был, по ее словам, просто невменяем. Ты рвал шторы, пододеяльники. Ты ничего не осознавал. Как… сомнамбула. Чтобы не вызывать медиков и не увозить тебя в здешнюю психушку… и не платить немыслимые деньги… и, не дай Бог, не обнаружить, что это именно ты укокошил бедных Фостеров!.. ты, полет над гнездом кукушки!.. тебе просто, идиот, дали выжрать горсть безвредных пилюль… ничего, полежишь еще два дня, поваляешься, отдохнешь… и еще выпьешь успокоительных, если понадобится… Теперь этот сумасшедший бал правлю я. Я! Понял!
Митя глядел на Эмиля. Его руки сжались в кулаки. Скомкали простыню.
– Как не понять, – прохрипел он.
Он возненавидел Эмиля. Он, очухавшись, встав с постели, стал следить за ним.
А Эмиль следил за Митей. Острым, наметанным глазом. Папаша следил за Сынком – как это было естественно, беспокойство родителя. Эмиль думал со злобой, как бы Сынок чего не отмочил такого здесь, в Америке.
Убийство Фостера и его жены прогремело на всю страну, а Митю в день, когда все газетные шапки запестрели невиданной жуткой сенсацией, Эмиль увозил на самолете в Москву, и, сидя в самолетных креслах рядом друг с другом, они искоса мерили друг друга ненавидящими взглядами, они следили друг за другом – даже тогда, когда дремали, тогда, когда стюардесса приносила им на подносе разнообразные яства, премило улыбаясь.
Теперь они были два врага, и Мите уже было все равно, что сделал Эмиль для него в жизни, как он ему помог; куда, в какие люди он Митю вывел; это теперь был для него враг, и Митя должен был с ним сражаться – пускай сейчас незримо. Ничего, он выйдет еще на бой с ним в открытую.
Он поднимет забрало. Он, Митя, знает такие государственные тайны Эмиля, что, если он их выболтает кому надо, от Эмиля назавтра останется мокрое место. И Эмиль понимает, что Митя, разозленный, в любой момент может это сделать. Поэтому ох ты и осторожен теперь, Папаша. Ты рассчитываешь каждый шаг. Каждую улыбку. Каждый брошенный взгляд. Не говоря уже о словах. Митя затаился. Он никогда не простит тебе картину.
Но ведь и ты, Папаша, никогда не простишь ему Андрея. И парка Монсо.
Лора сидела рядом с ними в самолете. Косилась на Митю. Робко заигрывала с ним. Обиженно вздергивала носик. Седая светская львица, желающая снова немного подразвлечься с милым мальчиком. Он отворачивался. Еще бы немного – и он вцепился бы ей в седые, выкрашенные лиловым красителем, жестко взбитые волосы.
Внизу колыхался темно-синей блесткой жестью океан, вздымались, как слоновьи бивни, из толщи ультрамариновой воды скалы и острова Исландии. Самолет делал в земном воздухе гигантскую дугу, заворачивая с севера на юго-восток. Под крылом полетела разграфленная суша старушки Европы. Митя закрыл глаза. Стюардессина шипучка, похожая на яблочный сидр, стояла у него в горле. Он сжал в кулаки свои руки. Ему резала ладони та гитарная струна, накинутая на шею живого, дергающегося под ним человека.
Они с Эмилем перестали разговаривать. Обменивались односложными вопросами, ответами. Митя скрылся к себе в особняк. Господи, как заросло здесь все пылью. Ну что, великий богач Морозов, лопухнулся ты классически. Обманули дурачка на четыре кулачка. Стоило убивать из-за картины двух ни в чем не повинных людей, чтобы Эмиль ее спер и закрыл, гад, в свой личный сейф в банке. Ничего, отольются кошке мышкины слезки.
Оказавшись дома, Митя слепо, по наитию, набрал номер Коти Оболенского. Длинные гудки. Ну, значит, уехал уже. Он хотел положить трубку, как раздался щелчок, и ласковый голос Коти возник, защекотал ухо:
“Внимание, я наговорил на автоответчик посланье для моего друга Дмитрия Морозова. Митя, если это ты звонишь, то выслушай меня. Митя, я постригся в монахи в Печорском монастыре в Нижнем Новгороде. Это самый нищий, бедный монастырь из всех, что я знаю. Я хочу отринуть все. Все, чем я жил до сих пор. Все, что ел и пил из серебряных и фарфоровых блюд; все, чему поклонялся, уповая на преходящую славу земную, а не на Бога; отринуть то, чем я дышал и жил, обманываясь, ибо не этим люди живы, если они хотят остаться живы – перед собой, своей душой живой и Богом живым. Я хочу отринуть все, чтобы уничижиться до последнего. Чтобы понять, как Он шел по земле – в рубище, в рогоже, босой, с израненными камнями ступнями, с чистыми ясными глазами, светясь лицом. Ведь не сумасшедший же Он был, Митя. Ведь Он умер за нас. А мы?.. Можем ли мы сейчас хоть немногим отплатить Ему?.. Не сердись, что слушаешь запись. Я говорю с тобой мысленно всегда, как на духу. Я чувствую, Митя, что тебе сейчас очень плохо. Америка – такая страна, что она скорее может опустошить душу, чем населит ее плодоносным и красивым. Приезжай ко мне в Нижний. Монастырь найти очень просто – он стоит на крутом берегу Волги, неподалеку от Кремля, белокаменный такой. Монахи бедно одеты. Придешь – спросишь отца Ермолая, игумена, тебя к нему проводят, он скажет тебе, где я, на каких работах, либо в келье, либо на молитве в храме. Кланяюсь тебе, бедный мой. Береги себя. Береги душу свою. Не дай ее пожрать Сатане. Сатана – в нас. Обнимаю и крещу тебя широким крестом.”
В трубке зачастили гудки. Митя тихо положил трубку, закрыл рот ладонью. Скорчившись, как младенец в утробе матери, рухнул в подушки. Так застыл – на всю ночь, до утра.
– Привет…
– Привет.
– Чем занимаешься?..
– Всем понемногу.
– Хочу предложить тебе… хм… помочь мне.
– Чем могу?..
– Кое-чем действительно можешь. Иначе я бы не звонил тебе… Сынок.
Митя зло улыбнулся, мысленно послал Эмилю крепкий матерок.
– Ты ведь у меня большой специалист по переводам денег в иностранные банки.
– Да что ты.
– Я не шучу. Мне нужно будет кое-какую сумму перевести в Туринский банк.
– Отчего именно в Туринский?..
– Проворачиваю попутно делишки с итальяшками. Мои итальяшки хорошо контролируют в Америке крупные нефтяные корпорации. Вся банда окопалась в Турине, приятный такой городок на севере Италии.
– Зачем я тебе нужен в Турине?.. возьми с собой Пашку, он лучше сообразит, он шустрее… а меня до сих пор… шатает от Лориных таблеток.
– Не принимаю иронии. Ты помнишь нашу Венецию?.. – Эмиль хохотнул. Митя вежливо помолчал в трубку. – Ну, ну, по путанам я больше тебя не поведу. Тебе это вредно для здоровья. Турин – серьезный город. Католический, папский. Соборы там… и всякое такое. Паломники. А я, Митя, не хочу расплачиваться со своими торговыми точками и в моими партнерами в Америке со своих российских счетов. Мне удобней, если мой банк будет за рубежом… и под боком у моих закадычных друзей.
– Хоть я и понимаю в бумагах, но не слишком. Это другой уровень веденья дел.
– Наплюй. Я тебе все скажу, что надо делать. Ты будешь делать, что я скажу. Не куксись, Сынок. Мы с тобой еще таких дел наделаем. И картинку снова определим. Пристроим, куда надо. Даже если ее надо будет снова везти в Америку, на…
– На Кристи.
– Верно. Мы за ценой не постоим, ха-ха. Говоришь, таблетки Лоры – долгоиграющие?.. До сих пор головка кружится?.. ну, да мы с тобой в Турине ударим по кьянти… ты что, дошел до ручки?..
В трубке повисло молчание. Митя молчал так долго, что Эмиль уже хотел положить трубку.
– Вовсе нет, – наконец сказал Митя. Эмиль с удивленьем услышал его веселый голос. – Это ты, Папаша, чем-то сильно обеспокоен. Ну, хочешь, я полечу с тобой в Турин.
Как небрежно, снисходя к бедняге Папаше, Сынок процедил это.
А когда трубка была брошена на рычаги, Митя, скривившись, пробормотал:
– У, старая собака. Лицемер, ты ползешь ко мне на брюхе по снегу, как старая лиса за мышью. Я буду с тобой играть в твои игры. Но ты вор. Ты своровал у меня. А я – у тебя сворую. Не теперь. Я буду следить за тобой. Я буду выслеживать тебя. Я никогда не прощу тебе Тенирса, тварюга. Турин!.. Какой, к чертовой матери, еще Турин?.. Что это за городишко такой?..
Он не знал, что Турин – это город, где в соборе Джованни Батиста, в плотно закрытом ковчеге, вот уже четыреста лет хранится льняное полотнище со смутно проступающим на нем изображеньем обнаженного мужского тела – знаменитая Туринская плащаница, в которую, по преданью, после Распятия, при погребенье, был завернут Господь Иисус.
Они прилетели в Турин поздно ночью. У Мити слипались глаза. Он с ненавистью косился на Эмиля, когда тот копошился в документах, бумагах, долларах, беря таксиста, оплачивая гостиницу у администратора. Паршивый Папаша. Скорей бы голову кинуть на подушку. Итальянская мафия, о, это очень волнительно. А не пошли бы вы все, ребята, хоть на остаток ночи ко всем русским и европейским чертям. На столе в гостинице стоял гиацинт, источал волнующий запах. Гиацинт, лаванда… мадам Канда… Спать, спать. Желательно без сновидений.
На другой день они с Эмилем встречались с его итальяшками, и Митя все понял с ходу – типичные мафиози, причем высокого полета, высшей пробы, все слова и жесты отточены, все карманы напиханы оружьем. Эмиль тоже вооружился на этот раз. Такая игра со смертью чем-то нравилась Мите, приятно щекотала притупленные нервы. Похоже, в них с Папашей никто так сразу стрелять не собирался, однако говорили с ними жестко, резко. Эмиль хорошо говорил по-английски, итальянцы – плохо; они вызвали из Туринского университета девушку-русистку, специалистку по русскому языку и литературе, и она говорила по-русски лучше и правильней, чем сам Митя. Вопросы и ответы посыпались свободней, живей. Скоро обе стороны пришли к соглашению. Эмиль глубоко, успокоенно вздохнул. Кажется, ему удалось провернуть мясорубку. Но на самом верху, при натужном повороте, ручка застряла. Глава туринской мафии, Роберто Кьяра, прожигая Эмиля жаркими бараньими черными глазами, промямлил: у нас должна быть хорошая подстраховка, синьор Дьякконофф!.. без лонжи циркач не прыгает…
Беленькая университетка послушно перевела. Эмиль потеребил себя толстыми пальцами за щеку. “У вас… будет подстраховка, – тихо сказал он. – Мой мальчик, моя правая рука, берется собственноручно платить вам за любую, особенно за срочную, информацию, которая будет поступать вам из Америки. В России, в связи с кавказской войной, сейчас могут перекрыть кое-какие банковские каналы. Проплата в Штаты будет уходить не целиком – вам достанутся проценты за работу. Если это не подстраховка, тогда я слон индийский”.
Белокурая туринка, улыбаясь, быстро треща, переводила – хорошая, опытная синхронка. Митя вздернул было голову – Эмиль осадил его одним властным взглядом. Когда бумаги были подписаны и все, так и не вытащив из карманов револьверов, с милыми вежливыми улыбками раскланялись и разъехались в разные стороны, Эмиль зло бросил Мите:
– Ты полный пентюх. Не забывай, что я – тебе – тоже – буду – платить – за работу – Сыночек. – Он чеканил слова, как жесткие монеты. – Тебя уже деньги, я вижу, не устраивают?.. Особенно – деньги Дьяконова?..
Митя дернулся. Такси, в котором они ехали, слегка тряхнуло, и он коснулся плечом плеча Папаши.
– Мы с тобой в одной связке, Митя, помни это, – с издевочкой, с улыбочкой проронил Эмиль. – Если ты дернешься и обломишься – упаду и я. Если я рухну…
– Куда мы едем?.. – спросил Митя, перебив его. – В гостиницу?..
– Нет, ха-ха-ха!.. – Эмиль облегченно, сыто-радостно рассмеялся. – Наши итальяшки не убили нас, мы, кажется, с ними сумели договориться!.. и, значит, это дело теперь надо отпраздновать…
– Что, опять кабак?.. не хочу в кабак… хватит с меня кабаков… лучше купим сыра, вина, посидим тихо в отеле…
– Нет, дурачок Митя! Глупый ты пингвин! – Эмиль веселился вовсю. – Ну ты и невежда, Сынок!.. Это же Турин! Здесь в соборе – Туринская плащаница лежит!..
– Туринская… что?..
Митя залился до ушей краской. Век живи, век учись, дураком помрешь. Сибирским, слюдянским дураком, байкальским хулиганом из подворотни, самодельным художником, грубым дворницким парнем, работающим в столичном РЭУ без прописки, по блату.
– Плащаница!.. В нее наш Бог Христос был завернут, когда его, мертвого, с Креста стащили!.. И там, представь, все отпечаталось – и руки Его, и ноги, и ступни и ладони пронзенные, и, главное, – лицо!.. лицо!.. Глаза закрыты, усы, борода, лежит, благостный такой!.. я – не видел живьем… только фотографии… Лора показывала… она баба, она этим интересуется, все они, бабы, любят в этом ковыряться… И мы едем – на нее – в натуре поглядеть!.. На Плащаницу!..
Митя умолк. Сосредоточенно смотрел перед собой на дорогу. Автострада неслась, втекала под колеса красивой итальянской машины. Митя оценивающе оглядел салон. Неплохой “альфа-ромео”, однако. Но “мерседес” все-таки лучше.
Они с Эмилем, притихнув, вошли под своды огромного католического собора Джованни Батиста, что возвышался в центре Турина, и под светлыми арками, под громадными колоннами почувствовавли себя вдруг такими маленькими, такими жалкими и смертными, что у обоих дух захватило от благоговенья перед вечностью, от жалости к себе. Ничтожным показалось им все то, чем они обладали в свете – богатство, связи, роскошь налаженной жизни, владычество над другими людьми.
Плащаница была выставлена в соборе для всеобщего обозрения – ровно две тысячи лет назад родился Тот, Кто был в нее завернут, когда умер, и воскрес Он в ней, внутри, и как Он вышел из нее, для людей осталось тайной. В огромной круглой нише под закругленным сводом, освещенная церковным ярким светом – и электрическими, и белыми толстыми восковыми свечами, на стене собора висел большой, длинный – четыре с половиной метра в длину, метр с лишним в ширину – кусок льняной ткани, и на нем, даже издали, пока они шли, подходили поближе, просматривалось золотисто-коричневая туманная человеческая фигура – будто кто-то золотой таинственно выступал из довременной тьмы, мерцал, подобно тихому пламени.
– Эмиль, я темный, я непросвещенный, – сказал Митя шепотом, пока они медленно подходили к Плащанице. – Расскажи про нее!
И Эмиль стал рассказывать, что знал. И Митя понял: на ткани – негатив. Изображенье распятого человека, и на Плащанице, если ее рассматривать подробно, все видно – и что Его бичевали, и что его лоб увенчали колючими терновыми ветвями, и что его запястья и лодыжки были пробиты толстыми гвоздями, и что копьем Ему была нанесена страшная рана в грудь. Плащаница запечатлела это все, как бесстрастная книга. Эмиль шептал ему: гляди, гляди, вот мы подходим ближе, и уже виден лик, ты видишь лик?.. Митя смотрел вперед, перед собой. Ему было любопытно – не более того. Кто-то просто-напросто покрасил кусок ткани, ушлый художник; художников, особенно ушлых, и в античности, и в Средние века было хоть отбавляй, прохиндеев, фокусников. Плащаница – наверняка дело его рук. Он, Митя, смог бы такую штуку сделать?.. Если посидеть, попотеть – смог бы. Художники могут все.
Они подошли еще ближе. От куска ткани, прикрепленного к стене, заструился свет. Потек темно-золотой, еле видный свет; будто заклубились в столбе солнечных лучей золотые пылинки, светящаяся мошкара.
Митя вздохнул. Его глаза схватили, цепко обежали ее всю, Плащаницу – он увидел, что на ней две фигуры: одну было видно спереди, другую – со спины. Мертвеца положили на полотно, затем перегнули ткань пополам и накрыли ею тело. И, когда Он воскрес и из него вышел наружу неземной свет, когда он излучил свет Божий, это излученье отпечаталось на промасленной ткани, как отпечатывается негатив на фотопластинке. Кто из художников древности мог нанести на льняное полотно негативное изображенье человеческого тела с подобной точностью анатомии?.. Леонардо?.. Микеланджело?.. Никакой Леонардо не смог бы сделать рисунка в виде негатива. У Мити в голове зазвенели фразы, что размеренным, ровным голосом читал ему Котя Оболенский, еще перед отъездом на кавказскую войну:
“Итак, пришли воины, и у первого разбойника перебили голени, и у другого, распятого с Ним; но пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра…”
На куске льна перед ним сочилась тихим золотым светом рана – от острия того копья.
Они с Эмилем сделали еще шаг к Плащанице, и Митю начало трясти. Сначала дрожью охватились ноги. Будто бы он сильно надрался сутки назад, и теперь мучился жаждой похмелья.
Его трясло и ломало так, как ломает наркомана. Дрожь поднялась выше, в судорогах дрожи поджимался к хребту живот, тряслись губы, сводило плечи. Он не замечал туристиков, снующих мимо него. Не слышал трескотни гида, объясняющего итальянской скороговоркой что-то про Плащаницу. Он ощущал, как его крутит, колышет – омут муки затягивал его. Он сделал шаг вперед и чуть не упал на плиты собора. И еще шаг, к Плащанице, к ней.
Он шел, как привязанный грубой веревкой к телеге, к повозке раб тащится за триумфом завоевателя. Он раб. Он ничтожный раб. А он-то думал – он властелин, уже в когорте властелинов. Странные зеленые, синие молнии вспыхивали вокруг него. Дорогу ему перебежала призрачная девочка в ярко-красном хитоне – он понимал, что она прозрачна, что она призрак, ее глаза были широко раскрыты, в них горели ужас и счастье, и он понял – это Магдалина бежит, чтобы оповестить апостолов о том, что Он – воскрес.
Митя понимал, что Он жив. Он дергался, подходя к Плащанице, как от ударов током. Прозрачные легкие ткани, порывы ветра, запах выжженной земли, соленый запах крови. Стоны, вопли, далекие вскрики. Голая гора, похожая на голый череп, ее лысый скат, и крест на ней. Черный крест. Да он же это написал Это же один из его бездарных холстов. Только это было на самом деле, и гораздо страшнее, чем представляют это все на свете художники, все люди, что робко молятся Ему.
Он шагнул еще, и ему прямо в руки ударила молния. Он зажмурился. Это не молния! Это… свечи…
В нише, где висела на стене Плащаница, стояли тремя рядами крупные, длинные белые, будто из слоновой кости, свечи, многие из них были связаны пучками, как вязанки хвороста.
И, когда Митя приблизился к Плащанице, свечи внезапно загорелись. Странное голубоватое пламя потекло по серебряному ковчегу, который стоял под свечами, внизу, на плитах; пламя взмыло вверх, перекинулось на фитили, и они вспыхнули ярко, ослепительно, все разом. Золотой огонь, бело-голубые горячие сполохи. Свечное пламя не хуже факельного опалило, опахнуло лицо Мити. Он не понимал, идет ли он, движется ли вперед; он забыл – один он, или Эмиль тоже тут, где-то рядом. Легкий звон, как с колокольни дальнего храма, поднялся у него в голове, сердце застучало часто, как в объятьях женщины. И пространства раздвинулись.
Пространства раздвинулись так внезапно и сильно, что у него занялся дух, закружилась голова, все поплыло перед глазами.
Черная ночная пустыня раскинулась перед ним, и вся она была пронизана дрожащими, как свечные язычки, мерцающими огнями звезд, россыпями искр. И там, далеко, куда только мог достигнуть взор, дрожала, переливалась развернутая во всю ширь Плащаница. Или это была сама снежная, искристая земля, сами живые холмы и перелески, широкое поле под ярко блистающим звездным ковром великой ночи, – но тогда это не Италия, это Россия, это все у нас, это все – твое…
Перед его широко открытыми и невидящими глазами вставала родная земля, погруженная в ночь, и он понял – чернота полна алмазами, мрак просвечен огнями. Так было, так будет всегда. Вон избы вдали. Вон там – покосившийся заплот… кривой частокол… серые сараи, по горло в сугробах… это заимка, сибирская заимка, там, далеко, в Саянах… И колючие синие звезды над горами, и дышащее под снегом живой грудью поле, и волки воют, и река подо льдом, со спящей рыбой в ней… Селенга?.. или это озеро, любимое озеро, синий священный, как Око Неба, скованный синим льдом Байкал, – и он, Митя, тоже чист, как Байкал, он еще никого не убил, а вся его жизнь – греховный страшный сон, и он не повторится, потому что чистая вода все смоет, омоет все кошмары…
Рыба, там, глубоко, спит рыба, серебряный елец, и ленивый ленок, и верткий, как монгольские сабли, омуль, – и, ты знаешь об этом, Он ведь тоже любил рыбу, печеную рыбу, и Петр был рыбак, и Андрей, и Фома готовил ему рыбу в золе костра, клал на раскаленные огнем камни… И Он солил ее, так, как сейчас мы солим солью свою еду, – “Вы соль земли!..” – это он-то, Дмитрий, и есть соль земли?!..
Нет, Господи… нет…
Его губы разлепились, чтобы крикнуть: “Нет!” – и он не мог крикнуть. Он шел по снежному полю, и ветер отдувал полы его рубахи. И навстречу ему, босой, в развеваемой степным ветром холщовой хламиде – да просто мешок напялил Он на себя, прорезав дырки для головы и рук, – с русыми волосами, вьющимися по ветру, с сияющими, как крупные звезды, глазами, с легкой прощающей, тихой улыбкой шел по снегу Он, босыми ступнями по снегу, и усы Его заиндевели, и Он с улыбкой глядел на Митю, Он все ближе подходил к нему, и звезды падали на них обоих сверху, метеоры струились, падали, как голубые ножи и мечи, и Митя хотел зажмуриться от света, что обнимал Его, – снег горел тысячью цветных, радужных алмазных искр там, где Он шел, проталины влажнели под Его стопами. А Плащаница, в которую Он был завернут в свое погребенье, раскидывалась за Его плечами огромным зимним скорбным миром, пологом убитой красоты, и под ней жила иная жизнь, другая жизнь, другая святыня – та, которой будут поклоняться небеса спустя.
Митя упал на снег. Снег ожег ему колени. Он погрузил руки, пальцы в снег, брал снег крючьями пальцев, захватывал жадно, подносил к лицу, ко рту. Боже, он бредит. Боже, не дай ему сойти с ума совсем. Его свяжут смирительной рубахой, его кинут в каменный мешок палаты для буйных, голой тюрьмы. Он станет зверем. Господи, дай ему остаться человеком.
– Я никого больше не убью, Господи, – взмолился он, сжимая в кулаках тающий снег, – только не отними у меня – меня… не сделай меня зверем, волком, Господи, – вон как они воют в степи!.. Мой дед отстреливал волков на Хамардабане… неужели я стану таким волком, и меня отстреляют… Ты, Господи, сам выстрелишь в меня?!..
В степи выл, как волк, ветер. Слепяще сияли синие, белые звезды. Иисус, босой мужик, приблизился к нему, поднял ладонями вверх сияющие руки. Митя увидел затянувшиеся раны в запястьях. Его руки были похожи на двух сверкающих рыб, вытащенных сетью из-под толщи байкальского льда.
– Я никогда не выстрелю в тебя, Митя, потому что я берегу тебя, – услышал он тихий твердый голос. – Я все тебе явил. Я предостерег тебя. Я жалею тебя. Я…
Он умолк. Ветер шевелил раскинутые пряди волос по его плечам. Чуть блестела в свете звезд заиндевелая борода. Рядом, близко, из глаз Его исчезло яркое сиянье, и они источали теперь свет тихий – спокойный, печальный, будто солнце просветило водную гладь, и в глубине сверкнула прозрачная рыбка-голомянка.
– …я все еще люблю тебя.
Митя рванулся, вскочил с колен. Все зашаталось перед ним. Взвился снежный вихрь. Огромная Плащаница холмов и предгорий, широких пустынных полей скомкалась, собралась в мятые, рваные лоскуты, встопорщилась, свернулась в погорелую рогожу. Пожар, огонь! Пожар пожрет все. Огонь времени. Звезды – это тоже огонь. Они посыплются с небес на землю и спалят все. Видишь, они уже сыплются. Они нас не спросят, жить нам охота или умирать. Никому неохота умирать. А те, кого ты убил, – им хотелось?!
Он снова упал, сброшенный наземь мощным порывом ветра. Беспомощно взбросил руки, защищаясь от стихии. Небо стало рушиться на него, погребло его под безумьем расколотых огней. Метель гуляла и выла, пела над ним торжествующе, празднуя победу.
Очнулся он оттого, что кто-то всовывал ему в зубы ложку со снадобьем, одуряюще, терпко-сладко пахнущим. Он разжал зубы и глотнул зелье. Оно было приторно-сладким, разлилось по горлу мятным, щиплющим спиртом.
– О, povero signor russo, – услыхал он над собой итальянское бормотанье, – Dio mio, non morto…
Он открыл глаза и увидел близко над собой обрюзглое, обеспокоенно-жалостливое лицо туринского священника, золоченую ложку с витой ручкой в его старческой дрожащей руке. Поблизости моталось в дымном воздухе лицо Эмиля. Дьяконов пробубнил напуганно:
– Пей, пей, не отворачивайся, это специальное зелье монахов– бенедиктинцев, его тут готовят, в Турине, мертвых на ноги поднимает… я думал, Сынок, что тебе все, хана… я думал сначала – это припадок… вроде ты у меня эпилепсией не страдал… что это тебя так прихватило?.. пить надо меньше, что ли… надирался ты в последнее время в Москве, я скажу, да-а-а… а потом еще этот чертов Нью-Йорк…
– Замолчи, – непослушными губами выдавил Митя, – замолчи, прошу тебя. Мне уже лучше… мне…
Монах снова всунул ему в рот ложку с монастырским лекарством. Митя представил себе вдруг, как он садится в”мерседес”, приезжает в Нижний Новгород, отыскивает тот, нищий монастырь, где обретается теперь Котя. У них там, у русских монашков бедняцких, такого землья нет. Это древние тайны Средневековья, здесь, в Европе, они сохранились, их любили и лелеяли. У нас весь прошлый век так яростно убивали любовь, что достигли своего: убили. А ты убил людей, Митя, ну и что. Убей еще хоть десятерых, хоть сто – что сделается душе твоей?!
Он помотал тяжелой головой. Он лежал на скамье, стоящей вдоль соборной стены. Старый камень холодил ему бок, ребро. Он подумал вдруг так: я Адам, меня Бог слепил из грязной глины, а у меня до сих пор нет Евы, и никто не вынет у меня из груди ребро. И засмеялся над собой, и Эмиль, отскочив от него, подумал: да он и впрямь сумасшедший.
… … …
В Москве с ним стали твориться необъяснимые вещи.
Да он и не хотел их себе объяснять.
Он все время щупал образок св. Дмитрия Донского у себя на груди. Присутствуя на собраньях правящей элиты, уже – он понимал это – входящей в состав негласного Мирового Правительства, он слышал всякие речи, глядел на разные лица, изучал всевозможные бумаги, но ясно ему было лишь одно: страна умирает, страну растаскивают на куски, страны больше нет, и всяк кричит о том, как лучше ее убить – то понастроить по ней, матушке, опять лагерей и тюрем, то впустить сюда без разбору иноземных инвесторов и бизнесменов, чтобы “навели порядок”, то разграфить, расчертить беднягу на пространства, на отдельные земли, и в этих землях дать власть тому, кто богаче и сильнее всех… – и он шептал себе одному, неслышно: как же ты раньше не видел, Митя, это же Дьявол, это же Дьявольский план. Он отшатывался от Эмиля, когда Эмиль вдруг вскидывал голову и глядел на него – перед ним вставал страшный лик Дьявола. Он не мог говорить с Бойцовским – под завитками черных кудрей он видел оскаленную морду, красные, навыкате глаза, а из кудряшек высовывались нахальные рожки, и Митя жмурился, отгонял смешное и страшное виденье, уходил, не извиняясь, не прощаясь, поворачиваясь спиной, большими шагами. Эмиль выговорил ему: ты с ума сходишь! Да, кивнул Митя, да, схожу. И вы тоже, успокойтесь, сходите. И вся Россия сходит.
Вся Россия, дорогой Папаша, – это огромный сумасшедший дом. И она кричит, бьется, больная, а ее заковывают в цепи, стягивают у нее на спине шнурки смирительной рубахи. Они кричит и не слышит свои крики. Потому что она уже оглохла. Она бьется, вырываясь, и скоро разобьет себе голову. И на ее трупе спляшут танец победители. “Каждый этнос однажды умирает, даже самый могучий, – презрительно сказал Эмиль, дымя сигаретой, – ты что, не читал Льва Гумилева?.. так почитай на досуге…” Митя не слушал. Не слышал. Он поворачивался и уходил.
Он пытался уйти под своды Церкви.
И он видел теперь, что же за весь страшный век сделали с Церковью, какая ржа проникла внутрь нее, как ее оболгали, как ее населили люди, служащие не Богу, а дикому государству, прислуживающие власти и деньгам; как все куплено внутри Церкви, как все пропитано политикой, как лицемерно улыбаются митрополиты и архиепископы, появляясь то и дело в телеящике, произнося душеспасительные речи – те церковные чины, что предавали, отдавали прямо в лапы спецслужбам лучших и чистейших сынов Церкви: тех, кто не хотел прялась под дудку власти, кто служил только Господу – не туго набитому государственному кошельку. Иуда тоже таскал повсюду за собой ящик с деньгами. Он тоже был казначей… и, возможно, казнокрад. Кто-то ведь и при апостолах должен был заниматься деньгами – монетой на еду, на перемещения по земле, на покупку рыбачьих сетей, на помощь беднякам, на… да, да, и на вино они деньги тратили, Митя, успокойся, и хлебом вино заедали, и засматривали в огромные глиняные амфоры: не осталось ли хоть капли на донышке.
Поехав в Донской монастырь, Митя отстоял Всенощную; служил Патриарх.
Митя внимательно гляде в скуластое, чуть узкоглазое, тоже азийское ли, сибирское ли лицо Патриарха. Ах ты, Владыка. А ты, Владыка… Скольких ты священников продал, предал?!.. Молчишь… Причащаешь народ… Щуришь глаза…
Митя перекрестился, положил опять руку на грудь, где грелся образок. Грех так думать о людях. Ну, пусть он предал и продал тысячу раз. Но ведь он, Митя, не имеет права судить.
А кто – имеет?!
Мотаясь по улицам Москвы на своем уже давно нечищенном, запаршивевшем “мерсе”, Митя останавливался у каждой церкви, сидя за рулем, крестился на купола, на кресты. Он бормотал пьяно, тревожно: Антихрист, Антихрист. Черное время. Отыди. Умри… Ты Дьявол. Нет, Дьявол – не ты. Дьявол – ОНА. Блудница верхом на звере. С золотыми серьгами, мотающимися по плечам. И зелень глаз ее прожигает тебя насквозь.
Запасясь провизией, он отправился в Нижний Новгород, к Коте.
Сырое, после оттепели, Московское шоссе прихватил морозец, и машины скользили по гололедице, их заносило вбок, Митя видел, как много аварий по всей дороге – то и дело машины лежали в кювете, милиционеры прыгали на обочине вокруг столкнувшихся лбами, разбитых в пух автомобилей, автобусов. Ну, разобьюсь, весело думал Митя, значит, правильно Господь возьмет меня к себе, грешника.
Он доехал до Владимира, поел в вокзальном буфете холодную жареную курицу – нога ее была в пупырышках, будто замерзла, – яйцо вкрутую, выпил из бумажного стакана бурду, пышно называемую “кофе”. Зачем он поел в буфете?.. Ведь у него с собою была еда – бутерброды с паюсной икрой, со свежей бужениной… Ему захотелось окунуться в ту, далекую, нищую жизнь, в то время, когда они, дворники, закончив убирать ящики на Петровке и сгребать мусор в грязные кучи, закончив жечь ночные костры из газет и рваных бумаг, проголодавшись, отправлялись на вокзал какой-нибудь – на Казанский, на Ярославский, а то и на Белорусский, в буфет, ведь он работал круглосуточно, и там можно было съесть что-нибудь дешевое, на скорую руку, и они снимали свои дворницкие робы, и вставали кругом вокруг круглого, на одной сиротливой ножке, буфетного вокзального стола; и Флюр приносил на бумажных тарелочках ту же курицу, те же сваренные вкрутую синие яйца, те же обветренные куски ржаного хлеба, и эту чуть теплую коричневую жижу в стаканчиках, а Гусь Хрустальный, мир его праху, вытаскивал уже из-за пазухи бутылку дешевой водки – “коленвала”, – и они прикладывались к горлышку бутылки, потом запивали горячую отраву холодным кофе, и ели, ели жадно, и это было пиршество богов, это была пирушка аристократов, Флюр, размахивая бутылкой, говорил разные красивые тосты, – да, они были, безгрешные и славные, рабочие лимитные лошадки Москвы, ничем не хуже апостолов, – да только кто же был их Учитель?.. Уж не Митя, конечно. Митя смеялся молча, ел синее яйцо, глодал ледяную куриную ногу. Глядел на зеленую водочную бутыль и думал: а бутылка красивой формы, похожа на даму в робронах, она – мадам Помпадур.
Сев в машину, он шпарил до Нижнего как отъявленный лихач – “мерс” скользил и шуршал шинами по льду, относя вбок грязный зад, Митя вцеплялся в руль, хохоча над собой, над дорогой, над смертью, что витала вокруг. Он был как пьяный. Он опьянел с вокзального кофе.
Мелькали городки: Ковров, Гороховец, Дзержинск. Негустые перелески по сторонам шоссе, тоскливые мрачные домишки, лабазы и склады, начатые и брошенные стройки, сиротские избы, сваленные в руинные кучи бесхозные кирпичи, гниющий под ветрами и снегами тес – Митя воочию видел запустенье страны. Запустенье мерзости… или мерзость запустенья?.. он не помнил эту Евангельский иероглиф.
На подходах к Нижнему его дважды останавливала дорожная инспекция, он платил штраф – он превышал скорость, милиционеры смотрели на него как на самоубийцу: в такую-то погоду!.. Последний пост даже заставил его дунуть в проверочную трубочку. Хм, и вправду трезвый; что ж несешься как угорелый, господин бизнесмен на иномарке, жить надоело?!..
Митя въехал в город. Город как город, как все русские города; скушные многоэтажки рабочих и “спальных” окраин, поближе к центру – старые, слава Богу, не разрушенные в войну изящные дома, да вот жить в них людям тяжело – в обветшалых, покосившихся, с печным отопленьем, с коридорами вездесущих коммуналок. Это только в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке обихаживают внутренности старых домов, реконструируют их, делая удобными для жизни. У нас… Он открыл ветровое стекло, вдыхая воздух чужого города – гарь, смог, снежную свежесть, запахи жареных пирожков из ближней привокзальной столовой. Вот и вложи свои миллионы, Митя, в хорошую жизнь людей. Жалко тебе?!..
Митя повернул руль, въехал на Окский мост. Ах, это Ока, не Волга, ему уже объяснили. Надо переехать Оку, по Рождественской улице помчаться до Красных казарм, и ехать дальше, все дальше, уже по берегу широкой, спящей подо льдом Волги. И там, на склоне горы, он увидит белые кирпичные стены, храмы за стенам, кущи деревьев, заслоняющие голыми руками ветвей и стволов убежище нищих монахов.
Да, это тебе не Турин, парень, не Нью-Йорк. Митя проскочил шумную, бурлящую народом Рождественскую, с многочисленными лавками, лавчонками и магазинчиками, и пельменными и кафешками, с цветной, краснокаменной, веселой церковью Рождества Богородицы – кресты были начищены, позолочены вновь, батюшки уже готовились к Пасхе, – цепким глазом схватил нижегородскую публику: одеты все разно – либо богато и пышно, лисьи и собольи шубы, на головах у баб – шапки как митры, молодые бизнесмены бегут в длинных дубленках нараспашку, в модельной обувке от Андрэ, – либо так нище и бедно, что у Мити сердце сжималось: вот так она и живет, еще не старая дама, может, учителка или врачица, локти пальтишка подштопаны, кожаные заплатки на плечах, аккуратно начищены, не заляпаны городской грязью старые, изношенные в край сапожки – она больше никогда не купит ничего в своей родной стране, ибо это ей уже давно не по карману. Она идет гордо, она где-нибудь, конечно же, работает, и ей платят грош-копейку, и милостыни она еще не просит, но может прийти день, когда она останется одна, без детей, что пытаются ей жалко помочь, без внуков, уехавших далеко, отсюда не видно, – и тогда… А вот они и нищие, вон – у хлебного магазина, сидят на ступеньках, сгрудились, – если не денежку, так хоть хлебца дадут.
Митя закусил губу. Гнал машину, с трудом тормозя у красного огня светофора, чуть не наезжая на пешеходов. Зимняя, скорбная Волга под снегом, под серым грязным льдом. Река спит. Пристани спят. Придет лето – все оживет. Может он сам, Митя, – такая река подо льдом, и пригреет солнце, и он сбросит льды, и оживет, и еще будет жить. О, как еще хочется жить. Коте тоже хотелось жить – там, под чеченскими пулями.
Дорога пошла вверх. Машина ползла с трудом – откос оказался крутым, отлогий с виду. Показались белокаменные, изрытые временем и ветрами ворота Печорского монастыря. Митя тормознул, вылез из “мерса”, хлопнул дверцей. Побрел по наметенному сырому снегу к воротам. Навстречу ему метнулся молодой худенький послушник в подряснике, туго затянутом простой грубой веревкой.
– Вы к кому, молодой человек?.. – окликнул его послушник, озирая требовательными, щупающими глазами – что это за незнакомец такой, одет богато, на паломника или молельника вроде непохож. – У нас в монастырь сейчас вход посторонним… ну, любопытствующим там, туристам всяким, запрещен – игумен Ермолай строгий, мы тут ремонтируемся, на ноги становимся, глядеть тут на красоту особую вроде пока нечего… трудно мы живем… так что извиняйте, если груб с вами был!.. Бог спасет, идите с Богом…
– Я из Москвы приехал, – сказал Митя, отирая с лица снежную крупу, что порывами наметал сырой ветер с Волги, – я – к другу… Вы не проводите меня к игумену:.. Христа ради… – Он слегка поклонился послушнику. – Я сам у него разрешенья испрошу – увидеться…
Послушник помял худыми пальцами подрясник. Поглядел на Митю искоса. Улыбочка дрожала между его жидких русых усиков.
– А как… как вашего друга-то звать?.. он тут монах у нас?..
Митя кивнул.
– Константин Оболенский.
– Константин, Константин… – наморщил лоб юноша. Отбросил со лба мокрые, иссеченные снегом пряди. – Нет у нас отца Константина!.. Да стойте, ведь это вы сказали мне его мирское имя, а он-то ведь принял постриг, у него теперь имя другое… как и вся жизнь – другая… постойте… он из Москвы, говорите, прибыл?.. Да это же… – послушник утер нос тылом ладони, – да это же отец Корнилий, конечно! Отец Корнилий, однорукий… ну да ладно… ступайте прямо к нему в келью, если он сейчас в келье… К игумену пока не ходите – я сам ему скажу, что вы приехали, сам его подготовлю… у вас есть где остановиться в Нижнем?.. нет?.. будете спать в сторожке монастырской, у нас там все гости спят…
Ведомый послушником, Митя вошел в ворота монастыря, побрел по тропинкам, увязая в снегу по щиколотки. Юноша показал на старые палаты: вот там, по лесенке поднимитесь. Митя закарабкался по ветхой деревянной, вот-вот обрушится, выщербленной лестнице – монахи ее наспех укрепили, чтоб не падать с нее, а так ее надо было менять, другую ставить, а то и каменную сложить. По всему пространству монастыря валялись сложенные штабелями доски, широкие и узкие, тес, торчали срубы, стояли два старых грузовика, в кузовах лежали еще неразгруженные кирпичи. Игумен взялся восстанавливать монастырь не на шутку. Но все матерьялы для реставрации, для возрожденья заметал снег, посекал дождь, а рабочих рук, как видно, было мало – немного было насельников в Печорском монастыре, и людей не хватало, чтобы все успеть, чтобы стену сложить, дыру залатать, пищу в трапезной сготовить, службу по всем правилам отслужить. Митя оказался в тесном, темном коридоре. Обшарпанные стены, показалось ему, повалились на него, тьмой и нищетой сдавили его. Пахло мышами, грязными тряпками. И вот здесь… где-то за стеной… Котя?!.. Котя, привыкший к московским светским тусовкам, к спанью на чистых крахмальных простынях, к иной еде, к иному быту…
Дверь ближней кельи была открыта. Он постучал в открытую дверь наудачу.
– Скажите… отец Корнилий здесь?..
Высокий, как он сам, мрачный чернобородый монах широкими шагами вышел из кельи. От него пахло воском. Священную книгу, должно быть, читал, жег перед книгой свечу. Монах окинул взглядом Митину дубленку от Версаче, пышную дорогую шапку. Нахмурился.
– Отец Корнилий на работе. Пни корчует. Там, у монастырской стены, ближе к Волге. Там поле снегом не сильно замело, так он его расчищает, освобождает, скоро весна, все таять будет, а у нас уже эта земля под капусту готова. Капусту там будем сажать. – Монах сверкнул на Митю глазами, потеребил черную бороду. Кивнул головой. – Идите!.. найдете…
Митя попятился. Так, пятясь, и сполз с лестницы, крепко держась за перила.
Капуста… “капуста” – так проститутки там, на Тверской, на проспекте Мира, называли доллары, баксы… капуста… Котя… с одной-то рукой…
Он вырвался из затхлого запаха палат. Побежал, увязая в снегу, туда, куда указал ему чернобородый монах. И впрямь, на небольшом пригорочке, притулившемся с полуразрушенной белокаменной стене монастыря, снегу намело гораздо меньше, чем везде. Ветви тополей сплетались у Мити над головой. Здесь – тополя, там, в Палестине – терн.
И там, на белом снегу, у стены, он сразу увидел Котю – Котя стоял, сгорбившись, наклонившись низко над землей, в черном подряснике, и ковырялся одной голой рукой в земле, в сыром отволглом снегу, мотыгой вытаскивая из отмякшей земли пни, малые и большие выворотни. Деревья поспиливали, пообрубали, и только древняя, как мир, мотыга могла справиться с пнями, и Котя возился в земле, делая простую и грязную работу – мужицкую работу, от Сотворенья мира.
– Котя!.. – задыхаясь, крикнул Митя.
И побежал к нему, растопырив руки, глотая на бегу ртом воздух, молясь про себя – только бы не расплакаться, не разнюниться, как красная девица, но слезы уже щекотали ему нос, уже текли по заросшим бородой щекам, втекали в рот, солью бередя бессловесный язык – он ничего не мог сейчас сказать, выкричать, да ничего и не надо было говорить – он подбежал к нему, Котя разогнул спину, откинул руку, перепачканную в земле, захолодавшую в снегу, и они обнялись, Митя просто повис на нем, как на вешалке, и Котя крепко прижал его одной рукой к себе, тоже смеясь и плача сразу, и воскликнул:
– Митька, ну да, ты!.. ты же услышал все, что я в телефон набрехал… вот, видишь, вот так все и вышло!..
Они отстранились друг от друга. Митя оглядывал похудевшего, посуровевшего Котю. Да, побили его тут волжские ветра, погрызли монастырские мыши. Но как горит его свободный, радостный взгляд! Котины глаза… Котины ясные, будто навек детские, глаза… По лицу Мити все катились слезы. Он уже не утирал их. Он не стыдился их.
– Как ты?..
– Как видишь… Тружусь во славу Божию…
Котя тронул рукой Митину впалую, заросшую щеку.
– Как ты там, в Москве?.. и в Нью-Йорках твоих?.. Я звонил тебе – не застал…
Перед глазами Мити встало отчаянно орущее, ненавидящее лицо Иезавели, выбрасываемой им из окна. Его внутренности свела судорога неотвязного воспоминанья.
– Плохо мне, Котя. Чертовски плохо. Я… в Турине, Котя, был. Я Плащаницу видел. И мне там было виденье. Я видел… – он сглотнул, – самого… – Он не мог произнести: Христа, у него язык не поворачивался, он чувствовал себя таким грязным, грешным и недостойным. – Ну, Его… самого… И Он мне сказал… Я слышал Его голос… – Не в силах связно передать происшедшее, Митя махнул рукой. Схватил шарф, размазал слезы по лицу. Улыбнулся. – А, черт со мной, Котя. Не стою я и мизинца твоего. Ты, ты лучше все расскажи.
Котя отряхнул грязную мокрую руку, обтер о край замызганного подрясника.
– Тебе не холодно?.. вот так, налегке, все же морозец еще…
– Нет, милый Митя. Я горячий. Огонь греет изнутри. Вот здесь огонь, внутри. – Котя побил себя кулаком в грудь. – Пойдем, я тебе тут кое-что покажу. Ты должен это увидеть. А потом мы пойдем ко мне в келью, посидим, погреемся… только недолго… и пора трапезничать, вечерять, а потом у меня – служба… я сегодня вместо отца Ермолая служу в Архангельском соборе, отец Ермолай немного приболел… пойдем, увидеть это ты должен!..
Они пошли, утопая в снегу, вдоль монастырской стены. Вышли на бугор, где шумели на промозглом ветру голые тополя и липы, стуча обледенелыми ветвями, исторгая чуть слышный звон. Далеко внизу стыла подо льдом большая река.
И во все стороны, на все ветра, над огромным серым, клубящимся набрякшими снегом тучами, сумрачным, гневным небом раскинулся великий снеговой простор – родная земля, дышащая мукой, скованная страхом и горечью зимы.
У Мити зашлось сердце – так могуч и необъятен был простор. Так властно входила в душу ширь, выдувая из нее все мелкое, пустое, торговое, рыночное, денежное – весь человеческий грязный мусор, что люди привыкли считать успехом, довольством, действием. Простор молчал. Ветер гудел в ветвях. Пел над куполами Архангельской церкви. И черные птицы вороны садились на ветви тополей, как там, тогда, в Ипатии.
– Видишь, Митя дорогой, – тихо сказал Котя, оглядывая дали, – какой простор. Простор – это чистота. Человек живет не так, как должен жить. Человек ушел и от Бога, и от себя. Погляди, какой великий простор, как велик Бог, сотворивший все это. – Он повел рукой. Ветер отдул черным парусом широкий рукав подрясника, и Мите показалось на миг – сейчас ветер похватит Котю, и он улетит. – Ты видишь, Митя?!..
Митя глядел вдаль. Небо распахивалось перед ним. Небо, поля, Волга, оснеженные поля и острова, каменно, мертво застывшие посреди ледяного русла. И они – наверху, в монастыре, над рекой, живые, живущие, и кровь течет в них, как вода струится подо льдом.
– Видишь ты это, Митя?!.. – Голос Коти дрогнул от умиленья, от торжества – что это все ему дано видеть, почуять и осознать; что не только чистоган, богатство и рынок правят истерзанным безбожьем миром. – Бог во всем, Митя!.. Полюби простор. Помолись ему, как Богу своему. Ведь Он создал все это. Он создал тебя. Он создал…
Митя поморщился. Сцепил зубы. Это Бог создал его, такого, чтобы он убил в Нью-Йорке галериста, сделавшего, но так и не открывшего его выставку, и безвинную женщину, с которой он спал раньше, которую он желал и вожделел раньше, мать троих детей. Девочка Полли. Будет ли она теперь, после ужасной смерти матери, вышивать на льняных тряпочках свои пиончики и сказочные замки.
Ему захотелось упасть перед Котей на колени в снег. Он вспомнил свое виденье в Турине.
Котя крепко схватил его одной рукой за руку.
– Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное, Митя!.. Откажись от всего! Раздай себя по кускам! Раздайте именье свое и ступайте за Мной… И раздай, и ступай… Не сюда, нет! – Котя поглядел на облезлые, некрашеные купола собора. – Тебе сюда – рано… еще нельзя… а может, и никогда можно не будет… Но ты живи в миру, как в монастыре! Будь монахом в миру! Нестяжанье твое – стяжает тебе славу другую, и ты доволен будешь иным, совсем иным, поверь мне!.. – Котя обернулся к нему. Его глаза внезапно посуровели, потемнели, будто в них ворвался черный ветер ночного простора, и тучи закрыли звезды, и ни огня не мерцало в заволжских далях. – Встреть женщину. Женись. Спаси живую душу хоть одну! И ты выкарабкаешься. И все твои грехи простятся тебе.
Митя резко склонился к Коте. Припал головой к Котиной груди. Стиснул его в медвежьих объятьях. Снова зарыдал.
И так они стояли, рыдая, двое – и старший обнимал младшего одной рукой, утешая, и ветер, сырой и холодный верховик с Волги, сурово обнимал их обоих.
– Ну что ты, что ты, не плачь, – шептал Котя, поднял руку, погладил Митю по щеке. Митина шапка упала, свалилась в снег и грязь. Он наступил на нее ногой. – Или нет, наоборот, плачь, очищайся… тебе надо поплакать… ты устал… устал жить той жизнью, которой живешь…
– Котя, – сказал Митя, всхлипывая.
– Отец Корнилий, – поправил Котя, улыбаясь.
– Хочешь перекусить?.. идем в твою келью… У тебя там хоть кипятильник какой есть?.. или тут у вас и электричества нет?.. на спиртовке готовите?.. Я захватил с собой из Москвы бутерброды с икрой… буженинка хорошая, еще не протухла, надеюсь, в дороге… пить тебе теперь нельзя, я никакой водочки и не взял…
– Сейчас ведь Великий пост, Митя, милый, – тихо сказал Котя, наклонился, подхватил с земли Митину шапку, взял Митю под руку, и они в уже сгустившихся сумерках побрели по снегу назад, в палаты, и Митя все всхлипывал, все никак не мог успокоиться. – Мне в Великий пост ничего нельзя – я на сухоедении сейчас, хлебец ем, пью воду, рис вареный грызу в трапезной вместе со всеми монахами, а ты – икра, буженинка… Это соблазн. Я про все это давно забыл. А выпить – отчего ж монаху не выпить, да только в праздник великий, да только церковное вино, кагор, пасхальное. Вот Пасха будет – и все угостимся, ведь это кровь Христова, а не услажденье желудка, не охмуренье башки, Митя.
Митя брел рядом с Котей в келью, поднимался опять по выщербленной калечной лестнице и думал с ужасом: зачем все это. Зачем это самоистязанье, эта мучительная схима. Зачем человек добровольно накладывает на себя вериги, принимает муки. Человек ведь создан для радости… для счастья!.. Но ведь и он, Дмитрий Морозов, несчастен, как никто. Значит, это ДРУГОЕ СЧАСТЬЕ. Значит, он погнался не за тем счастьем.
Они сели за выскобленный дожелта ножом, чистый тесовый стол в Котиной келье. Из угла на них смотрела икона Спасителя в старом покореженном медном, нищем окладе, перед ней теплилась, в прозрачной стеклянной мисочке, полной масла, висящая на почернелых цепях красноватая лампада. Митя, смутясь, вывалил из-за пазухи свертки с московскими бутербродами. Котя даже не посмотрел на привезенные яства, даже не втянул носом дух снеди, когда Митя развернул вощеные бумаги. Он достал с полочки под столом зачерствелую горбушку, налил в чашку воды из кувшина, добыл другую чашку, поставил перед Митей.
– Святая вода, Митенька, испей, из здешнего святого источника, – проговорил Котя, улыбаясь по-прежнему светло и радостно. – Здесь неподалеку есть еще Старопечорский монастырь, там хранятся мощи святого Иоасафа. А на горах, прямо из обрывов, из круч, бьют ключи. Вокруг источников срубы поставили, там иконки висят, все честь по чести. Выпьешь – и душа серебряная сделается, Митя… это тебе не водка, не коньяк!..
Митя, стыдясь отчего-то, поднял чашку, отхлебнул. Чистый холод вспыхнул в гортани, зубы заломило. Он не отнял чашку ото рта – выпил все, до дна, как водку.
– Вот и молодец. Ешь свои закуски. А я хлебцем пробавлюсь.
Они ели каждый свою еду – и глядели друг на друга: Митя – смущенно, Котя – весело.
Они ели свою еду, и Митя внезапно подумал о том, что он хочет убить Эмиля. Ведь Эмиль – Дьявол. Инга – Дьяволица, а Эмиль – Дьявол. Дьявол Дьяконов. Он заслонился, как маской, церковной фамилией. Его предки, видно, священниками были… дьяконами, где-нибудь в сельской церквенке, на таком же крутом волжском ли, окском обрыве… Его так и подмывало убить Эмиля. Вынуть его из жизни. Он ужаснулся сам себе, своим мыслям, тому, что он об этом думает здесь, сейчас, в монастырской келье, при жующем черствый сухой хлеб радостном Коте. И он хотел сейчас же, здесь же, немедленно, сказать Коте об этих преступных мыслях. Ведь у него уже руки сами тянутся к убийству. А он сидит с монахом в монастыре, разделяет с ним трапезу.
– Отец Корнилий, – сказал он хрипло, и глаза его забегали, и он стал стискивать руки, тереть их, будто они замерзли, – Котя, дорогой… скажи… вот если человек, другой человек, не я, это я не о себе!.. – испуганно замотал он головой, – если человек украдет, если он предаст… если он… ограбит многих людей, многих, не только кого-то одного, несчастного!.. а – целую страну, целый народ… если человек наживается на своем народе, пьет из него соки, как клещ, сгребает на свои счета его деньги, если он… этот человек… ну, кругом виновен, просто кругом!.. его… его нельзя убить?..
Котя перестал жевать. Утер рот рукой. Его пустой рукав чуть шевелился на сквозняке.
– Убить?.. – переспросил он растерянно. – Зачем… убить?..
– Ответь, Котя, – пересохшими губами прошептал Митя, – это… мне это очень важно…
– Да ты, брат, побледнел как, – тревожно сказал Котя, подливая Мите в чашку еще святой воды из кувшина. – Еще попей, поешь, ты ведь с дороги. А я в трапезную пойду. Ты жди тут меня. Нет, нельзя убить, даже если человек – преступник со всех сторон. Пусть тебя убьют – а ты не убей.
– Но ты же убивал на войне, Котя! – выкрикнул Митя ему в лицо. – Ты же сам убивал!
Котя опустил голову. Уцепился правой рукой за обрубок левой, за культю, под черным рукавом.
– Убивал, – сказал он тихо. – За что и молюсь сейчас. Денно и нощно, Митя, кладу поклоны. Если не будет труда души – ничего вообще не будет. Ничего.
Митя вдруг увидел, как выпирает под рукавом подрясника культя. Его прошиб холодный пот. Паюсная икра на куске белого московского батона мерцала издевательски. Он представил, как текла, хлестала кровь из оторванной Котиной руки. За кучи баксов на его, Митином, счету Котя Оболенский заплатил своей рукой. Ведь это он сам предал его, продал, толкнул на Кавказ, под пули. Зачем же он спрашивает о том, убить или нет?! Все они преступники. И Митя – первый среди них.
– Я преступник, Котя, – он не узнал свой голос. – Я преступник. Я страшный преступник. Прости меня. Сними с меня этот страшный камень. Я не могу так жить. Я не могу больше…
Он упал головой на стол, как пьяный. Отец Корнилий сидел над ним молча, вытянув шею, как гусь, пристально глядя в пространство. Его пушистые светлые волосы из-под черной монашьей скуфьи торчали сухой соломой.
… … …
Он пробыл в Нижнем Новгороде, в монастыре у Коти, недолго. Он уехал через три дня. Все эти три дня и три ночи он пытался превозмочь себя и рассказать Коте все, как на духу. Но не смог. Сцепив зубы на замок, он уезжал из монастыря, долго заводил машину на морозе. Котя стоял рядом молча, улыбался. Когда Митя поехал, буксуя на заваленной слежалым снегом дороге, Котя поднял единственную руку и помахал ею Мите вслед.
Первое, что он сделал, приехав в Москву, – побрился, приоделся, вытряхнув на кровать из шкафа кучу своих смокингов, насовал во все карманы пачки баксов – он беспечно хранил дома наличку, набивал долларами шкафы, хоть Эмиль его и предупреждал: тебя ограбят!.. – на что Митя саркастически отвечал: гага северная птица и мороза не боится, – и двинул в игорный дом.
Он пошел в то самое казино на Тверской, где когда-то он появился впервые, обзаведясь миллионом убитой мадам Канда, где он напоролся на Лангусту, Боба и Пашку, и Пашка привел его к отцу, и все началось, закрутилось. В “Зеленую лампу”.
Рулетка. Ее неистовое верченье. Эти руки, мечущиеся по зеленой глади сукна. Одно это ему и остается. Да, он преступник. Он игрок. Так не лучше ли окунуться в омут игры с головой. Не лучше ли играть и играть, хватать от жизни все, что в ней осталось. Бог, монастырь… Сухая корка хлеба…
У Коти скоро повыпадут зубы. А он – уж лучше он будет жрать икру. И ананасы. И апельсины. И вгрызаться зубами в жареное мясо. Великий пост! Жизнь – не Великий пост. Жизнь – она всякая. Жизнь сама преступница, и она играет с нами, как преступник с жертвой, как кошка с мышью. И ударяет нас в бок ножом, и обезглавливает нас, если захочет. И кидает вниз с двадцатого этажа, и мы разбиваемся на тысячу кусков.
Он играл в казино как бешеный. Завсегдатаи пришли поглазеть на него, как на неистовое диво. Он выиграл много, еле унес деньги. А может, и ноги. Назавтра он пришел опять, опять играл рьяно, неистово, усмехаясь, скалясь в улыбке. Это был его праздник. Он оторвался. Он оттянулся. Он так давно не играл. Шарик рулетки прыгал и скакал по красному, по черному полю. Он старался забыть белое заволжское поле далеко за рекой, у подножья монастыря. Он хотел забыть снежное поле, по которому к нему шел Он, босой, улыбающийся, светлый. Все это детские сказки, старушечьи утехи. Кому нечем жить – тот живет Богом. А он еще молод. Он еще будет жить жизнью. И сам будет играть с ней в кошки-мышки. И сам будет крупье, будет бросать шарик и запускать волчок. И тасовать колоду. И сдавать карты. И когда выпадет черная карта – он побьет ее красной, кровавой.
Люстры тускло горели в табачном дыму под потолком. Зеленое сукно отсвечивало серым, мышиным, грязным. Он выигрывал все времч, напропалую. После игры он шел в кабак и заказывал вино, много вина, коньяки, лучшие блюда; вокруг него вились игроки, соперники, прихлебатели, собутыльники, и он всех поил и угощал. От него не убудет! Сегодня он – в выигрыше… В фаворе…
Ах да, Фавор. Котя читал ему вслух из Евангелия – тоже отличный сюжет для живописца, Преображенье Господне на горе Фавор. В центре стоит Христос, во всем белом, как снег, по обе руки от Него – Моисей в ярко-розовом хитоне, пророк Илья – в небесно-голубом. Очень красиво. Если б он был иконописец, он бы обязательно такую картинку написал. И повесил бы в любом монастыре; а кстати, иконы ведь сейчас, хорошие иконы, дорого стоят?.. да, дорого, хорошие иконописцы живут совсем неплохо, ну, не как Митя, конечно, но по сравненью с повальной нищетой – зажиточно, крепко, сытно едят и пьют, детей выучивают… а не заделаться ли тебе, Митька, богомазом?!.. а зачем?.. делать тебе, что ли, нечего…
Ему нечего было делать.
Он играл и пил, кутил ночи напролет, опять вызванивал знакомых цыган, и они таскались за ним по всем московским кабакам, где веселился Митя с шапочными знакомцами. Он однажды забрел, по старой памяти, на Ярославский вокзал: о, вокзал!.. на вокзале ведь тоже есть ресторан для пассажиров, а сейчас везде кабаки недурные, почему бы и тут не посидеть!.. и у входа натолкнулся на худенькую девочку с большим, растянутым в глуповатой улыбке ртом – девочка, одетая в короткое нелепое платьице с блесточками, пыталась войти в ресторан, а толстощекий охранник в темно-красном кургузом пиджаке отталкивал ее плечом, оттискивал, корчил ей рожи, плевал в нее: уйди!.. пропади, дура… подцепи себе мужика где хочешь… на перроне… здесь приличный ресторан, сгинь, оборванка…
Митя оттеснил плечом молодого мордастого цербера. Потом затолкал ему в нагрудный карман купюру. Потом – галантно поклонился, жестом приглашая проституточку: прошу, пожалуйста. Усадил ее за стол, набрал разных кушаний, глядел, как она жадно, запихивая в ротик рукой мясо, зелень, куски хлеба, ест, запивая вежливенько, как птичка, еду из длинного бокала апельсиновым холодным соком. Жалко ему ее стало. Он видел: цыпки на руках, красные от холода пальцы, худая утиная шейка, большой уродливый рот, кто ж такой поцелует.
Вокзальная девочка, тяжелый ее хлеб. Берет копейки, отдается в заброшенных, старых, замерзших на путях вагонах, а то и под вагонами. Как трудно ей переживать зиму. Летом оно сподручней, теплее. Он предложил ей: поживи у меня немного. Отдышись. Она не поняла, закивала головой, над висками у нее в баранки были скручены косички – или играла в школьницу, для понту, мужики же любят молоденьких, или правда бросила школу вчера, – быстро согласилась: думала: мужик приглашает к себе домой на ночь. Даже о цене не сказала.
Когда он сажал ее в “мерседес”, она вздохнула, погладила красную обивку: президенты в таких тачках ездят!.. Он привез ее, затолкал в ванную, постелил все чистое в спальне Изабель, сам ушел спать к себе.
Посреди ночи она явилась к нему, робко стояла на пороге, спрашивала: вы побрезговали мной, что ли?.. да я не заразная… я все время с этими, ну, с предохраненьями… я слежу за собой, моюсь… я боюсь – вы мне не заплатите, прогоните меня!.. Он повернулся на другой бок, сказал ворчливо: провались. Живи здесь, ты что, не поняла. Я никуда тебя не выгоню. Она где стояла, там и села на пол – на пороге его спальни, и развившиеся тонкие коски заструились у нее по мосластым плечам.
Он кормил-поил девочку, одевал-обувал. Каждый день она принимала горячую ванну. Посвежела. Похорошела. Отоспалась. Он вывозил ее в театры – во МХАТ, в Ермоловой, в Сатиры, покупал билеты в кино, читал ей книжки вслух – те самые жуткие ужастики, что приобрел однажды оптом у сопливой пацанки в солнечный день на Красной Пресне. Он не спал с ней. Она спросила его однажды: “Почему вы не спите со мной?.. я же такая легкая, доступная… я же – со всеми… там, на вокзале…” Митя недолго думал. Слова выскочили из него сами, как мячики. “Потому что я хочу на тебе жениться”. Она упала перед ним на колени, как перед божеством, и заплакала. Он сморщился, как от боли, ему это было неприятно. Он поднял ее с колен под мышки, утер ей слезы носовым платком.
Отдыхай, твердил он ей каждый день, отдыхай и забывай прошлое. Когда ты окончательно забудешь все, что было – тогда мы с тобой будем играть в другую игру. Он собирался каждый вечер сам играть – в свою, в любимую игру, в привычную. Заводил машину и ехал в казино. Девочка попросила его робко: “Бросьте играть!..” Он обрубил: не могу. Это мой наркотик. Я уже наркоман. Уж лучше бы я кололся. Быстрей бы загремел на тот свет. Я люблю игру и деньги, деньги и игру. Я не брошу их никогда. Тебя – брошу, а их – нет. Она засмеялась испуганно – будто странная птица заклекотала.
Девочку звали просто и слащаво – Милочка. Он отвлекался девочкой Милочкой от навязчивого своего бреда. Он все время, постоянно хотел убить. Он хотел убить Эмиля. И разговаривал с ним, и при встрече и по телефону, все любезнее, все ласковей. Он забивал себе голову заботами о Милочке – а ночью, падая в постель, он стонал, плакал, грыз подушку, бил по одеялу кулаками, отгоняя от себя прочь виденье: мертвый Эмиль, и он перед ним, и глядит, как зверь, на свои руки. Однажды ночью, когда он вот так стонал и ворочался в бесконечном кошмаре, Милочка сама пришла к нему и нахально влезла под одеяло. Она просто сама больше не могла ждать. Когда он втиснул свою жалкую плоть во чрево этой маленькой проституточки с Ярославского вокзала, он заплакал. Он понял, что уже недостоин ее. Он почувствовал – он обречен. И с неистовой, с пронзительной жадностью, с жаждой всего себя вылить, излить, выпростать наружу в торопливой неловкой ласке, он целовал ее щеки и крохотные, как у цыпленка, грудки, он покрывал поцелуями жалкие косточки ее ключиц, ее впалый животик, он бился в нее, как бьются в закрытую дверь, ломился сквозь нее, худышку, утенка, к той Великой Жалости, что движет мирами, – и не мог проломиться, не мог войти в навек закрытые врата, и только бормотал: прости меня… прости меня!.. “За что простить-то?.. – не понимая, спрашивала девочка. – Это вы меня – простите!.. это я – плохая… А с вами – так хорошо…” – “Если я умру, – вышептал он ей в ракушку уха, – вышей мне, пожалуйста, длинную и широкую плащаницу, вышей ее звездами, снегами и сугробами, и заверни меня в нее, когда меня будут класть в гроб”. Девочка не на шутку испугалась, отпрянула от него в ночи. Ее косички золотыми ниточками светились на подушке. “А что такое – плащаница?.. плащ, что ли, такой?..” – спросила она, удивляясь и стесняясь. Он перевернул ее на живот и проник в нее еще раз, осторожно, нежно, стараясь не причинить ей боль.
На следующий день они пошли в контору, он заплатил деньги, и им в паспортах сразу, услужливо, без положенного законом ожиданья, тиснули печати – и эти чернильные штампики свидетельствовали, что они теперь муж и жена. “Дмитрий Морозов и Людмила Морозова, поздравляем вас с законным браком”, – тускло, вяло промямлила толстая чиновница, пожимая им руки, и Мите захотелось смазать ее по лицу, ударить по затылку чем-нибудь увесистым, чтобы баба вздрогнула и сказала что-нибудь человеческое, а не машинное.
Чтобы отметить день свадьбы, Митя купил им обоим билеты в Большой театр. Милочка никогда не была в Большом – с чего бы это ей там бывать?.. “А эти кони на нас не упадут?!..” – завопила она испуганно, когда они очутились перед мощными колоннами театра и она, задрав голову, увидала над фронтоном чугунную квадригу, несущуюся в вечность, управляемую Аполлоном. Митя поддерживал ее под руку, и в его душу прорвалось, наконец, невероятное. Он задрожал весь от нежности и жалости. Он задрожал над Милочкой, как над ребенком, как над своей дочкой; будто бы ей сказали, что отец умер, а он нашелся, и вот они свиделись, и вот он трясется над нею, над найденной, а она, закинув головку, робко, заискивающе улыбается ему, боясь, что он опять исчезнет, уйдет.
Да, он привел ее в Большой театр, как когда-то привез Изабель; да, он купил им обоим ту же ложу бенуара, где сидела тогда Изабель, словно искушая судьбу – раньше судьба все время искушала его, а теперь он искусит ее, такой уж он дерзкий.
И “Кармен” давали – как тогда.
Как изменилась публика. Как много в Москве, оказывается, богатых. Да, этот город – столица богатых, и все разодеты, и дамы в мехах и брильянтах, и сытые подбородочки вздернуты над связками жемчугов и кораллов, и запястья обняты тяжелыми золотыми браслетами – каждый из таких вот браслетов стоит автомата Калашникова, стоит… Да мало ли чего и сколько стоит! Жизнь человека сейчас не стоит ничего. Если тебе надо – найми киллера. И заплати ему двадцать, тридцать, пятьдесят штук баксов. Всего-то. И работник сделает работу. Он убьет того, кто тебе неугоден. И тебе самому трудиться не придется. Ручки пачкать. Ах, как русский человек не любит пачкать ручки!.. А что еще любит русский человек?.. А еще он любит богатство. Медом его не корми – а богатство давай. Особенно такое, что неправедно нажито.
А женщины, как наши женщины любят меха, соболей, норок, плечики укутать в шиншиллу, как любят блеск граненых алмазов на груди, сережки с цирконием в ушках!.. Да разве только наши женщины?.. А итальянки не любят?.. А француженки не любят?!.. а американки… И разве только в тряпках и в камешках все дело?.. Человек в своем богатстве любит защищенность. Оно защищает его от ужаса жизни. От черного ледяного мрака, что обнимает его, едва он выйдет за порог: от тьмы нищеты, от ее зубастого, глазастого призрака, что подстерегает за углом тебя – с ножом, с удавкой в тощей руке.
Они с Милочкой прошествовали в свою ложу, расположились, Милочка с восторгом глядела на гомонящую публику, на сцену, закрытую тяжелым, знаменито расшитым парчовым занавесом. Первый раз в театре! У нее в зобу дыханье сперло. Митя приодел ее знатно – жена известного всей Москве мафиозо Морозова сидела в ложе в белых перчатках до локтя, в том самом белом платье, похожем на распустившуюся лилию, в котором была в своей последний вечер в театре бедная Изабель; Митя сам вытащил платье из шкафа, сам надел на жену, посмеиваясь – мертвые только радуются, когда их вещи носят живые.
В ушах Милочки, в маленьких мочках, нестерпимо, на весь театр сверкали алмазные серьги Императрицы Марии Федоровны – последняя драгоценность старухи Голицыной, что Митя извлек из наволочки, валявшейся под кроватью. Когда он ввинчивал серьги дома Милочке в уши, она визжала, как свинья. А теперь на нее в театре все оглядывались, и не помехой был ее большой рот, и не помехой – худоба. Одень женщину, любую, подзаборницу, бомжиху, хорошо, и она станет красавицей.
Он спросил ее: ты проголодалась?.. Она смущенно кивнула головой. Я сбегаю в буфет, куплю тебе шоколадку, бутербродов с икрой, зефир и воды, ладно?.. Она не была против. Он вскочил, побежал в буфет, обернулся на ходу. Она, сияя, смеясь, слегка привстав над краснобархатным креслом ложи, послала ему воздушный поцелуй. Так, кажется, делают дамы высшего света?.. Она же теперь дама. Она должна вести себя как дама. Ее старая мать, живущая в клопиной “гостинке” на метро “Динамо”, и верить не верит, что ее замызганная вокзальная шваброчка подпрыгнула так высоко. Шамкает: тебя все равно вышвырнут оттуда, Милка, все равно турнут, не потерпят, тобой просто играют, как фантиком, а ты и довольна. Какие прелестные, мягкие белые перчатки. Их нельзя снимать, она будет есть еду, что Митя принесет из буфета, прямо в них. Ох, запачкает… если бутерброд будет с жирной рыбой… Она повернула голову, и серьги в ее ушах снова просверкнули, длинная молния золото-синего света ударила из них вдоль по креслам партера, по глазам глядящих на нее зевак.
Митя целых полчаса толкался, протискивался сквозь веселую театральную толпу в буфете, вдыхая дамские терпкие духи, упираясь локтями в чьи-то мягкие животы и груди, добывая бутерброды и шипучку. Когда он, запыхавшись, с яствами в руках, прибежал назад, в ложу, и открыл дверь с белой изящной лепниной, он увидел: Милочка сидит в ложе мертвая, с улыбкой на лице, с остановившимся взглядом. Бутерброды, бутылка выпали у него из рук, шмякнулись об ковер. То же сапожное шило, которым проткнули Изабель, торчало у нее в сердце, под левой лопаткой. Ее мочки зияли сиротскими дырками. Алмазных серег в них не было.
КРУГ СЕДЬМОЙ. НИЗВЕРЖЕНИЕ
Встать. Поднять свое бренное, ненужное тело с постели.
Пойти.
Пойти туда, где тебя не ждут.
Он застывал перед зеркалом, охорашиваясь. Какая мерзкая рожа. Он отводил рукой со лба черные, с проседью, пряди. Ему под тридцать, ему нет еще и тридцати, а у него морда прожженного, порочного старика. Плохо загримированного Мефистофеля. Потрепанного волка из Московского зоопарка.
Сейчас мы эту рожу слегка освежим. Одеколон. Дезодорант. Увлажняющий крем. И сто грамм коньяка на дорожку. И семужкой закусить.
Да, вчера была бурная ночь. Бурнейшая из бурных. Он окунулся в дикое варево черноты. Красные огни вожделенья колыхали его, били молнии в грудь. Сколько тел сплеталось во вчерашней оргии?.. Он не считал. Рим должен гибнуть роскошно. На голых девицах были даже на ногах, на щиколотках, браслеты – он такие видел впервые. Каждый что-нибудь видит впервые. Он не считал, сколько губ раскрылось перед его губами, сколько рук обнимало его. Груди и ягодицы менялись местами. Если б он был художник, он бы нарисовал на одной девичьей ягодице рожу, на другой – другую. И заставил бы девушку плясать, чтобы рожи тряслись, подрагивали щеками, кривлялись.
Набрать номерочек. “Девицы по услугам”. Как много в Москве подпольных борделей. Наверняка больше, чем в Париже. Ах, бедная Изабель, ты была такая порядочная. Ты бы никогда не подумала, что твой муж окунулся, как писали в старинных романах, в омут разврата. А может, ты видишь все с небес?! Такого, что он видит теперь каждый день, каждую ночь в недрах роскошной блудодейной столицы, не увидишь никогда.
С похмелья бы не врезаться в “мерсе” в светофорный столб, не сшибить какую-нибудь зазевавшуюся тетеньку с кошелкой. Как это он до сих пор не расколотил машину в пьяном виде, возвращаясь из борделей и с попоек, непонятно. И как его до сих пор не пристрелил Бойцовский за все хорошее, тоже странно. Его уже давным-давно пора пристрелить. Он зажился на свете.
Как они обнимают, эти легкие девочки. Очень крепко обнимают. Какие они неутомимые. Вся жизнь – в дрожи, в содроганьях, в тряске голых тел, не знающих, куда себя девать, чем бы еще заняться. О нет, они знают очень хорошо, хитрюги. Они получают за это занятье баксы. Много баксов – от многих клиентов. И любая из них когда-нибудь накопит на квартиру, и пристроит детей в элитные школы, и в свой законный полтинник будет тянуть на гранд-даму, и все ее друзья забудут, что она когда-то была грандиозной валютной стервой, задирала ноги по первому вызову туго набитого кармана.
Он спускался по лестнице, чуть качаясь, как и надлежит прожигающему жизнь. Прожечь жизнь! Что может быть красивее?.. А вот еще красивый жест – снять со счета тысчонок эдак сто баксов и сжечь их перед очаровательной Наташкой… перед тигрицей Манон… перед любой голозадой тварью. Все они твари. И он – тоже тварь. Але!.. Манон!.. Да, еду к тебе. Купить чернослива?.. И лимонной “смирновки”?..
Тела, сплетенные тела. Ты, художник, ты помнишь, как змеи обвивают нагие тела отца и двух сыновей на той античной страшной скульптуре. Тела – тоже змеи. Женщина – это змей. Не змей совратил Еву; Ева, сама змея, совратила их обоих – и змея, и Адама. Еще немного, и она совратила бы Бога. Она кипела и брызгала сладострастьем, она вся была – кипящий котел, и в ней клокотало варево ее женского безумья.
А он – мертв. Он пытается влить в себя обжигающую каплю женского безумья, чтобы заразиться, чтобы опьяниться и погибнуть в захлебе, в пыланье; не выходит. Он мертв, и он едет сейчас на оргию, потом на другую. Как много порочных увеселений в Москве; а в других городах Земли?.. В Риме?.. Париже?.. Лондоне?.. Нью-Йорке?.. Пекине?.. Каким небрежным жестом стаскивает с себя одежды красивая тварь, купленная им за тысячу баксов. Как грациозно ложится, расставив ноги, на стол, между блюдами с горами фруктов, чтоб он – и другие, кто вместе с ним – могли лицезреть ее плоды, дольки ее красных апельсинов.
Порок изящен и красив, порок опьяняет, он изыскан и лукав, – а через минуту он становится груб и страшен, и тела содрогаются в бешеной зверьей пляске, и разбитая посуда летит в стороны, и осколки впиваются в голое тело, и ужас, когда тебя душат и бьют, внезапно взрывается преступным, адским наслажденьем.
Жизнь – извращение. Жизнь – плетка в руке Бога, поднятая для удара, и, корчась под ударом, ты испытываешь преступное счастье. Он слишком поздно понял это. Ему был дан шанс – он пропил его, прокутил, прогулял, проспал в обнимку со знаменитой валютной шлюхой на Тверской, 20. У тебя сменился телефон, Манон!.. Дай я запишу новый!..
Сотовый в его нагрудном кармане звенел назойливо. “Остановись!.. – визгливо кричал в трубку Эмиль. – Я же вижу, как ты гибнешь!.. Я ведь твой приемный отец, дурак, я обязан предостеречь!..” Ты мой приемный вор. Ты мой приемный идиот. Я никогда не прощу тебе. Никогда. “Ну… прости меня!.. Мы с тобой придумаем вместе, что сделать с картиной!.. Она просто жжет мне руки, ведь ты тогда в Нью-Йорке…” Митя с улыбкой нажимал на кнопку. Как это удобно: был голос – и нет его. Был человек – и…
Две, три ночи проведя в конвульсиях и воплях разнузданной страсти, он сутки мог просидеть в сауне, парясь до одури, смывая с себя грязь и пот многих тел, выпаривая чужие шепоты и змеиные обольщенья, чужие мусорные мыслишки, въевшиеся, как синяки засосов, в кожу. Потом опять бросался с головой в водовороты веселья, больше похожего на истязанье. Ему представлялось: арена, опилки, амфитеатр, полный улюлюкающего, кричащего народу, и он сражается с дикими тиграми и львами, и вперемешку со зверями на арену выгоняют косматых людей, чтобы они убили его, и все это – женщины, они скалятся и хохочут, показывая хищные белые зубы, хотя тут и мужчины есть тоже, и они вооружены, у них в руках – сабли, самострелы, пушки новейшей конструкции, ножи “Золинген”, у иных – и базуки, и АКМ, и все это наставлено на него, все это метит в него, целит, и он отбивается, а отбиваться-то и нечем – у него в руках просто сетка с трезубцем, просто старая рыбачья сеть с Байкала, просто старая дедова острога, с которой он ходил на тайменя. А из АКМ уже палят в него, уже огонь поливает бешеными молниями, взрывает опилки, песок! И у него из всего оружья остались только руки. Ну да, ведь руками он убивал. Он душил руками. Он руками выбрасывал из окна. Это просто чудо, что его до сих пор не нашла американская полиция, не прижучил Интерпол. А чудо-то простое, как лапоть, Митя. Эмиль откупился от Фемиды. У него хватило пороху откупиться. А у тебя не хватило – простить его.
Эмиль улетел в Париж. Эмиль Дьяконов затеял непростую и очень опасную игру. Россия давно должна была и Европе, и Америке по всем счетам – Эмиль придумал, как можно безвредно выплыть с такой глубины, где при стремительном всплытии может начаться кессонная болезнь.
Эмиль посвятил Митю в намечающийся ход своих действий. Митя, вялый, как пельмень, после очередной оргии с девочками, слушал сначала вполуха, потом проснулся. И уже не задремал. И запомнил все, что Эмиль говорил ему.
Да, начинается новая игра. Начинается, судя по всему, Большая Игра. И в нее стоит поиграть. Хватит Игры Площадной. Она кончилась. С ней покончено. Внезапно, разом и навсегда. Начинается Игра Аристократическая.
И он, Митя, смело может ставить на кон в этой последней Игре свою жизнь.
А не жирно ли будет, Митенька, дружок?..
Он, закрыв глаза, слушая, как из подземелья, мрачный голос Эмиля, излагающий версии pro e contra, увидел: откос над рекой, снежные дали, зализы ледяных излучин, перелески и острова, серые мрачные тучи, простор и воля. И Котя, отец Корнилий, одной рукой, выпачканной в земле, утирает потный лоб, и пустой рукав треплет ветер. Нет, не жирно. Котя поехал на войну, чтоб оправдать себя перед Богом, не вынеся ужаса предательства. Он останется здесь, в Москве, и поставит на кон в игре свою жизнь, чтобы сразиться с теми, кто сделал его таким, каков он стал сегодня.
… … …
Он снова стал блестящим, лощеным, умным, светским, хитрым. Он стал таким, какой он был тогда в Париже, когда они с Эмилем устраивали его парижские дела, когда очарованная им Изабель бросилась ему на грудь – молодым умным волком, еще не вожаком, но знающим, что он станет им, ведущим своих верных волков за собой след в след. Он делал абсолютно точные ходы в начавшейся в России политической игре, и даже Эмиль удивлялся ему. “Да, Сынок, преображенье, ничего не скажешь, – восхищенно качал он головой, – преобразился ты – на все сто.
Скажи, ты, случаем, не подшился?.. Или в классных саунах сутками потел?.. Или – закодировался у лучшего экстрасенса?.. Или ты – это не ты, а… твой двойник?..” Митя улыбался. Игра только начиналась. В ней важно было не проиграть. Победителей, как известно, не судят. А проигравшему в игре была уготована только смерть – ничего более.
Он начал с того, что сделал точный ход в сторону Бойцовского. Он предложил ему свои услуги в переводе крупных сумм денег на зарубежные счета – швейцарские, французские, итальянские, американские, – он уже знал в этом толк. Он сказал Бойцовскому, игриво подмигивая: я никогда не забуду, Боря, что ты сделал для меня. Бойцовский подумал: благодарит за пятьсот миллионов, заплаченных за предательство. И не знает, что это я поспорил с Прайсом на твою жену. И мы оба проспорили. И мы сделали то, за что ты не так бы нас благодарил.
Бойцовский согласился на удивленье быстро. Он и знать не знал ни сном, ни духом, что собирался сделать Дмитрий Морозов.
Морозов собирался занять его место.
Морозов собирался, вместо Бойцовского, сам, один, станцевать дикий танец победы на развалинах страны, еще мнящей себя могучим государством, а на деле – корчащейся в жадных руках мафии, как корчится валютная проститутка, раскинув ноги, на уставленном яствами бордельном столе.
А Зимняя вечная Война все шла и шла. А люди на Кавказе все гибли и гибли – Грозный взяли, но началась изматывающая, жестокая партизанская война, боевики прятались в горах – и чеченцы, и наемники, – Запад неустанно вваливал деньги в эту доходную кампанию, Россия горделиво задирала нос, бомбы падали на города, пули свистели из-за горных склонов, снайперы устраивались на вершинах и скалах, усаживались под крышами восстанавливаемых домов, – на восстановленье разрушенного правителями бросались деньги, деньги, деньги, а солдатики, а молоденькие ребята подрывались на зарубежных минах, за которые и производителям, и продавцам тоже платились деньги и деньги, – и деньги, немеряные деньги шуршали в холодном воздухе, падали на разбомбленные города снегом, устилали зелеными платами снежные похоронные пути с рыдающими у гробов матерями, со склонившими головы перед прахом генерала скорбными офицерами.
Деньги облепляли человеческую жизнь, ими вся жизнь обклеивалась, как обоями – клопиная плохая комнатенка, на деньгах ели и пили, деньгами укрывались вместо одеял.
И Митя понимал: он обладает такими деньгами, что не втереться ему с ними без мыла в Мировое Правительство – просто позор.
Наступало новое Средневековье. Все делилось, все дробилось на части. Целого больше не существовало. Надо было захватывать землю, пока она, брошенная, залитая кровью, на переломе веков, времен плохо лежала; надо было захватывать власть, пока все, кто рвался к ней ежечасно, передрались и перегрызлись, а настоящая власть принадлежала тем, у кого больше всего денег было, кто мог купить страну со всеми потрохами, со всеми заводами и полями, со всеми идеями и безумьем, – со всеми бедными жителями, задирающими жалкие головенки к небу: Боже, не летишь ли Ты к нам нас спасать, не наступает ли время Твоего Второго пришествия.
Нет, не видать было Бога. Впереди было хорошо видно – империя погибла, и труп смердит. И Бойцовский, и Прайс, и иже с ними – были черные вороны, слетевшиеся на последнее пиршество. И Митя захотел быть самым главным вороном в молодой стае. Дьяконов – старик. Его время уже уходит, ушло. Игра наступает жестокая и серьезная меж молодыми, идут новые солдаты под началом новых генералом, строится Новая Империя – лютая, жесткая, с железным каркасом, с прищуренными взглядами ее верных легионеров. Такая – не снилась никакой старой России, ни монархической, ни думской, ни краснозвездной, ни лапотной, ни тупо-бетонной. Империя, поделенная на банковские ячейки. Кто будет пасечник?! Тот, кто быстрее всех вычерпает мед для нового летящего, гудящего черного роя глубокой деревянной ложкой.
Игра началась, господа, и ставки сделаны. Он засучил рукава черного смокинга. Он начисто вымыл свою машину. Он постригся в лучшем салоне. Он заколол рубаху алмазной булавкой.
Он нанял шпионов, чтобы четко и подробно проследили за Бойцовским – куда он ходит, с кем и о чем разговаривает, что делает. Он заплатил им бешено. Превысив все возможные ставки. День Бойцовского был расписан для него по секундам. Он даже знал, когда он пребывает в отхожем месте; когда – кувыркается с очередной девицей; что он ест на завтрак. В шпионскую сеть слеженья за олигархом были вовлечены все – от булочницы до личного портного Бориса.
Деньги текли рекой, река денег текла и шуршала, и сведенья поступали точные и в срок. Он выяснил, что Бойцовский вел двойную игру, как и следовало ожидать. Борис начал перекачивать суммы с российских казенных счетов прямиком на Запад, минуя посреднические услуги Мити.
Шпионы доложили Мите, что Бойцовский подписал важные бумаги, содержанье которых сводилось к одному: страна будет поделена на финансовые регионы, и права регионов будут приравнены к колониям, и в роли колонизаторов выступят сильнейшие денежные компании, промышленные монстры и мощные финансовые корпорации мира.
Митя читал распечатанные на принтере названья фирм и концернов, и у него рябило в глазах. TUSRIF, “General motors”, CHS “Electronics”, Merisel CIS… Это те, кто через два года, через пять, десять лет будет владеть им и его страной. Хорошо, Боря. Ты играешь в закрытую. Он поиграет с тобой в твою игру. Но потом он сдернет маску. Он не будет ждать, морочить всем голову, так, как Инга. Он сдернет маску. Но только после того, как без хитростей, напрямую, в лоб, твоим же хищным способом, которым ты, веселый игрок, убрал с дороги сотни жизней, убьет тебя.
Он нанял хороших профессиональных убийц. Они согласились на его условия с ходу. Они затаили свое изумление. Он положил им цену, которую никто из заказчиков, среди которых попадались и именитые, и богатые, и тайно, и явно известные на всю страну и за ее пределами, никогда не давал.
Киллеры даже боялись вздохнуть, сказть хоть слово, чтобы заказчик не передумал, чтобы не снизил цену. Митя глядел на лица убийц. Ничего особенного не было в этих двух мужских лицах – ничего мрачного, угрюмого, устрашающего, злобного или жуткого; серьезные молодые люди, одному – под тридцать скорей всего, как ему, другой назвал год своего рожденья, когда Митя поинтересовался: ему было тридцать три. Как Христу, подумал Митя, и кривая усмешка обожгла ему рот. Зачем они убивают?.. Да чтобы заработать. Чем это заработок лучше или хуже какого-то иного?.. Бывают люди, которых надо и впрямь убрать с дороги. А вы никогда не думали о том, что это – живой человек, что вы стреляете в живого человека, а у него – жена, дети, мать, сам он, наконец, со свогими мыслями и чувствами, со своей… ну… бессмертной душой?.. “Бессмертная душа, – хохотнул тот, что помладше. – Вы уж только нам о бессмертной душе не говорите. Вы нанимаете убийц и читаете им проповедь, да?.. Мы совсем не думаем об этом, господин Морозов. Мы – работаем. Это наша работа. И мы стараемся сделать ее как можно лучше”. Митя опустил голову. Хорошо, что эти серьезные ребята не видели его глаз.
Ему хотелось крикнуть им: я тоже убивал, убил, я тоже – как вы! Такой же… Нет, ты не такой, Митя. Ты другой. Ты убивал из-за наживы. Из-за своей глупой жажды разбогатеть. А ребята просто живут и выживают. Крупное политическое убийство стоит тридцать тысяч баксов. Ты им обоим дал по сто тысяч.
Сто тысяч долларов – квартира в Москве.
И совсем не в центре, а на окраине.
Если у них самих квартиры уже есть – выстроят детям. Это просто рабочие лошади безумного мира. Они все снайперы, биатлонисты, победители соревнований; у них крепкие нервы, хороший глаз, холодный разум. И ты совсем не знаешь, стонут ли они по ночам в постели, плачут ли, рвут ли на себе волосы. Это – их тайна. Не суйся туда.
Ребята сработали чисто. Бойцовский был убит в собственной машине, по дороге домой, когда остановил шофера на перекрестке Столешникова и Петровки, чтобы забежать в знаменитую кондитерскую “Восточные сладости” и купить там сливочное полено к чаю, шербета и пастилы. Напротив того дома, где он крючился от холода под вытертым одеялом в темной дворницкой каморке, жалкая лимита; рядом с тем домом, куда он ходил к Иезавели, чьи косточки давно сгорели в американском крематории. Два выстрела с двух сторон, и оба – в голову, и смерть наступила мгновенно, Бойцовский даже не понял, счастливец, что с ним случилось. Неужели человек не понимает?.. Неужели в самый последний миг, в кроху отведенного сознанью времени, человек не хватает мыслью этот дикий ужас – он живет последний миг, последний, последний?!..
Когда киллеры убивали Бойцовского в машине, другие ребята, купленные Митей, похищали из сейфа Бойцовского в Кремле его бумаги. Через час бумаги уже были в руках Мити. Ему сообщили: Бойцовский убит. Бумаги затряслись в его замерзших пальцах. Какая затяжная зима в этом году – как прыжок с нераскрывшимся парашютом.
Шпионы откланялись. Они были уже вознаграждены. Все каналы были забиты криминальными новостями из Кремля. Он хорошо, классически замел следы. Эмиль научил его этому. Дверь захлопнулась, как капкан. Все, Митя, ты в капкане. Ты в клетке. Тебе не выбраться. Он снова схватил рассыпанные по столу бумаги, уперся в них. Ничего не понимал. Все помутилось, поехало, поплыло. Пурпурово-серые круги расплывались вместо черных жучков букв и цифр. Он заплакал. Скомкал бумаги в руках. Стукнулся лбом о столешницу. Сумасшествие вернулось к нему.
Обезумев, весь дрожа, обводя бегающими выпученными глазами пустую гостиную, шарахаясь от неясных теней по стенам, пугаясь своего отраженья в зеркале, слушая, как бешено колотится меж ребер сердце, он сжег бумаги Бойцовского в пепельнице.
Была глубокая ночь, когда на весь особняк раздался пронзительный, верещащий звонок. Он поднял голову от стола, вздрогнул. Все это время… он просидел вот здесь… вот так?..
Он пошел к двери, шатаясь, как в стельку пьяный. Открыл. На пороге стоял Эмиль. Лицо Дьяконова было изголуба-бледно. Неподдельное беспокойство читалось на нем.
– А, Папаша. Я удивлен твоим столь поздним визитом. Что-то случилось?..
Он глядел на Эмиля сверху вниз. Эмиль гляде на него снизу вверх.
– Я приехал, потому что мне показалось… это дурь, конечно… это моя блажь… что тебе – плохо. Я места себе не находил. Сел в машину и поехал. Я звонил. Телефон не отвечал. Я набирал номер сотового. Ты что, оглох?.. Ты потерял сотовый?.. Тебе… плохо?..
Митя пожал плечами.
– Заботливый. Зря утрудился. Мне хорошо.
Они оба прошли в комнату. Эмиль вскинул голову.
– Что это за портрет?.. а, понятно… Первая жена, вторая жена…
Со стены гостиной на Эмиля смотрела из рамы худенькая Милочка – совсем не в бальном белом платье, не с жемчужным ожерельем на шее, не в алмазных Царских сережках; Милочка стояла под хлещущим дождем в прозрачном целлофановом дождевике, подняв головку, как мокрый щеночек, улыбаясь испуганно розовым большим рыбьим ртом, придерживая худыми ручонками плащ. Ее ноги были обуты не в стильные парижские “лодочки” – в резиновые, до колен, сапоги. Вечная Хендрикье, она и до конца будет по жизни сопровождать его. Эмиль пожал плечами, оценивающе хмыкнул.
– Мог бы уж и приукрасить девушку. Что ты тут ее совсем уродкой изобразил. Ведь все-таки она жена тебе была. Хотя я до сих пор не понимаю… после Изабель – какая-то шмара… с Ярославского вокзала… Да, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит…
Митя, казалось, не слушал. Он сел за стол, спиной к Эмилю. Запустил руку под рубаху за пазуху, пощупал холодными пальцами образок святого Дмитрия на груди.
– Сколько человеку ни делай добра…
– Уваливай.
Эмиль, тяжело ступая, подошел к столу. Побоялся зайти и поглядеть Мите в лицо. Отчего-то он боялся посмотреть ему в лицо.
Люстра, сработанная в виде белых лепестков распустившейся озерной нимфеи, тихо светила нежным золотистым светом на их затылки, в их лица.
– Что ты, Митя, – резко осевшим, внезапно глухим, усталым и печальным голосм сказал Эмиль, и Митя почувствовал, как он стар и устал. – Я же к тебе по-человечески. Что ты меня гонишь. Мы же сами себя… – он задохнулся. – …давно уже изгнали… из Рая. Да и был ли он у нас, Рай-то. Может, Рая-то и не было вовсе. Не прогоняй меня вон. Ты сердишься… на картину?.. Черт ли в ней, в картине. Я к тебе как к человеку пришел.
Он пришел ко мне как к человеку. А я уже не человек. Я не человек.
Он говорит о картине. О какой картине?.. Я не знаю никакой картины. Да, он у меня украл картину. Какую, не помню. Я жил в Раю, а он выгнал меня. Это он, он выгнал меня. Этот человек. Он причинил мне страданья. Он хитер. Он лис. Он хочет меня убить. Он хочет изгнать меня из моего тела. Он подослан, он куплен. Он киллер. Его, убийцу, купили такие же богатые, обиженные, как я. Я обижен?! Ну да, я обижен и изгнан. Я один. Я никому не нужен.
Я болен. Моя душа больна. Я много перенес. Он, он сделал так, чтобы я убивал ни в чем не повинных людей. Он натравил меня на них. Пусть он уйдет. Пусть уйдет, а то перед моими глазами плывут красные и серые круги, и я сам не знаю, чего я хочу. Он называет меня человеком. Но ведь я уже не человек. Он отнял у меня право быть человеком. Он изгнал меня из моего Райского Сада, из моего счастливого Эдема.
Он завалил меня копнами, стогами денег, а мне всего-то нужен был некошеный луг, и озеро с кувшинками и лилиями, и мольберт, и палитра в руках. И чтобы я никогда, никогда не мел, не скреб, не чистил улицы и их грязь. Не чистил морды людские, грязные морды. Не скреб людские души, закосневшие в лжи, грязи и продажности. Все продается. А я не продаюсь. А я – не продаюсь, слышишь?!
– …ты знаешь, Бойцовского убили. Зверски, подло. В машине. Два метких выстрела – и все кончено. Хорошие стрелки. Я бы таких нанял для охраны. Я же идиот, я же живу без охранников, без этих тупоголовых бодигардов. Терпеть их не могу. Ты что молчишь, Митька?.. Что воды в рот набрал?.. Ну скажи хоть что-нибудь. Ты… вылезаешь хоть из своей норы?.. или так тут и восседаешь… как Иоанн Грозный в своих палатах…
– Я знаю. Я все знаю. Уйди. Уйди, Христом Богом прошу!
Он не уйдет. Этот человек не уйдет, слышишь.
Он никуда отсюда не уйдет. Это ты его не пустишь.
Этот человек богат. Он баснословно богат. Ты пришел к нему бедняком. Нет, не бедняком, у тебя уже был твой миллион, добытый у мертвой мадам Канда. Но это были копейки в сравнении с его богатством. И ты захотел стать таким, как он. И он тебя пригрел. Он соблазнил тебя. Так, как соблазняет женщина. Его жена соблазнила тебя. И ты спал с ней. Подруга его жены соблазнила тебя дважды, трижды. И ты спал с ней, и она стала для тебя лучшей и опаснейшей женщиной в мире.
Да ведь она не женщина, ты сам знаешь это.
А кто?!
Молчи. Молчи о том, кто она.
Тебя соблазнила его невестка, и ты убил на дуэли его сына.
Тебя соблазнила картина, которую он живенько прибрал к рукам. Ах, да вспомнил. Он украл у тебя “Изгнание из Рая”. И засунул к себе в сейф. Почему он себя не засунул в сейф?! Почему он свою свободную душу не засунул в сейф?! А свое сытое, раскормленное тело?! Но более всего тебя соблазнили его деньги. Его бешеные деньги. Его оказавшиеся такими скушными и страшными деньги. Весь мир на живульку сшит деньгами, деньги – силки мира. Кто прошьет тугую, крепкую строчку?! И чем?!
Россия гибнет, а Бог уже прошил ее суровой нитью. Красной, яркой нитью своей крови – на белой ткани белого снега. На широкой Плащанице холодных полей. По расшитой бирюзой озер мохнатой шкуре тайги.
Бог прошил землю кровью, а ты не можешь разорвать одну гнилую судьбу?! Один грязный лоскут… одну рваную, ветхую купюру достоинством в один доллар… в один динарий, в один дохлый волчий обол, чтобы освободить, очистить свою душу, чтобы выйти наружу из клетки?!
Все заволокло кровавым, красным туманом. Все посыпалось, как со звоном разбитое зеркало. Он локтем смахнул посуду со стола, старинный севрский сервиз, купленный еще в Париже в подарок бедной Изабель. Эмиль не успел опомниться. Митя кинулся на него, набросился, точно и жестоко ударил в скулу. Жестокое танцевальное па – драки не на жизнь, а на смерть.
Эмиль отлетел наотмашь к стене по гладкому паркету. Его беспомощно, запоздало-ответно сжатые кулаки слабо ударили воздух. Он со всего размаху вломился черепом в острый угол прочно прибитого к стене старинного медного шандала, в котором стояли, погасшие, мертвые свечи.
Кровь брызнула на стены, на обои. На белую атласную обивку стульев. И на обивке светились вышитые лилии. Изабель, Изабель, как ты любила лилии. Твои лилии – на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где лежит Андрей. На Ваганькове, где ты сама лежишь.
Митя стоял перед ним. Красный туман расходился кругами. Красная боль вливалась в пустую клетку ребер. Зачем он это сделал. Зачем. Папаша Эмиль. Ведь он же умрет. А разве ты не этого хотел миг назад. Нет! Нет! Нет! Я этого не хотел!
– Зачем… – прохрипел Эмиль. – Зачем…
Митя не двинулся с места. Он стоял и смотрел, как Эмиль Дьяконов умирает.
– Уж лучше бы я умер тогда, на похоронах Вождя… – Хрип Эмиля становился все тише, все глуше. – Тогда… десятилетним мальчиком… зря меня тогда вытащили из-под чужих ног, из-под сапог… из-под копыт… Тогда была Ходынка… Вождь умер, отец родной… и все побежали смотреть… и меня мать взяла… мать умерла… ей ребра раздавили… а меня вытащили… лучше бы я умер… тогда…
Он судорожно вздохнул, ловя воздух ртом. Выгнулся в судороге. Почему человек дрожит, когда умирает. Человек цепляется за жизнь из последних сил.
Глаза Эмиля выскочили из орбит. Он хватанул воздух скрюченными пальцами – и так застыл, со вскинутой, птичье скрюченной рукой, не рукой, а лапой, как бы загребающей к себе невидимое – что?.. деньги?.. волю?.. жизнь?.. – с вытаращенными глазами, полными ужаса и мольбы.
О чем он взмолился в последний миг? О том ли, что жить надо было не так, и что смерть он принял ту, которую – заслужил: от выкормыша, от напарника своего, от фальшивого Сынка, сделанного наспех из банковских печатей, из чиновничьего папье-маше? Никто не узнает. Он еще раз судорожно вздохнул и испустил дух. Митя сделал шаг к нему. Наклонился. Закрыл ему глаза. Его вытаращенные, ужаснувшиеся всей жизни, видавшие так много всего в мире, и блестящего и преступного, старые глаза над чутким лисьим носом, над фюрерскими стиляжьими усиками.
Доступ к счетам Бойцовского – у его наследников. Бумаги Бойцовского им сожжены. Все кончено.
Доступ к банку Эмиля, к его сейфу, к его ячейке – у Лоры.
Здесь еще можно попробовать.
Он погрузил в “мерседес” тело, завернутое в целлофановый мешок – на голову мертвеца была натянута та самая наволочка, в которой он хранил драгоценности старухи Голицыной. Он уже не видел его вытаращенных глаз. Он запомнит эти глаза на всю жизнь. А разве у него еще будет жизнь?.. Ну да, будет. Куда ж он денется. Даже если его найдут, выловят с поличным, когда он будет опускать темной ночью труп Эмиля в подмосковное озеро где-нибудь в Савино или в Болшево, и припрут к стене, и все выяснится еще до той поры, как он откроет рот, и будет суд, и ему дадут десять, двадцать лет, и пожизненное заключенье – он будет жить. А если – расстрел?! За всех, кого ты убил, Митя, тебе полагается прямой расстрел. Казни через повешенье сейчас в России нет. Казни сейчас в России вообще нет. Все, кранты казни, отменили старую добрую “вышку”. Опоздал ты, друг. Не Рылеев ты и не Пестель, и даже не господин Желябов. Ты господин Морозов, но, черт побери, как талантливо ты убивал, и как тщательно скрывал свои убийства. Ты убивал – а драгоценности старухи исчезали. Они исчезали так странно, так… страшно. Ты помнил только их призрачный блеск. Старуха мстила тебе. Как она могла мстить тебе – за гробом?! Ты же не мистик, Митя. Ты вполне нормален. Ты же не веришь во всякую чушь.
Я ненормален. Я болен. Я еду к Лоре. Я узнаю номер счета Эмиля. Я узнаю номер ячейки, где картина. Я все узнаю.
Он вошел в дом Дьяконовых беспрепятственно – у него был в кармане ключ, у приемного сына. Лоры в комнатах не было. Из-под двери ванной сочился свет. Полоска света упала на башмаки Мити. До него донесся высокий, визгливый голос Лоры сквозь шум льющейся воды:
– Купаюсь!.. Сейчас заканчиваю!.. Одеваюсь!..
Он вспомнил лису из детской сказки: обуваюсь, одеваюсь… Сейчас лисица вытрется насухо махровым огромным полотенцем, намажет лицо дорогим кремом – о, как она, молодящаяся сибаритка, это любила, – напрыскается дорогими парфюмами и выйдет к нему, розовокожая, сытая, гладкая, с мокрыми седыми кудряшками на висках, задрав задорный носик, корча из себя вечную девочку, призывно, какбы между прочим, распахивая халат – обозрей, восхитись, пожелай, возьми. Он сунул руку в карман. Ощупал ледяную сталь револьвера.
Лора выскочила из ванной быстро, едва не сразу после своего возгласа. Да, у нее точно такое было лицо, как он и ожидал – розовое, довольное, как у поросенка, накупанное, распаренное, седые кудерьки она скрыла под высоко наверченным тюрбаном из полосатого махрового полотенца. Она шла, чуть покачиваясь, в странных туфельках, таких деревяшках с ремешками, и они слегка постукивали по полу. Гэта. Японские гэта. Пот прошиб его. Он снова пощупал в кармане револьвер.
– О, Митенька… – Воркуй, голубка, воркуй. У тебя есть еще время поворковать. – Ты ко мне… так поздно?.. о… я, между прочим, рада… а Эмиля нет… он, кажется, поехал к тебе… или он не был у тебя?.. что ты стоишь, как чужой?.. проходи… – Она повела рукой, как лебедица крылом. – Чайку?.. кофейку…
Митя шагнул к ней. Все. Тянуть кота за хвост он не будет.
Он вырвал из кармана револьвер. Приставил к ее виску.
– Ты, сучка, – сказал он раздельно, наклонившись к ней. Совсем близко он видел ее вмиг осунувшееся лицо, резко побледневшее, утерявшее банную розовость, довольную сытость. – Ты, сучка вонючая, слушай меня очень внимательно. Каждое неверное движенье может стоить тебе жизни. Твоя жизнь сейчас страшно дорого стоит. И ты мне ее продашь.
Она не шевелилась. Она вся сжалась – в маленький, жалкий комочек под махровым широким халатом. Казалось, она сторожко слушала Митю, стремясь не пропустить ни слова.
– Ты сейчас скажешь мне… или нет, лучше запишешь… номер счета Эмиля в банке. И номер ячейки, где он хранит мою картину. Мою! Что он украл у меня!
Лора стояла молча под дулом револьвера. Дуло холодило, щекотало ей висок. Она стояла как вкопанная. Не отстранилась. У нее стало очень белое лицо. Слишком белое. Ничего, в обморок она не упадет. Он ее слишком хорошо знал.
– Иди к столу! Бери бумагу! Записывай! Если не помнишь – посмотри документы!
Лора пошла к шкафу. Отперла секретер. Ватными руками вытащила папку, развязала тесемки. Оглянулась на Митю. Он стоял, сверху вниз глядя на нее, и револьвер глядел на нее черным глазом дула.
– Митя, – сказала Лора тихо, – Митя, опусти пушку… Митя, не сходи с ума…
Он крикнул страшно:
– Счет!
– Митя, ты его убил, – еле удерживая прыгающие губы, сказала она.
– У тебя мало времени!
– Митя, – ее подбородок задрожал. – Митя, я все, все тебе расскажу… и напишу… только не убивай… ме-ня…
– Не забудь написать доверенность на меня, как на сына Эмиля, на получение картины из ячейки сейфа!
Она, трясясь, сгорбившись, села на стул у открытого секретера, упрятала лицо в ладони и зарыдала, утирая рукавами халата слезы, опять хватаясь за щеки мокрыми дрожащими пальцами. Слезы просачивались сквозь пальцы, стекали по запястьям, стекали по подбородку, по шее. Она сразу стала старой, жалкой. Полосатое полотенце упало с ее головы. Седые мокрые кудри торчали, как пакля на башке у Буратино. Знаменитая московская сводня. Светская львица. Любительница ночного интимного кофе в кофейной комнате и молоденьких мальчиков на третье, на сладкое. Он ее еще спросит, где Инга. Он еще и до Инги доберется. Дайте срок.
– Хватит реветь! Действуй!
– Ты… – у нее пропал голос, из горла исходил тусклый змеиный шип, – ты… не можешь быть так жесток… ко мне…
– Я могу быть как угодно жесток, – сказал Митя раздраженно. Плохая игра. Все больше напоминает фарс. Скорей бы она нацарапала на бумажонке эти треклятые цифры, втолкнула ему в руки, и он бы убежал. Убежал?! Оставить ее вот здесь, так… она же свидетель! Она же выдаст его сразу же не милиции – прокуратуре! Нет, не выдаст. Она знает, на что он способен. И теперь, когда у него будут номера счетов Эмиля и картина, стоящая многие миллионы, она будет извиваться в пыли у его ног. Эти сильные мира сего всегда так. Он уже понял это. Слишком поздно, но понял. Они давят того, у кого меньше денег, чем у них самих. Они пресмыкаются перед тем, кто богаче. Их закон гораздо жесточе, чем наставленное на нее револьверное дуло. Испугалась, цаца. Вся жизнь – один большой испуг. Лезешь на свет из утробы, боишься, рождаясь, орешь недуром – а тут уже и умирать пора, и страшно опять.
– Возьми!.. – Она протянула ему листок. – Возьми… ты, подонок!..
Спохватилась. О, только бы его не разозлить.
– Прости, Митенька… Я… не то говорю… Вспомни… ведь мы с тобой… ведь я тебе как мать… ведь Эмиль – как отец тебе…
– Да, я его достойный сын, – улыбка чуть тронула Митины губы. – Я его сын, и я имею право на его счета. Прекрати плакать, Лора. Я теперь не трону тебя. Прекрати. Я тебя трону лишь в том случае, если ты развяжешь язык. Да ты ведь не развяжешь его, правда. Ты ведь у меня… – он повел углом рта вбок, и странная, кривая гримаска исказила его заросшее щетиной, черное от бессонниц лицо, – умная девочка. Ты умней всех на свете. Ты умней всех в Москве, это уж точно. Поэтому ты не будешь втыкать мне палки в колеса.
Он затолкал в карман бумажку. Лора полными слез, покрасневшими глазами глядела ему в лицо. Ее веки припухли, набрякли, покраснели. Сейчас она была совсем старухой, разбрюзгшей, несчастной, с мелко трясущимися тряпочными губами. Митя глядел сверху вниз на человека, раздавленного им.
– Митя, – сказала Лора беззвучно, – ты…
И задохнулась. И заткнулась, как затыкают пробкой бутылку. Все слова разом исчезли из нее. Седенькие кудрявые прядки прилипли к влажным, в холодном поту, вискам, к бледному лбу. Будто у края собственной могилы стояла она.
– Пока, – жестко сказал Митя, упрятывая револьвер в карман. – Чао, бамбино. Поставь пластиночку с Мирей Матье. Развлекись, отдохни после душа. Хорошо в прошлом веке пели француженки, нынче хуже стали петь. Привет Инге, если позвонит.
И повернулся, и пошел, и Лора красными, как у кролика, глазами, прижимая руку ко рту, смотрела ему вслед.
Он пришел в банк. Он перевел все деньги Эмиля на свой счет. Все его документы были при нем – он предусмотрительно запасся, взял все из дома, уходя к Лоре, пугать ее пушкой. Он предъявил номер банковской ячейки, где хранилась картина. Банковский клерк учтиво, с поклоном провел его к сейфу, Митя набрал номер шифра – Лора не обманула, не перепутала со страху цифры. Дверца открылась с легким треском, он запустил руки в железный ящик и вынул оттуда картину, завернутую в чистые белые ткани. Как мертвое тело в саване, – подумалось ему, отчего-то с отвращеньем. Или как младенец в пеленах. Он осклабился, кланяясь клерку; клерк, ответно ухмыльнувшись, поклонился ему. Он положил картину в сумку, болтавшуюся на плече. Какая она все-таки маленькая, эта медная доска. Какой Тенирс счастливец. Он не знал, как будут плясать люди вокруг его работ, выделывая ужасающие кульбиты, как будут бросать за эту медную дощечку, замазанную маслом, где бегут, спасаясь от грозы и урагана, две маленькие человечьи фигурки, доллары и франки, фунты стерлингов и марки. И снова доллары, доллары, доллары. Все, баста. Теперь за нее никто не даст ни единого цента. Он несет ее к себе. Она теперь его. Его – навсегда.
Он вернулся к себе в особняк, включил бездумно телевизор. На экране вовсю трещали дикторы, мелькали кадры – партизанская война на Кавказе… кто убил Бойцовского?.. зверское убийство Эмиля Дьяконова, тело нашли в Черном озере близ станции Купавна… всплыло в проруби, из-подо льда… труп с трудом опознали… денежные тайны Кремля открываются… ловушка для Президента… прямые потомки князей Голицыных в Париже требуют своей доли наследства, хранящейся в виде драгоценностей в Алмазном фонде России… японский атташе сообщил, что в Японском море задержали русский танкер, направляющийся с грузом нелегально погруженной в Ираке нефти в порт Находка… новая выставка знаменитого живописца Игоря Снегура в американском посольстве… посол Джон Фэрфакс предложил художнику большой вернисаж в нашумевшей на весь мир “Залман-гэллери” в Нью-Йорке, на Манхэттене…
Жизнь, жизнь мелькала перед Митей. Его жизнь.
Он, прищурясь, смотрел на нее, цветную, аляповатую, мигающую ему в лицо цветным огромным экраном “Panasonic”. Положил картину, завернутую в белые тряпки, на стол.
На этом столе они обедали с Изабель; обедали с робкой большеротой Милочкой. Теперь он пообедает, раз в кои-то веки, с Тенирсом. Ну, брат Тенирс, бездарный мазила Морозов сейчас пообедает с тобой. Где тут у нас икорочка?.. Где осетринка?.. Брат Тенирс, ты любишь осетринку?.. Он – любит. Он сибирский человек, он вырос на рыбе, на забитых багром по голове тайменях, на чире, на кунже, на омуле. Когда-нибудь он вернется в Сибирь, поедет в Саяны, наловит рыбы в горной речке, свалит ее в кучу на берегу, разложит этюдник, сядет и напишет ее, еще живую, серебряную, бьющуюся. Еще живую.
Не ври себе, Митя, ты не поедешь в Сибирь никогда. Тебя отловят, посадят и осудят. И припечатают тебе. По первое число.
Он медленно, отворачивая лепестки белого штапеля, выпрастывал картину, вытаскивал на свет. Ну, брат Тенирс, не слабую работенку ты намалевал. Дай-ка, дай-ка я погляжу на нее наконец-то. Ух, красота. За такую прелесть не грех и выпить.
Так, так, где у нас винцо хорошее?.. Давненько я не лазил в барчик свой.
А ведь бывало, лазил, и пасся тут, и гостей встречал, и весь проклятый Кремль тут у меня толкался, все жужжали, как мухи в банке, все летели, как пчелы, на мой мед. Он налил красное вино в бокал, в другой, поднял свой бокал, чокнулся с бокалом Тенирса. Взял одной рукой медную доску, поставил напротив себя. За тебя, Тенирс!.. Выпил. Бросил бокал через плечо. Хрусталь разбился вдребезги. Хрусталь разбился, как разбилась Иезавель, выброшенная из окна, об асфальт ночного Бродвея.
Он стал рассматривать картину. О, друг Тенирс, я давно не видел твою живопись, а ты, оказывается, был классный мастер. Ты замечательно положил вот здесь темный, изумрудный мазок, и оранжевое светящееся золото плода ярче засияло, ударило в глаз.
А как летит зубчатая молния из клубящихся туч, это же просто чудо какое-то. Я, пожалуй, у тебя поучусь.
А вот здесь, гляди-ка, как ты точно подметил это, мужчина поддерживает женщину, заслоняя ее от грозы, от карающего меча Ангела.
Мужчина, закрывающий женщину грудью. Спасающий женщину. Ему не повезло. Ему не дано никого спасти. Он пытался спасти Милочку. Он хотел ею искупить всех своих женщин. Не удалось. Он налил себе еще вина в бокал Тенирса. Вынул еще одну хрустальную посудину из шкафа. Потом махнул рукой и уставил весь стол хрусталем. Гулять так гулять. Эх, где ж его цыгане!.. Вот бы их сейчас сюда!.. А впрочем, телефончик цыгана из “Стрельны”, Дуфуни Егоровича, у него же сохранился. Брякнуть, что ли, ему – пусть приезжает!..
Картина мерцала перед ним, тускло отсвечивала маслом, серые тучи под яркой зажженной люстрой блестели потеками старого лака. Голландец – мастер, а Митя – салага. Если его не посадят в тюрьму и не расстреляют, он будет еще писать. Он еще станет художником… он накупит холстов и красок – на все его баксы, на все баксы Эмиля, на все…
Ангел стоял, большой, страшный, темный, с ярко светящимися распахнутыми, громадными крыльями, с воздетым, огненно-пылающим мечом над двумя маленькими человечками, стремглав убегающими от возмездия, от смерти. Все бегут от гибели. Никому не хочется гибнуть. Нет, брат Тенирс, я никуда не побегу. Пусть, к черту, приходят. Пусть арестовывают. Я же не преступник. Я художник. Это просто я так жил, и все, что я делал в жизни – убийства, кражи, путешествия, женитьбы, аферы, обманы – это была моя инсталляция. Это был мой перформанс, мои трансформы, мой объект для экспозиции, мой выставочный зал.
Я делал свою жизнь как художник, и я имел право на все, что в ней у меня было, потому что я все это сделал сам. Я делал это все для Господа Бога: посмотри, Бог, как я ловко умею делать то, что Ты мне – и всем – запретил.
Для художника нет ничего запретного. Нет запретных тем. Художник тем и велик, что может писать все что угодно. И поднимать все что угодно – до уровня Искусства. До уровня Бога.
Даже убийство?!
Даже убийство, почему нет. Ведь пишет же писатель убийство. Ведь написал же господин Репин, мир праху его, картинку “Иван Грозный убивает сына своего Ивана”, и публика в зале падала в обморок от вида крови. Ведь в перформансе мажут живого человека настоящей кровью, куриной или коровьей, и люди глазеют на exgibition на занятный объект. Почему ж таким объектом не может стать сама жизнь. Сама жизнь. Он же сделал объектом, искусством не чью-то чужую жизнь, а свою. Он имел право.
Врешь! Ты уничтожал чужие жизни! Ты убивал не себя – других!
У тебя есть еще возможность убить себя. Брат Тенирс, ты останешься жить, а Митька убьет себя. Вот это будет инсталляция так инсталляция. Это блестящая мысль, он не задаст работу следователям. Он покончит не только с собой – он убьет разом сомненья всех, кто в нем, в Дмитрии Морозове, сомневается. А что ж ты так весело-то думаешь об этом, ты, бездарность?!.. Эх, Тенирс, а вот я нарезал буженинки, отведай-ка. Там, в твоих Голландиях, небось, буженинку не готовят, это русскую свинью эдак коптят, чтобы усладить желудок.
А икорку ты покупал в приморских кварталах, у моряков, привозящих бочки с икрой с островов, из дальних морей.
И приносил к себе в мастерскую, и раскладывал по мисочкам, и писал натюрморт – россыпи рубинов, россыпи черной яшмы… а в кресло сажал хорошенькую натурщицу, молоденькую амстердамскую шлюшку с Зейдер-Зее…
Он затолкал в зубы кусок буженины. М-м, не слабо. А вот и карбонат. Какая вкуснота, Тенирс. Перед гибелью надо пожрать всласть, попить винца. Какое ваше последнее желанье, осужденный?.. Мы выполним ваше последнее желанье!.. Мое последнее желанье – покурить. Хорошие сигареты. А хороших нет. Есть все те же, бестолковые, разрекламированные, штатовские. “Мальборо”. Он вытащил из кармана джинсов пачку “Мальборо”, зажигалку, щелкнул. Огонек опалил ему отросшие усы. Он глубоко затянулся, откинул голову и стал рассматривать картину, наклоняя голову туда, сюда, как петух. Живопись… Какое все-таки чудо – простая живопись…
Он вскинул голову. На стене перед ним висели два портрета – они висели в спальне, он перевесил их в гостиную, чтобы ночью они не пугали его, сходящего с ума, дрожащего в холодном поту. Изабель и Милочка. Какая же у него мыльная живопись по сравненью с великим Голландцем. Две женщины, и молодые, и здоровые; и ни одна не забеременела от него, ни одна не родила. Да, он был со многими женщинами в жизни, но ребенка у него не родилось ни от кого. И прекрасно. Зачем его ребенку унаследовать его сумасшествие, быть вором, грешником, развратником и убийцей. Он встал, пошарил глазами. Вдоль стен в гостиной стояли рулоны закупленных им в салонах, так и не развернутых, не натянутых на подрамники холстов, несколько богатых багетов, золотых, с лепниной, во множестве слащавых виньеток, сделанных “под старину”. Он взял один небольшой багет, примерил его, прикинул к картине. Медная доска точнехонько, тютелька в тютельку, вошла в раму. Он отодвинул картину от себя, поглядел, наклонив голову. Прищелкнул языком. Отлично. Можно вешать.
Подошел к стене, нашарил торчащий в пустоте гвоздь, повесил – рядом с портретами обеих жен. Виси, брат Тенирс. Мы с тобой выпили, закусили. Теперь нам сам черт не брат. Мы великие художники, и смерть может за дверью подождать. Он позвонит цыганам. Они будут тут плясать и петь, голосить, гадать ему, подносить чарку вина, цыганки – падать в его объятья. Он повторит свое веселье. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз.
Нет. Ни раза не будет. Некогда. Умирать так умирать. Это не шутки. Он же не шутя убивал всех, кого убил. Старуха Голицына, ты отомстила ему. Зачем он украл твои бирюльки?! Подавилась бы ты ими.
Он вытащил из заднего кармана джинсов револьвер, бросил его на стол, кусок черного металла загремел, толкнул хрустальные рюмки, одна упала на пол и разбилась. Осколки, осколки. Он наступил на осколки, они захрустели под ногой. Все мертвы. Все. И старуха тоже мертва. Он никогда не забудет ее остановившиеся глаза в трюмо. Там, в револьвере, в тяжелом кольте мертвого Андрея Дьяконова, все неизрасходованные патроны. Он не выстрелил в Лору. Он только попугал ее. Зима-лето-попугай, наше лето не пугай. Так они кричали детьми в Слюдянке, танцуя на одной ножке перед тем толстым домашним, балованным пацаном, сыном лагерного вертухая, которого травили, над которым издевались и насмехались. Бедный седой попугай Лора. Она не пропадет. И никто не пропадет. Пропадет только он. Но эту инсталляцию он сделает для Божьей Выставки.
А Котя?! Что скажет Котя?!
Котя ему никто. Котя просто друг. Мало ли у него друзей по жизни было. Было, да сплыло.
Он узнает… новости скажут… В монастыре не смотрят телевизор, не слушают радио. Там живут, как при Христе: творят молитву, корчуют пни, пашут землю, сеют рожь и капусту на взгорках. Возводят новые срубы – для новых келий. И он мог бы так жить. Но ему западло. У него была другая жизнь, и будет смерть – другая.
Он взял со стола, среди осколков, револьвер. Хороший кольт. Осечки не будет. Куда стрелять?.. Вечная проблема самоубийц. В рот?.. В висок?.. Мозг разлетится кровавой кашей. Он вспомнил ту девчонку, с оторванной головой, на Театральной площади.
Его снова замутило, как тогда. В грудь?!.. туда, где сердце…
Гляди-ка, а оно бьется ровно, бестрепетно, даже смешно. Смешно, что он так спокоен. Ведь он все твердо решил. И все-таки это смешно. Так стремительно взлететь на самый верх людской жалкой жизни – и так бесславно умереть от пули в сердце, свалиться на узорчатый паркет, обливаясь кровью… застыть.
Лучше облиться клюквенным соком и застыть в сладком сне после соитья с той шлюхой с Тверской, с Манон. Тверская, двадцать. Он помнит адрес. Он придет к ней. Он придет к ней мертвый, откроет дверь, и она завизжит, заслонится подушкой, сойдет с ума от страха.
Какой тяжелый кольт. Как трудно поднять его и поднести к себе. К виску Лоры приставить его было отчего-то гораздо легче.
И его наконец затрясло. Его забило, как в падучей, у него зуб на зуб не попадал, он весь облился потом, и капли пота стекали по нему, по его лицу, по сморщенному в ужасе последней муки лбу, и он вертел в руках стальную смертоносную игрушку, в ужасе глядя на нее, боясь ее, только сейчас поняв – вот он нажмет на курок, и все, и кончена жизнь. Тенирс! Отчего ты, брат Тенирс, со стены глядишь на него, а не схватишь его за руку, не остановишь!.. Ведь один миг – и все будет кончено навек, все!..
Он приставил револьвер к виску. Дернулся, как под током, от мороза стали.
И тут дверь за его спиной тихонько скрипнула.
Кто это. Господи, кто это. Я боюсь. Я маленький, жалкий человек. А Он же меня предупредил. Котя, помоги мне. Котя, где ты. Ты далеко. Ты читал, я помню: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Господи, я грешен. Я идиот. Я собирал сокровища на земле. Я убивал из-за них. Предавал ради них. Это Ангел. Он пришел, чтобы занести надо мной огненный меч. Брось, ты просто снова сходишь с ума. Ты просто хотел себя убить, а у тебя не получается, потому что ты трус. Обернись, трус. Обернись. Погляди на того, кто пришел.
Он спиной чувствовал, как открылась дверь.
Он уже спиной знал – это пришла ОНА.
– Это ты?..
Он не оглядывался.
– Да. Это я. Твои сроки пришли.
Он шевельнул губами, еще не оборачиваясь. Инга. Фьямма. А может, у нее другое имя. Да она сама сказала ему там, на Арбате, под блестким мелким снегом, в венце ночных огней, как ее зовут.
– Повернись. Или ты боишься?..
Ясная, обидная насмешка. Он обернулся.
Он увидел ее всю – в расстегнутой, еще усыпанной снегом шубе, в коротком шерстяном черном платье, в котором она была в Венеции, с рыжими, шелково вьющимися густыми волосами, свободно падающими по плечам.
Сапоги на высоких каблуках обнимали ей телячьей кожей икры до самых колен. Обнаженные бедра искрились ажурной паутиной колготок. Ярко-красная, цвета крови, маска закрывала ей пол-лица. Она держала в руках большую тяжелую шкатулку, увесистый ларец, и, сверкая насмешливыми, влажно переливающимися зелеными глазами, молча смотрела на него.
Он смотрел на нее. Разлепил губы.
– Я знал, что ты когда-нибудь придешь.
Она улыбнулась. Подошла к столу, поставила на стол ларец.
– Ты удивительно догадлив. Браво. Брось револьвер. Ты же все равно не выстрелишь в себя.
Он кинул кольт за спину, на диван. Не сводил с нее глаз.
Она повернула ключ в замке ларца. Откинула тяжелую, обвитую узорным чугунным литьем крышку.
– Наклонись. Тут есть на что поглядеть. Все эти камешки, золотишко, нарисованные на досках лики плавают в крови. Ну, да ты не из слабонервных.
Он сделал шаг к столу. Другой. Третий. Он встал над ларцом, сердце его билось, как военный барабан в руках барабанщика. Ребра чуть не разорвались. Он наклонился. Заглянул. Втянул ноздрями запах ее духов. Лаванда. Она сегодня надушилась лавандой. Так же, как когда-то – Анна. Мадам Канда.
– Узнаешь?!..
Он все узнал.
Это все не узнал бы только слепой.
В ларце лежали все драгоценности, украденные им у старухи Ирины Голицыной – все, что он имел и растерял, идя по жизни, разбрызгивая кровь людей, покупая, продавая, предавая. Вот Царский перстень с крупным изумрудом; как изгалялся перед ним тогда на Никитской Лангуста, выманивая его, гнусно подмигивая ему. А вот она, икона Божьей Матери Донской в драгоценном окладе, усаженном яхонтами, рубинами, перлами – как играет, горит лучистая скань, какая печаль в огромных черных, как черные озера, глазах. Вся жизнь в глазах, вся несбывшаяся старость, вся смерть. Он откупился ею от таганских бандитов.
Как тщательно, как придирчиво-дорого покупал он у себя самого свою жизнь. А теперь она ему вдруг стала не нужна.
Врешь, нужна. ОНА права. Он бы не выстрелил себе ни в лоб, ни в грудь.
А вот и аметистовый перстень Великого Князя Сандро. Ну да, это она, она сама его у него с пальца сдернула, пока он валялся в беспамятстве на постели, где голый Папаша обнимался с венецианской шлюхой Нинеттой. Да, он больше никогда не напьется. Не требуется ему носить аметист, предохраняющий от пьянства.
А вот и жемчужное ожерелье, широкое, тяжелое. Господи, какая громадная связка жемчугов, и отборных. Сколько бы за него дали на Кристи? Тебе бы все время думать о деньгах, сколько и за что дадут. Ты болен. У тебя деньги текут в крови. Ты наркоман. Гусь Хрустальный тоже баловался наркотиками, через что и помер, должно быть. Уж лучше бы ты кололся, ширялся бы в подворотнях на Петровке.
Он взял в дрожащие руки ожерелье. Изабель. Бедная Изабель. Какой белый, светящийся жемчуг. Как он шел к твоим серым глазкам и русым волосам. Ко всему твоему нежному сердцу он шел. Кто тебя убил?! ОНА?!
Он швырнул ожерелье обратно в ларец. Его лицо налилось кровью.
– Ты… мерзость…
Она тряхнула рыжим шелком кудрей.
– Ты не все рассмотрел. Может, здесь есть чужие вещи.
Ах, Боже мой. Вот оно, хризолитовое колье, подаренное старухе… тогда еще не старухе!.. милой Таточкой, Великой Княжной Татьяной Николаевной.
Ты помнишь, Митя, как нагло смотрели тебе в рот террористы. Как нагло примеряла, прикидывала его к себе, к своей груди ОНА, блестя глазами из-под маски. Тяжелые золотые виноградные листья, мерцающие хризолитины, собранные в тяжелые виноградные гроздья. И…
Он задрожал мелкой дрожью. У него подогнулись ноги. Вот они, алмазные сережки Императрицы-матери, что он ввинчивал в мочки бедняжке Милочке перед тем, как ей под лопатку воткнули шило там, в ложе Большого театра. И они здесь. Все здесь. Все. Слава Богу, не все. Здесь нету крестика из Палестины, из слоновой кости, с окошечком, где можно увидеть Тайную Вечерю. И нет его образка. Значит, крестик – у Коти. ОНА не добралась до Коти. Котя охранен. Он храним Богом. Он – спасся. Значит, спасается тот, кто…
– Гляди, гляди! Чужого-то ничего тут нет?..
Он склонился ниже. О, что это?.. Что это за вещицы – там, под драгоценными, под Царскими, под княжескими?!.. Какой мусор, мишура, барахло… Металлические старухины зубы – мост, коронки, тускло отблескивающие латунью… Бабка, должно быть, клала их в стакан… И старая, обшарпанная пепельница, расписанная под малахит… и перламутровые пуговицы от старинного крестьянского сарафана, вставленные в медные оправы в виде лепестков ромашки… И старые колоды карт, рассыпанные по дну ларца – их старуха раскладывала, засыпая над пасьянсами, оплакивая вековую жизнь – дворцовую, расстрельную, лагерную, коммунальную…
Вся жизнь человека… Вся огромная, великая, жалкая, неистовая, старая, молодая жизнь… Жизнь, которой больше – нет…
– Здесь… чужое, – проговорил он глухо. – Я не знаю… этих вещей.
Она захлопнула у него перед носом крышку ларца. Сбросила шубу, кинула на диван сверкнувший росой растаявшего снега мех. Насмешливо глянула на валявшийся за подушками револьвер. Села в кресло. Закинула ногу за ногу – так она любила сидеть. Вынула из кармана шубы пачку сигарет, выбила сигарету, щелкнула колесиком зажигалки. Закурила.
Он выжидательно смотрел на нее. Он справился с дрожью, противно изнурившей руки, колени, губы.
Она затянулась, прищурясь, закинув гордо и надменно голову, из прорезей алой маски презрительно посмотрела на него. Выпустила изо рта дым. Он видел, как в вырезе черного обтягивающего платья высоко поднялась ее грудь.
– Поговорим.
– Поговорим, – кивнул он, чувствуя, как опять сладко слабеют колени.
Она хочет поговорить со мной. Это ее право. А я боюсь. Боюсь этого разговора. Она уличит меня. Выведет на чистую воду. Она сделает так, что я окажусь весь грязненький, весь замаранный, с ног до головы, а она вся чистенькая, безвинная, хотя она – Дьявол.
А может, это все тоже одна чудовищная инсталляция?! Одно зверское представленье, что показывают сами себе эти пресыщенные дамочки, так они играют, так веселятся, это же, может быть, и есть их великосветская игра, и, может, ей за эту игру заплатили… кто?! зачем?!.. отчего она так неистово, так дотошно следила за мной, ловила каждый мой шаг, похищала то, что я терял?!..
Неужели она одна ловила меня по всей Москве… по всей Европе… и убила мою Изабель?!.. да, это она, она… Она – не человек. Но ведь и я – не человек. Мы оба – уже не люди. А кто же мы?!
КТО ЖЕ МЫ ТАКИЕ, ГОСПОДИ?!
– Так ты… баба?.. А где твои бесы?..
Она курила, затягиваясь глубоко, жадно, как мужик, ее зеленые глаза пронзительно блестели в струях белесого табачного дыма.
– Бесы – рядом с нами. Вокруг. В тебе. Я их пасу. Я их пастушка. Я их кормлю твоим страхом. Чтобы они были сыты и довольны. Чтобы не умирали. Бесы в человеке кормятся страхом, ужасом. И еще – жадностью. Ты жаден, Митя. Но ты был жаден не до жизни. До мертвого. Деньги – это мертвое. Это бумажки. Завтра я сделаю так, что деньги обесценятся вконец, умрут, как люди. И что люди будут делать?.. Что будешь делать ты?.. Вот у тебя на счету нету ни цента, ни копейки. В дворники опять пойдешь?..
Он покосился на захлопнутый ларец на столе. Она перехватила его взгляд.
– Что ты стоишь передо мной. Садись. Я же тебе не Царица. И не Президент. Навытяжку передо мной не надо. А впрочем, стой, если хочешь. – Она ожгла его зеленым огнем глаз. – Ты же боишься меня. Боишься – значит, любишь. – Затяжка. Дым, вьющийся над рыжей головой. – В ларце все драгоценности… это не камни. Это живые души.
– Это ты! – крикнул он. От крика зазвенели стеклянные лепестки люстры. – Ты их убила!
– Их убил ты.
Он, в бессознанье, сунул руку под рубаху. Образок. Где образок св. Дмитрия. Он должен подержаться за него. И перекреститься. Тогда наважденье исчезнет. Это все ему снится. Это все – его бред. Всегдашний бред. ОНА не может быть живой.
Его рука напрасно шарила под тканью рубахи. Напрасно цепляла кожу на груди. Пусто. Нету. Не было на нем образка.
И тут он услышал ее смех.
Ее жуткий, подземный, подводный, черный, вспыхивающий адскими огнями смех, и он видел подкову ее зубов, ее язык, дрожащий в смехе, и смех не кончался, и он готов был размозжить ей голову кулаком, кинуть ее об стенку, как он швырнул Эмиля, чтоб только она перестала смеяться.
Она искушает его смехом. Она искушает его собой. Гляди, как она полна жизнью, весельем. О нет, она ничуть не мертва. Она живет и царствует. Мертв ты. Ты – на дне черной ямы. И она сейчас встанет тебе на грудь ногой. И продавит ребра тонким каблучком. Она раздавит тебя, потому что ты показал ей слабость свою.
Мужчина. Сила мужчины съедена ныне. Мужчина идет вверх, все вверх и вверх, и думает, что он силен, сильнее некуда, – а на самом деле он спускается вниз, все вниз и вниз, скатывается вниз, и вот уже душа в преисподней, а сам ты, дурень, наверху, а пирамида-то перевернута.
И драгоценности оборачиваются кусками дерьма. И любовь – совокупленьем за деньги. И живые люди – костлявыми скелетами. И Бог…
Нет! Нет! Бог ничем не оборачивается! Бог не может стать иным!
А Дьявол – может?!
Дьявол, Митя, может стать Богом?!
– Почему ты преследуешь меня?!
– Подожди, дай докурю. Уж очень вкусная сигаретка попалась.
Она развязно, нагло докурила, бросила окурок на пол перед креслом, наступила на него ногой в телячьем сапожке.
Он впился глазами в ее лицо. Господи, какая мука. Скорей бы.
– Где мой образок?!..
– Вот он. Возвращаю тебе его.
Она помолчала миг. Выдернула образок св. Дмитрия из-за пазухи. Кинула Мите. Он поймал, потрясенный.
Он попятился. Жар обнял его лоб и виски колючим венцом.
Молчание разрезало воздух широким кухонным тесаком.
Она вытащила из пачки еще одну сигарету. Зажгла, снова затянулась. Закрыла глаза. Бархатная красная маска отсвечивала пламенем костра.
Молчанье повисло страшным чугунным шаром над их головами.
И просверкнуло мечом.
Красно-золотым карающим мечом Ангела с картины, что тихо мерцала над их склоненными головами.
– Говори! – крикнул он.
Она подняла голову. Свет зеленых глаз притушился, они светились тускло, грустно, как две зеленых масляных лампады. Он облизнул пересохшие губы.
Он всеми убитыми себя кормил. Он всех крепкими зубами перемолол. Он не мог разгрызть только ЕЕ.
И сейчас она ставит его к стенке.
И он очумело раскидывает руки.
И кричит: пощади!
И знает, что пощады не будет.
Она встала перед ним на своих высоких каблуках. Женщина: добилась всего красотой, купалась в деньгах и власти, презирала их, как никто.
Она близко подошла к нему, и ему в ноздри ударил тонкий запах лаванды, и рядом оказалось ее сильное гибкое тело под тонкой черной шерстью платья, и круто выгнутое бедро коснулось его бедра, обдав его страхом и жаром.
– Митя, – вкрадчиво, мурлыкающе прошептала она. – Митя, ты богат. Ты сейчас очень богат. Хотел бы ты быть баснословно богатым? Самым богатым человеком в мире? Чтобы у тебя было все, чего ни пожелаешь? Чтобы у тебя не было больше в жизни проблем? No problems, как говорят в Америке? Как говорил бедняга Фостер, мир его праху, – она шутливо воздела глаза к люстре, – хочешь?
Он отшатнулся. Его всего перекорежило. Чуть не вывернуло наизнанку.
– Нет, – выхрипнул он. – Не-е-ет!
А может, ты будешь богат так, как ни один человек в мире?! Подумай, как это хорошо. Все, что ни пожелаешь. Все блага, все наслажденья – тебе в руки. Человек рожден в мир для наслажденья, ему наслажденье благостно и приятно. Зачем же ты отказываешься от наслажденья, Митя. Ты же к нему всю жизнь шел. Ты за него боролся. Ты выгрызал его у горя и нищеты – зубами, когтями, как зверь. Так почему же ты не хочешь получить наслажденье, великое богатство – сполна?!
– Нет!
Она приблизила лицо. Он с ужасом глядел на ее румяные гладкие щеки. На бархат маски, обнимавшей переносицу, виски.
– Ну и дурачок, – проворковала она. – Юродивый. Тебе предлагают сладкую жизнь, а ты кобенишься. Но ведь у тебя будет в руках большая власть. Ты же уже понюхал власть, Митя. Неужели тебе не хочется властвовать? Ведь это так сладко – властвовать, владеть. Ты будешь первым в своей стране. Ты будешь первым на земле. Разве тебе не хочется быть первым?!
Он глядел ей прямо в глаза. Он видел ярко-зеленые радужки, мерцавшие зловеще, становившиеся то болотными, то золотистыми, как светляки, то густо-травяными. Какой Дьявол, оказывается, красивый. Она предлагает тебе власть. Она вхожа туда, куда ты еще не был никогда вхож. Она поведет тебя. Мужчину всегда ведет женщина. На трон мужчину всегда возводила женщина. И сбрасывала его с этого трона – тоже.
– Какой из меня владыка, – его губы еле разжимались. – Ты же видишь. Я собой-то не могу владеть.
– Отказываешься?
Ее зубы блеснули в веселой улыбке. Веселая госпожа Дьяволица.
– Не надо мне этого.
– А вечной жизни ты хочешь?
Он застыл, прикованный к ней холодной цепью долгого взгляда.
– Чего, чего?..
Он чуть не расхохотался.
– Я тебе говорю, ты хочешь не умереть никогда? Ты хочешь жить всегда?
Ему захотелось взять ее за руку. Потрогать рукой ее щеку. Сжать ее в объятьях. Ощутить руками, телом, губами шеловистость и жар ее кожи. Она – сама жизнь. Но ведь и она умрет. Если она человек, конечно.
Она не человек, Митя. Помни это.
– Люди не живут вечно. Не пори чушь. Если ты хочешь посмеяться надо мной, посмейся как-нибудь по-другому.
– Люди могут жить вечно, Митя. Ты даже не представляешь, как. Мы ведь не умираем. Когда мы родились, мы уже воскресли. Только мы не чувствуем этого. Я занималась древними техниками жизни. Я знаю древнее знанье. Я живу вечно. Я не умру никогда. Никто не сможет меня убить до конца. Я уже умирала в прежних жизнях насильственной смертью. А ты даже не представляешь себе, что это такое – вечность. Я научу тебя. Я введу тебя туда за руку.
– Чем я должен буду тебе за это… заплатить? Своей… душой?..
Лицо его скривилось. Она усмехнулась надменно. На ее губе показались мелкие капельки пота. Ей было жарко в маске.
– А разве у тебя еще есть душа, Митя? Разве у тебя еще осталась душа?
Я не хочу жить вечно. Не хочу, Дьявол. Соврати этим кого хочешь. Но не меня. Кого хочешь в Вавилоне.
Мы в Москве, идиот!
Нет. Это Вавилон. Горе, горе тебе, Вавилон, город крепкий. Зимняя Война подошла близко к твоим стенам. Не приближайся ко мне, Дьявол. Глаза твои горят зелено, раскосо. Где твой зверь. У тебя же должен быть зверь.
Да, я приехала на звере. Вот он.
Распахнулась дверь. Вошел волк. Живой волк, серый, матерый, с встопорщенным загривком, с горящими красными глазами.
Волк бросился на него.
Он протянул вперед руки. Растопырил пальцы. Вцепился крючьями пальцев в сырую, вымокшую в снегу волчью шерсть. В каком зоопарке, за сколько штук вонючих баксов она, дрянь, его купила?
Рядом с собой он видел оскаленные желтые волчьи зубы. Он душил зверя. Зверь рвался к нему, к его горлу. Цапнул зубами его руку. Потекла кровь. Зверь зарычал, отпрыгнул. Сумасшествие тлело в красных зрачках.
Да, она сидела на нем верхом, вцеплялась в холку. Она была хозяйка зверя. И весь Вавилон глядел на нее, и падал перед ней ниц. И теперь она глядела, как он беспомощно борется со зверем, как зверь вот-вот загрызет его, а он не может дотянуться до револьвера – там, в диванных подушках.
Она глядит из-под красной маски. Она смеется. Подносит два пальца кольцом ко рту. Свистит хулигански. Зверь знает ее свист. Ее приказ. Останавливается, рыча, с клыков капает слюна. Кровь капает из раненой руки на паркет.
Он открыл глаза. Она стояла перед ним в маске и смеялась. Он поглядел на руку. Странный порез… или укус. Он же боролся со зверем, он помнил. Где волк?! Она смеется. Она смеется над ним. Она всегда смеялась над ним.
– Ты вела меня за руку. – Его сбивчивый хрип вытекал из него, как водка из опрокинутой в пьяном пире бутылки. – Ты вела меня за руку к богатству и блеску. Ты привела меня к убийству себя. Я мертв. Я потерял Рай. Я изгнан оттуда. Там, в нищей коммуналке, в старом доме в Столешникове, я жил в Раю. Я не понимал этого. И в Сибири, в отрогах Саян, там, на Байкале, в Слюдянке, я жил в Раю. Я помню синюю прозрачную воду Райского озера. Райские кедры, шумящие над головой. Райские звезды над зимними горами. Райского омуля в жестяных ведрах. Я тоскую по моему Раю, ты, Дьявол. И ты мне его уже никогда не вернешь. Я ненавижу тебя. Хоть ты и страдала в жизни не меньше моего. Я ненавижу тебя. Я… уничтожу тебя.
Она внезапно потемнела, стоя перед ним, он увидел ее всю черной. Он почернела, будто обуглилась. Что с его зреньем?! Протянул руки. Кинулся на нее. Повалил на пол. Она вырывалась из-под него, царапалась, кусалась. Она защищалась, как простая женщина. Женщины визжат. Эта – боролась молча.
Они сплетались клубком, катались по паркету. Он чувствовал боль в раненой руке. Когда она могла мазнуть его ножом?! Где взяла нож?! Если нож валяется на полу – он его найдет. И всадит ей в живот.
Они подкатились к столу, зацепили, борясь и возясь, ножку стола; ларец с драгоценностями упал на пол. Крышка откинулась. Все рассыпалось – и сокровища, и никчемное барахло. Он боролся с ней безжалостно, скручивал ей руки за спиной, бил локтем в грудь, в живот. Она не вскрикнула ни разу. Тяжело дышала.
Всякий раз, когда он уже прижимал ее к полу, думая, что осилил ее, ей удавалось вырваться. Она дышала бурно, задыхалась, отбрасывала кивком с лица рыжие пряди, что лезли ей в рот, а он чуть не ломал ей кости, удивляясь неслыханной ее крепости, выносливости, уменью драться – по-хулигански, по-мужски, по-бандитски.
Она знала бандитские приемы. Раз или два она так саданула его, что у него в зобу дыханье сперло. Она знала захваты, болевые точки, слабые звенья суставов. Когда он стал душить ее локтем, наброшенным ей на горло, она изловчилась и сломала ему мизинец. Он взвыл от боли, выругался. Бросился на нее с размаху, плашмя. Прижал всем телом к паркету. Распластал на полу.
И наступили чудеса. Он почуял в себе жалость. Жалость к ней, такой злой, такой жестокой и сильной. Ярость уступила место жалости – такой широкой и безбрежной, что он плыл в жалости, купался в ней, тонул. Сознанье его раздвоилось, поплыло щепкой в водовороте ужаса и жалости. Он лежал на ней, на женщине, мужчина, изнывая в последнем жаленье. Он захотел последний раз отдать ей себя. Он захотел последней попытки любви – он, выжегший любовь из души кислотой зеленых денег.
Дрожь охватила его. Он трясся, как осенний лист на ветру. Он вспомнил осенние, летящие по ветру листья там, в Китай-городе, где она назначила ему свиданье однажды. Он неловко прижался губами к ее щеке, будто пацан, вперые лежащий с девочкой, будто не целовался еще ни разу. И она тоже задрожала. Обняла его затылок. Он потянул упругое платье вниз с плеча. Плечо и грудь, обнаженные, обожгли его, будто он голыми руками вытащил из печи полено. Он припал к ее груди губами. Боже, какое счастье. Какое великое счастье для мужчины – быть с женщиной. Совершать любовь, даже если в тебе нету любви. Дарить любовь, даже если она в тебе вся сожжена. И тает чернота. И ее тело опять становится белым, чистым – много раз насилованное, проданное, загаженное, изломанное тело. Тает лед и чернота под руками, тает хрусткий лед на реке, и идет ледоход, и Волга освобождается от оков, и грохочут льдины, вставая дыбом, как шерсть на загривке волка, и женщина кричит, кричит от наслажденья, от избавленья – оттого, что мужчина говорит ей своим смертным телом: люблю.
Она оживает под его телом. Под руками, под телом любви. Но ведь он же ее не любит! Он только спасает ее – собой, живым!
И она… да, это правда, он чувствует, как она дрожит, как улыбка – не злорадная, а робкая, детская – всходит Солнцем на ее губы, как из-под ее век течет светлая соль, и он слизывает эту соль губами… женщина, это женщина, и ты всегда должен поклоняться женщине, всегда творить ей любовь, любой женщине на земле, даже проститутке, даже юродивой, даже… бездомной одяшке с вокзала… бандитке, прокаженной… только тогда ты сможешь войти в ворота покинутого Рая, вернуться в Рай… вернуться… а там, на обрыве над рекой, – пожарище, сгорели белые стены, сгорели до пепла срубы…
И Плащаница горит… и горела много раз… огонь тушили там, в Туринском соборе – а она оставалась цела…
Господи! Он же в ней! Он же движется в ней, входя в нее всей силой тела и души, как входили в своих женщин все мужчины, всегда! Неужели он ее спасет!
Внезапно он извернулась, вывернулась из-под него, оттолкнув его ногами – и оказалась над ним. Он думал – она хочет обнять его иначе, быть сверху, над ним, и он уже согласен был стать ее верным зверем, ее троном, чтобы она воссела на него, плясала в радости, в наслажденье, – не так все оказалось. Она выбросила вперед руки. Схватила его за горло. И стала душить, сжимать у него на горле пальцы – так, как он когда-то сжимал пальцы на горле маленькой мадам Канда.
Ах ты!.. кто кого, значит, снова…
– Тяжело дышать… ты давишь меня… ты…
Она наклонилась над ним. Ее такое красивое в любви лицо теперь было страшно под маской.
– Ах ты Митя, Митя, – прохрипела она, не разжимая пальцев у него на глотке. – Ах, дырявая же все-таки память твоя. Я увидела тебя первый раз на Арбате. Тебя, нищего художника. У тебя старик покупал картинку. А я стояла за его плечом. Картинка назвалась “Адам и Ева едят яблоко”. Китч такой арбатский, ляпня, мазня, яркая, веселая. А ты на меня пялился, глаз не сводил. Я посмотрела на тебя и запомнила тебя. Я уже знала все про тебя. У тебя лицо такое. Я подумала: этот мальчик будет шагать по трупам. Ни перед чем не остановится. Но я, я сама поведу его. Я покажу ему, что такое восхожденье. И низверженье.
Он забился под ней. Она держала его крепко. Сильней любого мужика. Он задыхался.
– А… та машина?!.. Ты… знала, что она врежется в троллейбус…
– Знала.
Она сильнее сдавила пальцами его шею, и он, в последнем отчаянном рывке, сбросил ее с себя нечеловеческим усильем, уже наполовину задохнувшийся, уже полумертвый – и кинул прочь от себя.
Она упала. Задранное платье обнажило ноги, живот. Она была в сапогах, так и не сняла их. Стукнулась затылком об пол.
Он ринулся к столу, судорожно схватил нож.
Столовый, тупой серебряный нож. Таким ножом ты ее не убьешь.
Руки! У тебя есть только руки!
Он схватил ее за руку и взмахнул над ней ножом. Тупое лезвие лишь скользнуло по ребрам. Она вскочила и выбила у него нож из руки одним точным, мужским ударом. Он схватил стул, размахнулся. Она выбила у него из рук стул ногой. Ага, каратэ-до. Прекрасно. Обученная тварь.
Его мечущийся взгляд упал на револьвер. Он, выставив локоть вперед, защищаясь от ее наскоков – она била его точно и жестоко, и кулаком, и ногами, взбрасываемыми в яростных рывках, в лицо, в челюсть, до крови, – бросился к дивану, схватил револьвер, вскинул и выстрелил. Промазал! Первая пуля угодила в шкаф. Стекло рассыпалось с громким звоном.
– Ты все равно не убьешь меня, – выцедила она, выбросила ногу, ударила его пяткой в живот.
Он упал. Отличный удар, в печень. Как его скрутило. Вскинул пушку еще. Стал целиться лежа. Она, хрипло дыша, схватила стол за ножку, перевернула одной рукой, весь, с посудой. Закрылась столешницей, присев за нее. Вторая пуля застряла в ножке стола.
– Я убью тебя!
Он заревел как зверь-подранок.
– Это я убью тебя. – Ее глаза бешено горели в прорезях маски. – Хоть я и пришла сюда без оружья. Мне не надо оружья, чтобы убить тебя.
Она выбежала из-за стола, наступила на стеклянные осколки на полу. Хрустальные обломки хрустнули под сапогом. Она сделала шаг к нему. Подняла руку к лицу. Вцепилась в красный бархат, сорвала маску. И он увидел ее лицо без маски – таким, как когда-то давно, на Арбате.
И он понял: вот она, Ева.
Это ее лицо написал на картине Тенирс.
Это она, рыжая, золотая, плачущая, бежала от карающего Ангела, ибо согрешила в Раю, и убоялась возмездия, и прижималась к Адаму, и плакала.
Это она, Ева.
Грешная Ева, ставшая властной и сильной Лилит.
Она глядела на него пристально. Его обняла дрожь. Он почувствовал: еще немного, и он выронит из руки револьвер.
– Инга!.. – задыхаясь, крикнул он.
– Брось пушку, – холодно сказала она, продолжая глядеть ему в глаза. – Брось игрушку. Ты не убьешь меня. Ты слаб. Ты мертв, Адам. Ангел уже ударил тебя в спину огненным мечом.
Он понял: сейчас рука ослабеет вконец, пальцы разожмутся, кольт грохнется на пол, и она схватит его. Страшным усильем воли, так и не сумев отвести взгляда от ее открытого навстречу ему лица, от ее ярко горящих глаз, он поднял револьвер и выпустил в нее, ей в грудь, которую он так безумно, пылко целовал когда-то, все оставшиеся в барабане пули – одну за другой, оскалясь, прищурясь.
И она протянула вперед руки, улыбнулась и упала. Лицом вниз. На ее спине, на черном платье, расплывались алые, багровые, карминные разводы. Краплак красный, сурик, охра красная, кадмий красный и оранжевый. Тенирс тоже любил теплые цвета.
… … …
В широкие окна особняка в Гранатном переулке сочилось тусклое молоко рассвета. На полу лежали двое: женщина, вся в крови, и мохнатый волк – потрепанная меховая игрушка. Волк выпал из рукава норковой шубки, небрежно валявшейся на диване.
Митя поднял осоловевшую тяжелую голову. Он сидел среди осколков сервизного хрусталя на полу. Он всю ночь до рассвета так и просидел на полу, согнув ноги, опершись подбородком на острые колени. Кровь Инги растеклась по паркету. Как жаль, что он уже никогда не напишет портрет самой красивой девушки Вавилона, города крепкого.
Надо бы положить труп в мешок, оттащить в багажник. Увезти подальше. Бестолковое дело. Все равно найдут.
Когда-то должен быть конец его игре. Когда-то должна игра оборваться, должно перестать везти. Кому везет в игре – тому не везет в любви, старая истина.
Перевернутый ларец валялся на полу, рядом с убитой. Драгоценности тускло и грязно мерцали. Митя, кряхтя, поднялся с полу. Стекла врезались ему в ладонь. Он поглядел на окровавленную ладонь, сжал руку в кулак. Нагнулся над ларцом. Собирал драгоценности с паркета деревянными руками, клал в ларец, не глядя.
Потом пошел в кухню, принес ведро с водой, тряпку. Стал замывать пол. Отжимал красную, набрякшую кровью тряпку в ведро, видел, как серая вода становится розовой, красной. Убитая женщина так и лежала ничком на полу. Ее красные в утреннем свете волосы были причесаны на прямой пробор. Сзади на платье, на спине, горели две красных дыры.
Митя домыл пол, крепко отжал тряпку, насухо вытер руки о камчатную скатерть, свешивавшуюся с перевернутого стола. Огляделся. Адам и Ева на картине все бежали, никак не могли убежать из сияющего Рая. Прощай, брат Тенирс. Неплохо мы с тобой повеселились в этом мире. Оттяг был что надо.
Митя послал Адаму воздушный поцелуй. Шагнул к шкафу. Вытащил из-за стекла десть бумаги, ручку. Снова сел на пол. Положил бумагу на колени. Его руки дрожали. Он стал писать. Буквы дергались под его рукой.
“Я УБИЛ ДЬЯВОЛА, КОТЯ. ЭТО ЖЕНЩИНА. ЭТО ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА. ВСЕ, КОТЯ. НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ ДЬЯВОЛА НЕТ. Я УБИЛ ЕГО НАВСЕГДА”.
… … …
Широкий ветер гулял в полях за Волгой, и снега стали подаваться, и в воздухе пахло теплым, прелым, тревожным запахом весны – скорой и дружной. Ручьи звенели громогласно, срываясь с обрывов, с откосов вниз, и лед уже стал топорщиться сколами, взрываться торосами, и уже по стрежню плыли первые льдины, как большие белые рыбы. Синее небо ярко и ясно отражалось в густо-синей воде, и отец Ермолай велел начистить кресты на луковицах мелом – чтобы золотом засияли к Пасхе. Однорукий отец Корнилий, отслужив службу, все стоял на обрыве, все глядел вдаль, в безбрежную заволжскую ширь, изредка крестясь, широко, медленно, и обветренные губы его шевелились, будто бы он молился за кого-то или поминал кого-то. Монахи не тревожили его. Это был его час. Час его одиночества и его простора.
Никто из монахов не знал, что с ним приключилось в женском Желтоводском Макарьевском монастыре, куда он ездил на Благовещенье с отцом Ермолаем – совершать Благовещенскую Божественную Литургию. К святому Причастию, среди прочих, подошла странная, не поднимавшая глаз монашка. Молоденькая, возможно, еще послушница. Черный платок глухо обнимал ее бледные щеки. Веки были опущены. Отец Корнилий видел только густые ресницы, от них на скулы падала тень. Когда она подошла к нему и он окунул витую ложку в потир с Кровью Христовой, она, вместо того чтобы поднять голову и вкусить Святых Даров, наклонила ее еще ниже. Отец Корнилий всунул ложку с Причастием в рот монашке, она смиренно поцеловала его единственную руку, край позолоченной чаши. Дьякон, стоявший с красной, как кровь, тряпкой в руках, протянул тряпку и утер ей рот. Отец Корнилий услыхал сзади, за спиной, перешептыванья насельниц: это та, та самая, которую всю израненную привезли. Израненную?.. Откуда?.. С войны?.. Он пристальней посмотрел на нее, и она, еще низко кланяясь, еще не отойдя, сгорбясь, от потира, поправляя исхудалой рукой черный плат на щеке, внезапно вскинула на него ярко-зеленые сверкающие глаза.
FINE