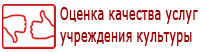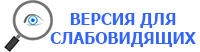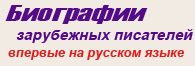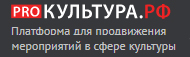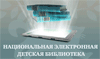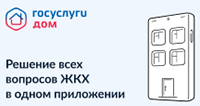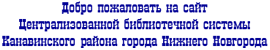
Красная луна
 Ультраправое движение на планете – не только русский экстрим. Но в России оно может принять непредсказуемые формы.
Ультраправое движение на планете – не только русский экстрим. Но в России оно может принять непредсказуемые формы.
Перед нами жесткая и ярко-жестокая фантасмагория, где бритые парни-скинхеды и богатые олигархи, новые мафиози и попы-расстриги, политические вожди и светские кокотки – персонажи огромной фрески, имя которой – ВРЕМЯ.
Три брата, рожденные когда-то в советском концлагере, вырастают порознь: магнат Ефим, ультраправый Игорь (Ингвар Хайдер) и урод, «Гуинплен нашего времени» Чек.
Суждена ли братьям встреча? Узнают ли они друг друга когда-нибудь?
Суровый быт скинхедов в Подвале контрастирует с изысканным миром богачей, занимающихся сумасшедшим криминалом. Скинхеда Архипа Косова хватают на рынке во время стычки с торговцами и заталкивают в спецбольницу. Главный врач, Ангелина Сытина, делает его своим подопытным кроликом – и вкручивается в орбиту, очерченную свастикой и кельтским крестом...
Жестокость рождает смерть.
Может быть, смерть – пространство новой любви для тех, у кого выхода нет?
Елена Крюкова
КРАСНАЯ ЛУНА
КРАСНЫЙ КРУГ И ЧЕРНЫЙ КРЕСТ
Марс, планета битвы, вбит красным гвоздем в ночное небо далеко от Земли.
Луна гораздо ближе. Она никогда не была красной. Напитанной кровью, как губка.
Мы и не думали, что кровь так близко. Так рядом.
Но она в нас, наша кровь. И выпустить ее наружу неистово хотим мы сами.
«Красная Луна» – не политический роман, не роман об ультраправых, не роман о скинхедах. Этот текст – средневековый символ– знак, шифр темной и тайной легенды: она никогда не обернется к нам явью, как Обратная Сторона Луны.
Не обернется? Откуда вы знаете?
Я – не знаю. Поэтому я написала старинную песню о пророке. Его звали Нострадамий, и он был маленький пьянчужка из привокзального буфета, бродяга в штопаном пальто. Он видел Иные Миры и был моим учителем. Благодаря ему я увидела мир с Обратной Стороны.
Философ Жак Гимпел верно сказал, что на изломе веков, двадцатого и двадцать первого, на Земле начнется эпоха нового Средневековья. Мы забудем, что мы просто живые люди, и будем яростно помнить, что мы – православные, иудеи, мусульмане, буддисты, вайшнавы. Сначала мы будем веровать, потом – быть народом, и только потом – людьми. И мы будем сражаться за нашу веру, потом – за наш народ, а потом...
Что будет потом?
Нам охота заглянуть в будущее. Но это возможно лишь для пророков.
Я обманула вас. В романе есть и политика, и даже геополитика; и вожди, и их враги; и ультраправые, и скинхеды; и те, кто хочет, чтобы они победили; и те, кто хочет, чтобы их стерли с лица земли.
Это будет завтра? Или этого не будет никогда?
ВСЕ БУДЕТ, КАК ПРЕДСКАЗАЛ НОСТРАДАМИЙ.
И все же я рассказываю историю. А история – всего лишь страшная сказка, не более.
Откиньте штору. Вы увидите за окном ночь. Пусть она никогда не станет Хрустальной.
Вы увидите Луну. Она пока еще не красная, не кровавая. Она похожа на спелый апельсин и улыбается вам и вашим детям.
Моим детям
АНГЕЛИНА
Тишина. Мои руки подняты вверх. Десять пальцев растопырены. Они горят. Пылают – десять свечей. Десять языков огня.
Отойди от меня! Ты, кого я отвергла!
И ты, кого я ненавижу.
И ты, кого я люблю.
Подойди ко мне ты, в кого я верю.
Ты – мое зеркало. Ты – моя ставка. Я ставлю тебя на кон – и выиграю жизнь. Жизнь– то у человека одна. Ты веришь в то, что будет за гробом?! Я – нет. Может быть, я несчастна, и счастлив тот, кто верит в вечную жизнь?!
Я счастлива. Моя кровь слишком горяча. Мои глаза слишком длинны, руки слишком влажны и подвижны. Я беру, осязаю, краду, наслаждаюсь, вонзаю зубы, раздуваю ноздри. У жизни слишком животная природа, чтобы века напролет разглагольствовать о душе.
Слишком пахнет грозой в душном и грязном воздухе. Слишком напрягся мир – мышца жаждет, чтобы в нее всадили пулю, вонзили нож. Живая кровь – вот чего не хватает миру, захлебнувшемуся в клюквенном соке. Созерцание фальшивой крови порождает неистовую жажду настоящей. Я слишком настоящая, слишком живая, слишком пламенная, чтобы врать самой себе. У меня румяные щеки, длинные глаза, потные подмышки, они зверино пахнут, я моюсь под холодным душем, чтобы смыть запах зверя, запах жизни, хожу в сауну, прыгаю зимой в прорубь, душусь изысканными духами, обливаюсь с ног до головы парфюмами и мажусь дезодорантами, и все равно запах жизни так силен, что мужчины чувствуют его на расстоянии – они ощущают его не обонянием, а сущностью. Сущность – вот что жжет и пылает. Наша жадная сущность неистребима.
И те, кто обладает сущностью, должны истребить тех, в ком ее нет, кто пуст, как выпитая бутылка. Выпитые бутылки выбрасывают на помойку, не правда ли?! Может быть, это вы их сдаете в прием стеклопосуды?!
Ты, в кого я так истово верю, – подойди ближе, не бойся. Женщина не кусается. Женщина обнимает и вбирает, ты тонешь в ней. Она выпивает тебя до дна – ты слишком крепкая водка, чтобы смаковать тебя, долго держать во рту.
У тебя широкие скулы. У тебя тяжелый железный подбородок. У тебя раскосые светлые глаза. Ты умный, ты властный и жестокий, может быть, ты хитрый, и это хорошо. У тебя гладкая кожа, ты раздуваешь ноздри, ты отлично знаешь, чего хочешь. Тебе кажется – ты хочешь того, чего хотят все. Тебе кажется: ты чувствуешь то, что чувствуют все.
А может, ты ошибаешься?!
Я кладу руки на твои плечи. Ты чувствуешь мои губы? Мой живот? Ты чувствуешь мои мысли? Неужели ты читаешь их, ты, неграмотный, грубый, слепой, черствый? Ты чувствуешь мою душу? А разве у меня есть душа? Думаешь, я беременна душой? Я давно ее родила. И она живет отдельно от меня. Я гляжу тебе в глаза. Ты – это не я, но ты становишься мною. Я выпью тебя и закушу тобой – за твою победу. За то, чтобы ты победил и вознесся.
Счастье женщины – в том, чтобы победил сильнейший?!
Что же ты будешь делать потом, после победы?
Торжествовать?!
Торжествовать буду я.
Потому что это будет МОЯ ПОБЕДА.
И пусть потом я… пусть потом я буду…
Пусть потом я заплачу, брошу голову на руки… выгнусь в судороге отчаянного крика!.. искусаю в кровь губы… пусть потом, позже я прокляну себя… захохочу над собой, как сумасшедшая… пусть потом я умру, умру… пойму, что все, что я делала, – гроша ломаного не стоит… пусть потом я пойду по миру, продам себя за копейку, разломлю на куски и разбросаю, как черствые корки, голодным зимним птицам… это все потом!.. потом, потом… а сейчас я сильная, как ты. Я жестокая – как ты. Я холодная и властная – как ты. В нашем мире кто не силен – тот проиграл. А я не хочу проиграть. Я хочу выиграть. Выиграть – что?!
Нет, я не плачу… Ха– ха!.. Я – смеюсь. Я смеюсь над собой. Я слишком высокого роста, чтобы плакать над смертью муравья. И мне не нужно косметики, я и так чересчур ярка. Я сверкаю так, что меня видно издали.
Я помогу тебе взять власть. И ты будешь держать ее крепко. Сжимать обеими руками. Пока не задушишь.
Ты знаешь, человек за все, за все на свете платит очень дорого. Даже если он платит копейку. Копейка, выпачканная в крови, обскачет по цене египетский изумруд. Плати за меня живыми изумрудами. Плати за меня бешеными деньгами. Плати за меня властью. Просроченный товар – гнилой товар. Я твой товар и твой купец. Плати за меня – жизнью.
Он стоял перед ней на коленях, уткнув голову ей в живот. Она была нага. Штор на окне не было. На крестовине рамы была распята черно– звездная, сизая от инея зимняя ночь. Она когтила пальцами, как громадная птица, его голову, больно впивалась в волосы, ласкала лицо. Он закинул шею. Глядел на нее. “Ты сделала все, чтобы я…” Она положила ладонь ему на горячие губы. Он тоже был голый, как и она, и от его тела шел жар, как от костра.
Я ВЕДУ ТЕБЯ ВЫШЕ. ВСЕ ВЫШЕ. ЭТА ЗЕМЛЯ УЖЕ ТВОЯ. ПОЧТИ ТВОЯ. ЕЩЕ НЕМНОГО. ЕЩЕ НАПРЯЧЬСЯ. ЕЩЕ ВНУШИТЬ. ЕЩЕ ПРОЛИТЬ КРОВИ. ЕЩЕ…
Он приблизил губы к развилке ее ног. Коснулся ртом красной соленой раковины. Она выстонала: “Еще…” Над ее головой, над ее мрачно– красным атласным телом, над темно– красными, цвета погибшего заката, космами, разбросанными по тускло блестевшим плечам, по ледяно– голой спине, между перекладинами оконной крестовины всходила красным нимбом, закрывая белый мир, огромная красная Луна.
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ. НОРД
“Группа крови на рукаве,
твой порядковый номер на рукаве…”
Виктор Цой
– А– а– а– а– а!.. А– а– а– а– а!.. Держи его!.. Держи его!..
– Он же его насмерть забил, насмерть…
– Держи его, братцы, уйдет!.. Убег уже!..
Темь. Свалка. Гогот. Дикий крик. Неистово, сладко– погибельно, оглушительно матерятся те, кто вытягивает шеи, наблюдает издали; задние наседают; толпа давится и давит, напирает, бежит, ужасает сама себя, водоворот злобы охватывает всех, захлестывает волной, – на вечернем рынке, разлегшимся фруктово– мясным, тряпочно– сальным мертвым китом посреди Москвы, бритые подростки в черных рубахах и черных кожаных куртках, размахивая тяжелыми железными цепями, жестоко пиная в бока, в ребра поверженным огромными черными башмаками “Camelot”, бьют чернокудрявых, крючконосых, смуглявых южных торговцев. Продавцов с Кавказа. Из Туркмении. С Каспия. С Сыр– Дарьи. И китайцев тоже бьют, и корейцев – всех раскосых; всех, кто смугл и широкоскул; у кого глаза и брови чернее ночи; всех – нерусских.
Насмерть бьют.
– Эй, вы!.. С– с– с– суки… Вы, гады!.. вы… ответите…
– А– а, а– а, а– а, а– а… парни, он мне башку цепью прошиб!.. Найдите… отомстите… и матери… матери передайте…
– Все, сдох, ты, чурка?!..
– Бежим, кореша!.. Щас сюда сявок с автоматами нагонят!..
Толпа катит. Толпа рычит. Из толпы, как молнии, вылетают ослепительные крики.
Вал катится – вал не остановить.
Лица. Во тьме – лица. Они тоже режут тьму огнями. Клубок лиц и тел то сматывается, то разматывается. И мрак прошивает длинная прерывистая лента огня. Трассирующие пули. Разрешено применять оружие?! Стреляют!
В них стреляли – а они били. Кастетами. Цепями. Камнями. Ботинками. Ножей у них в руках не было, и вдруг кто– то пронзительно завопил в толпе:
– Ножи! Гля, ребя, у них же ножи! Разбегайся!
А сзади стреляли, стреляли, стреляли и надсадно орали:
– Ложись! Ложись, мать– перемать!.. Стоя– а– а– ать!..
И толпа повалилась на землю, рассыпалась на черные людские комки, покатившиеся в разные стороны, а сторон не было, потому что вокруг были прилавки, и люди лезли на прилавки и ящики, на деревянные лари и картонные коробки, падали грудью на железные скобы, взбирались на крыши фургонов, залезали под навесы, – а сзади все стреляли, и те, кто бил, те, в черных куртках, протискивались, с обнаженно– озверелыми, бледно– беззащитными лицами сквозь клубящуюся толпу: убежать!.. удрать!.. не даться в руки!.. уйти во что бы то ни стало!.. – и не могли уйти: падали под выстрелами, их ловили, они отбивались, как отбивается зверь, попавший в капкан, – шла охота на тех, кто вздумал убивать, и те, кто был оголтелым охотником, сам стал добычей.
– Пашка!.. Па– а– ашка!.. Сюда!.. Голову прячь!..
– На землю!.. Уполза– а– ай!..
Они ползли, как ползут на брюхе побитые собаки, по мерзлому, заледенелому, посыпанному грязной солью снега асфальту. Люди в пятнистых куртках, с автоматами наперевес, настигали мальчишек в черных кожанках и черных массивных, как утюги, сапогах со шнуровкой. Мальчишки швыряли прочь велосипедные цепи. Визжали, как щенки. Вжимали головы в плечи.
Лысые головы. Бритые головы.
Мальчишки с гладкими, как яйцо, бритыми налысо головами тщетно пытались убежать с зимнего ночного Черкизовского рынка. Их настигали. Их ловили.
Их ловили, чтобы они больше никогда…
– Архип!.. Архипка!.. Что ж ты, мать твою, а…
– Гниды!.. Я все равно…
Его толкнули в спину. Повалили на снег. Заломили руки за спину. Защелкнули наручники. Какие же, мать их, наручники холодные. Как лед.
Он лежал животом, лицом вниз на твердом, как лист железа, ледяном асфальте, покрытом коркой драгоценно, опалово блестевшего черного льда, и ощущал щекой черный холод лютой земли. Кто такая земля была ему? Он на земле был один. Он был сирота. У него не было никого. Уже – никого – на земле – не было. Время, смерть, одиночество. Одиночество в семнадцать лет – оскал улыбки, в зубах – сигарета. Одиночество в двадцать с хвостом – это уже жестокий принцип жизни. И черта ли, господа, в этой жизни. Жизни просто нет, господа. Есть – след военного сапога на снегу. Наступи сапогом на морду ниггера и чурки. Отпечатай на его роже свою подошву. Посвети его отлетающей душонке в кромешной тьме своей яркой лампочкой – лысой головой.
– Ты убил! Ты убил, сука! Ты убил троих! Тех, что вон там валяются! У тех ларьков!
– Я?! Я?!
– А что, хочешь сказать, что не ты?!
– Нас тут много! И мы вам еще покажем! Всем покажем! Бей черных! Бей ниггеров! Бей косых! Бей жидей! Бей всех, кто бьет нас! Спасай Рос…
– Кого, кого “спасай”, козявка?!.. По ушам не хочешь?! А по зубам?! Н– на! Н– на! Н– на еще! Еще заикнись!.. В машину его!..
Когда его заталкивали в черное, тесное, душное пространство приземистой железной повозки, он почувствовал, что по его лодыжке течет липкое, горячее. Запоздалая боль в икре резанула, прошила его. Подстрелили. Они все– таки его подстрелили. Его везут в тюрьму. В тюрьму, куда же еще.
Его привезли туда, где он ни разу в жизни не был. Казенные стены, разбитые плафоны под потолком. Пахло хлоркой, тараканьим мором. Запах пустоты. Запах ужаса. Его втолкнули в тесную каморку. Он поднял глаза и увидел перед собой частые стальные соты решетки. Вошли люди. Он понял – они будут его бить.
И его били.
Били долго.
Он сжимал зубы. Он, защищая живот и пах руками, катался по полу. Когда– нибудь он все– таки должен был потерять сознание.
Он так и застыл недвижимо – в позе младенца в утробе матери, в черных, густо намазанных черным обувным кремом, роскошных модных зимних ботинках английской фирмы “Camelot”, в перепачканной кровью тельняшке, – черную кожаную куртку с него скинули, пнули под лавку, – с пятнами и потеками крови на бычье– упрямой, бритой беззащитной голове.
… … …
ПРОВАЛ
А– а, а– а, а– а. А– а, а– а, а– а.
Моя денежка… моя денежка.
Моя красная, моя медная денежка. А– а, какая же ты красивая! А и что я могу на тебя купить?.. А и звезду с неба могу я на тебя купить, только та алмазная звезда мне, царь– государь, не нужна. Не нужна – и весь сказ!
Брожу босой, снег режет ноги косой. А и под щиколотки мороз скосит – меня не спросит! Стой, ты! Хочешь, правду скажу?.. Не бойся правды. Правда – это Око мира. Око зрит, да не моргает, все про нас знает. А правда – она всегда одна. Одна, как крест на груди! Нашего царя скинут, скинут, из России душу вынут!.. и по миру пустят гулять, побираться, сидеть у иноземных храмов с протянутой рукой… Тот, кто жиреет, – пуще зажиреет! Тот, кто тощой, – станет совсем нищой! О– ох, о– ох, о– ох… Будет война. Старухи хлеб сушат, бездомные в отбросах копаются, галки да вороны над золотыми да над красными куполами кружатся – значит, будет война!
И война, добрый человек, будет стра– а– ашная, стра– а– ашная… ибо врежется одна железная птица в град– камень, другая железная птица – в град обреченный, а третья… третья…
Наш народ ни хлебом не корми, ни медом не корми. Наш народ – Духом Святым корми!.. – а он– то и Дух Святой не проглотит. Не хочет благодать жрать, хочет лютым голодом мориться. Эх, голову закину – а надо мной – купола! Вон их, девять куполов– то, храма Покрова… площадь Красная, прекрасная… На дынном куполе – красотка сидит, о любви говорит. Ты не слушай ее. Все врет она, хоть маслом ее залей, хоть в вине искупай, хоть водки в глотку плесни.
На лимонно– золотом куполе – черная ворона сидит, о смерти говорит. Накаркает, берегись!.. такая наша жись… А и ты не слушай ее: дура птица, одно слово, дура! И о смерти птица ничегошеньки не знает, ибо ее могила – синее небо!
На полосатом, как татарский халат, куполе – царь– рыба сидит, крючок в губе ее торчит, отпустить молит. И ты, и ты все живое – не мучь! Отпусти!
На сапфирово– синем куполе – старуха сидит, о хлебе говорит. Мало, мол, хлеба будут печь! Много, мол, железа да пуль в плавильнях испекут! А ты и ее не слушай, ей времячко душу вычернило, она войну уж видала, и с тех пор ей все пули снятся, а хлеба свеженького рот просит, шамкает.
На травянисто– зеленом куполе ребеночек малый сидит, невнятицу говорит: ля– ля да мня– мня, зачем в мир родили меня?! А и кто тебя рождаться просил – уж больно сам о том голосил! Не слушай детей – ты, родитель, не нужен им! Им твои монетки нужны, твои хоромы нужны, твои горячие блины нужны! А сам ты им не нужен, и душа твоя не нужна!
На голубом, с золотыми звездами, куполе мужик бородатый сидит, звезду молотком приколачивает: эх, раз, еще раз! Гвоздь в сусальное злато засажу – на дело рук своих погляжу! Хвалит себя мужик, мастера– плотника, да ты не слушай его: хвальба ни в каком деле, ни в малом ни в большом, не нужна!
На черном, с серебряными звездами, куполе – батюшка в рясе сидит, борода по ветру летит, сам лик в ладоши уронил да плачет: о чем, о чем вам поведать, православные?!.. Брехать не хочу, а правда – не по плечу!.. Не слушай его: одним глазом он плачет, другим смеется, шепчет потихоньку: а все равно я апостольский наследник, а вы, вы– то все – кто?!.. О– гла– шен– ны– и– и– и!..
На снежно– белом куполе монахиня в черном сидит – о боли грешным нам кричит: больно, больно!.. Душа горит!.. Не слушай ее: ее на телеге везут да в яму сбросят, голодом уморят, потом – святой сотворят, в церкви на стене намалюют, и ради славы грядущей она всю боль готова претерпеть, какая есть на земле!..
А на последнем, девятом, кроваво– красном, куполе – лысый отрок верхом сидит, и ничего, ни слова не говорит, молчит! Молчит страшно! Молчит яростно! Молчит – как огонь горит! Молчит – как пожар идет! Молчит – как кнутом грешников бьет! А вы все, вы, внизу, что головы закинули?!.. Бритый, будто в тюрьму его ведут… будто голову рубить будут… простой, обычный мальчонка, щенок, гриб мухомор, может, солдат беглый аль вор!.. а вы, вы что глядите на него, как на Бога?!.. Купол– то он обнял, ногами обцепил, руками обхватил, как девку, как теплую бабу, а снег с небес валит, а вы все, внизу, кричите кто что: “Бог!.. Дьявол!.. Несмышленыш!.. Преступник!.. Кат!.. Негодяй!.. Святой!.. Распять!.. Короновать!..” Ах ты, мать– перемать…
Вот его – слушай. Его молчание – впивай. Его тишине – внимай.
Тишина – священнейшее из того, что человек слышит.
Звон. Звон в тишине. Железная птица когтями в каменную свечу вопьется. Вижу. Пророчу. Так будет.
Когда вопьется – мир накренится, будто карбас рыбачий.
Не жалей меня, что босиком брожу; босыми ступнями – по сердцам наслежу! А ты, ты, ежели крест не носишь, так вериги носи, себя железными цепями всего обвяжи, ибо День Судный грядет, и…
...Черт, черт. Вынырнул. А думал – не вынырну. Это мое время – или чье?! Это… я?!.. или кто… Эй, не бейте меня!.. Не бейте!.. Нельзя больше бить… Кости… переломаете… я все равно… ничего… вам… не…
Они отступились. Не били его больше. Так, походя, пинали под ребра, как собаку. Шмон навели: всего обшарили, унизительно, везде щупали. Щупают– то щупают, а за ушами не догадываются почесать. Пластырь не срывают. Думают – пластырем заклеена царапина, рана. Или опасная болячка какая. Брезгуют. Ух ты, гады, нет, лапы все– таки за ухо суют!
– Эй, грабли прочь… это рана там у меня, царапка, не трожьте!.. Мазь там наложена… вонючая…
Убрали клешни. Откатились.
Катитесь колбаской. Вы так отделали меня классно. Спасибо, что не замочили.
– Как звать тебя?!.. Эй, ты! Имя! Как зовут!
– Понятно, паспорта нету при себе…
– Какой, к черту, паспорт, когда заведомо, мокрицы, на убийство шли… Все заранее обсудили сто раз… Кто у них вождь, интересно?.. Отловить бы его…
– Имя! Твое имя! Кто вас подстрекал?! Кто вас научил?! Кто у вас главный?! Кто?!
– Как зовут тебя! Имя!
Имя. Имя твое. Как это просто – имя.
А если у меня нет имени?
Да, если у меня нет имени?
Я – пророк. У меня нет имени.
Я – пророк, и я вижу будущее. Я вижу прошлое. Я вижу, что вы не видите. Я иду босиком по снегу. Поджимаю, скрючиваю пальцы. Обжигаю льдом ступни.
Я иду по русскому снегу. Я пророчу. Я вижу настоящее. А вы – не видите – его.
Я вижу: настанет день, и поднимется народ, и черные толпы хлынут по белому снегу на красные дворцы, и камень сметется живыми телами, и полетят по небу железные птицы, и железные груши упадут с небес и убьют всех, кого надо, и Великая Рос…
– Заткните ему рот! Орет, будто наркоты накачался!
– Откуда?! Откуда у него наркота?!
– Ведро холодной воды принеси, Серега! Облей его! Пусть очухается! Г– гад…
Они не знают: мое тайное зелье у меня за ухом. Счастье моих видений заклеено грязным пластырем.
… … …
Он любил смотреть на Москву с высоты птичьего полета. С высоты бреющего полета самолета.
Ему казалось – он всегда летел над городом. Над землей. Над миром. Над драгоценностями и грязью. Над нищетой и лоском. Он одинаково презрительно улыбался и над россыпями алмазов, и над кучками дерьма. Он всегда был в полете, на крыле самолета, на белом коне, и конь его судьбы и удачи нес его над всем тем, что служило ему и что мешало ему – к тому, что услаждало его и вливало в него силы. “Я Ефим Елагин, – шептал он себе, щурясь, закуривая, с наслаждением затягиваясь. – Второго такого Ефима Елагина в мире нет”.
Второго такого Ефима Елагина действительно в мире не было.
Он сам не считал своих капиталов. Он щупал рукой гладко выбритый, слегка раздвоенный, как копыто, подбородок: черт его знает, сколько у меня денег на счетах! Его снедало действие. Он делал. Он все время делал дело. ДЕЛО – вот было ключевое слово всей его жизни. Всей его недолгой, еще такой молодой жизни.
Он слишком остро чувствовал время. И, изгибая красивые, похожие на монгольский лук, холеные губы – женщины так часто засматривались на его губы, им так хотелось, он видел это, поцеловать этот чувственный манящий рот, этот властно выставленный вперед, военно– легионерский, офицерский подбородок, – он смеялся над временем, он презирал его, потому что знал: время изменилось. Время слишком, страшно изменилось. Оно содрало с себя красную маску, отбросило прочь личину порядка и закона; эпохи содвинулись, друг на друга наложились, как обглоданные куриные кости, блестящие ослепительными громадными люстрами и ювелирными витринами дни и горькие, нищие ночи, люди растерялись, люди не знали, куда им идти, бежать, что делать, за что хвататься, как зарабатывать деньги, не изменяя себе и не калеча душу свою; и многие в этом Другом Времени изменили себе, искалечили себя, предали себя, стали не тем, чем их явил на свет Бог; а вот Ефим Елагин – о, Ефим Елагин себе не изменил, нет! Он раскрыл изменившемуся времени объятья. Он плыл в другой эпохе, как рыба в воде. Он блаженствовал в ставшем совсем ином мире, как блаженствует распаренный в сауне. Он был рожден, чтобы плавать и кувыркаться в деньгах, чтобы стать богатым, чтобы – преуспевать.
Он был рожден в богатой семье – и стал богатым, покатившись на богатых серебряных коньках по накатанной дорожке. И набрал скорость. И опередил многих своих соперников. И, хоть не вышел еще на финишную прямую – до финишной прямой было еще далеко, – он уже оглядывался на тех раззяв, что остались далеко позади, за его мускулистой, загоревшей на пляжах Ривьеры, Ниццы, Кипра, Канар и Майорки, широкоплечей красивой спиной.
За спиной самца – дельца – упрямого козерога.
Он был по знаку Зодиака Козерог, и часто сам себе, когда смотрел в зеркало, когда плыл по слепящей солнечными бликами водной дорожке бассейна, когда обнимал в постели женщину и толкал ее, бодал, пронзал собою, как огромным рогом, когда, наклонив бычье– упрямую, по моде коротко стриженную голову, спорил с конкурентами и выигрывал спор, – казался живым козерогом, тельцом, быком, идущим напролом, выставив рога и возбужденно взмахивая хвостом; Козерог, говорил он себе, я же Козерог, я прободаю любую стену, а меня – меня никакая Европа не оседлает.
Он отошел от окна. Из окна его роскошного, по последней мировой моде отделанного и обставленного жилища – элитной квартиры на Коровьем валу, пять тысяч долларов квадратный метр – была видна разноголосая чересполосица московских крыш и слепяще– золотые, начищенные к Рождеству купола храма Христа Спасителя. Он взял в руки массивную хрустальную пепельницу, повертел. Солнечные блики заиграли на его гладком, с широкими, торчащими, как два кургана над степью, скулами, выхоленном лице. Такое лицо могло быть у крестоносца. У голливудского актера. У нефтяного короля. У звезды бокса. Такое лицо могло быть у принца Английского, у князя Монакского. Князь Монакский! Он усмехнулся. Глядел на себя в зеркало напротив. Огромное зеркало венецианского стекла на стене, как огромный холст, золоченая толстая рама, и в ней – его портрет. У него и портреты свои были – он заказывал их лучшим, модным московским художникам: Витасу Сафонову, Андрею Белле, Владимиру Фуфачеву, Наталье Нестеровой. Ивану Шипову он портреты не заказывал и живопись у него не покупал – он считал Шипова деревенским мазилой. Зеркало вбирало в себя его лицо, выпускало обратно, на волю. Он сузил глаза и стал похож на лучника Чингисхана, трясущегося на коротконогой монгольской лошаденке, с колчаном за плечами, с коротким тяжелым мечом на боку.
ПРОВАЛ
Алая Луна. Кровавая Луна. Луна цвета крови. Она стоит в окне, как круглый красный колодец, и туда невозможно заглянуть.
Красная Луна вызывает отчаянные приливы в земных морях и океанах. Океан надвигается на сушу, вздымаются цунами, вскипают темные воды, клубится туман над Оком Тайфуна. Клубится красный туман, и сквозь туман просвечивает красный страшный лик. Вода принимает людское обличье. Вода глядит на Луну искаженным лицом. И Луна отражается в ней, как огромный красный звериный глаз.
По алому кругу Луны медленно плывут, летят черные тени птиц. У птиц широкие крылья, птицы медленно взмахивают ими, подбирая длинные ноги под брюхо. Черные птицы летят мимо красной Луны за Океан.
Не уходи от окна, стой перед окном, гляди. Гляди до конца. Слушай: это я пророчествую.
Птицы летят за Океан. Они летят над пропастью безмолвной воды, таящей внутри силу приливов.
Земля и Луна – обе принадлежат Богу, сотворившему их. Человек только мыслит, что он владеет ими.
Человек мыслит, что он владеет Луной, Землей, Марсом и иными планетами, кружащимися вблизи него; что он владеет домами и городами, что возвел, животными и растениями, что вырастил, пищей, которую приготовил на огне, своими женщинами и своими наследниками, своим богатством, золотом в своих горшках и невидимыми деньгами в своих денежных хранилищах, похожих на царские дворцы. Человек мыслит так: это все мое! Это я сделал! Врешь, жалкий человек. Это не ты сделал. Это сделал Тот, Кто выше тебя. И тебе до Него не достигнуть, хоть ты и мыслишь, что ты создан по Его образу и подобию.
И все начертано. Все уже написано на скрижалях.
Все уже нарисовано кровавыми, красными иероглифами на черном фоне вечной ночи. Красный иероглиф – “ЖИЗНЬ”. Красный иероглиф – “СМЕРТЬ”. Красный иероглиф – “ЛЮБОВЬ”.
А разве это не один и тот же иероглиф?!
Сейчас выйду на улицу, в ночь и снег, и так, босиком, пойду по городу; и мои следы будут застывать на снегу черными иероглифами. Побреду босиком по снегу, задеру голову, погляжу на дома, на яркие костры ночных окон. Люди не спят. Сидят там, за оконными стеклами, в своих жилищах, пьют чай, ссорятся, смеются, украшаются перед зеркалом, спят друг с другом в роскошных либо нищих и грязных постелях, едят, дремлют, кричат от горя, всовывают голову в петлю. Над моей лысой головой – башни Кремля, башни огромных каменных домов, выстроенных людьми из большой гордыни. Железные повозки текут, чиркают колесами, шныряют взад– вперед мимо меня. Выпить желаю; да закрыты в этот час магазины и лавки, открыты лишь ночные ресторации, да они для богатых. А мне остается вокзал, вокзальный буфет. В буфете дают дешевый кофе, дешевые сладкие булки, дешевую ледяную, из холодильника, куриную ногу, всю в пупырышках, и даже могут налить полстакана дешевого красного вина. У меня в кармане старого пальто, что подарила мне проститутка с Красной площади, есть еще немного бумажек и монет. Куплю стакан вина, будут пить красное вино и смотреть на красную Луну в вокзальном окне. Я, Алешка Юродивый, мужичонка, лысый, босой пьяница, седые космы вокруг лысины по ветру вьются, и лет мне уже немало, не мальчик я, не сосунок. Сапоги пропил, щетиной оброс, чепуху мелю, ерундой закусываю, а все меня слушают, что скажу, думают: а вдруг что опасное накликаю!.. – а кое– кто пальцем у виска крутит: сбрендил, мол, совсем мужик. Штаны подтяну, погляжу на Луну. Бомж, бомж – будто кто в колокол бьет: бомм, бомм.
А колокола храма Христа Спасителя мне отходную прозвенят. И вся Москва по– надо мною, как невеста, в слезах наклонится, провожая; и золотые косы Москвы упадут со снежной груди – мне на голую волосатую грудь, ибо к смерти я и пальто пропью, и часы, и крест нательный тоже пропью.
А златоглавый храм Спасителя Христа снова будет разрушен; и снова отстроен – на третий день хотите воскресенья, на третий?!
И люди будут заходить снова в заново возведенный храм, но только уж не будет по стенам ни икон, ни фресок ярких, красивых, ни ликов Господа и святых. Пустые белые стены будут глядеть в молящихся и плачущих. И на пустоту, на тишину креститься будут.
Так пророчествую.
… … …
Он вскинул запястье к глазам, всмотрелся в свои швейцарские часы. Не опоздать бы. Цэцэг не любит, когда он опаздывает. Цэцэг, единственная женщина в мире, может позволить себе облить его стаканом холодной воды из– под крана – хорошо еще, не кипятком, – если он, опоздавший на свидание на час, попросит пить с дороги: “Дай водички, устал!” Цэцэг…
Он вспомнил ярко– красные, без штришка помады, губы: кровь так и играла в них, никакой краски не требовалось, ни “Lumenе”, ни “Maybellin”. Его губы, ее губы. Игра губ, как двух дельфинов. А потом уже – выше, все выше, трогать губами – твердые свежие гладкие щеки– яблоки, короткий, с широко раздутыми ноздрями, чуть приплюснутый нос, широко стоящие над переносьем, узкие глаза, будто полные черной кипящей смолы, с ярко выраженной складкой степного эпикантуса, широкие черные соболиные брови – их ни разу не касались ни щипцы, ни сурьма. Маленькое смуглое ушко, зверье ушко. И на лице – на человеческом лице – выражение хитрого зверя в засаде. Наверное, это из– за этой складки верхнего века. Щурится, как охотник. Степная охотница. Монгольская царевна. Цэцэг Мухраева.
Ему нравилось ее твердое, звенящее, как тибетский колокольчик, имя – Цэцэг. Ему нравилось трогать это имя губами.
Ее лицо. Ее плечи. Ее шея. Ее живот. Ее твердые, будто бы отлитые из раскаленного железа, смуглые дикие ноги. Она обвивала ими его талию, его спину, понукая его, как коня, торопя его, усиливая ударами пяток его удары – его страстные, дикие удары в нее. Дикая скачка любви. Постель трещала, расползалась по швам. Он, возвышаясь над ней, прижимал руками ее бешено дергающиеся под ним руки, голые потные плечи. Она была его лошадь, он был ее всадник. Мгновенно она выпрастывалась из– под него, и роли менялись. В роли всадницы он любил ее еще больше. Черные потные жгуты ее волос жгли, хлестали его наотмашь. В особо сумасшедшую минуту любви он подумал однажды: вот бы повеситься на одной ее смоляной крепкой, перевитой пряди.
Цэцэг. Монголка Цэцэг. Знаменитая Цэцэг Мухраева. Вся страна, просыпаясь и засыпая, видела не так давно ее раскосую рожу в ящике. О, Цэцэг с экрана улыбалась искусно. Все гадали: казашка?.. бурятка?.. кореянка?.. хакаска?.. или попросту – татарка?.. а, вы не знаете, вообще– то она калмычка, у нее дома в шкафу, за стеклом, стоит медная статуэточка Будды, купленного на аукционе Кристи в Нью– Йорке… и Будде тому, знаете, сколько?.. не менее пяти тысяч лет!.. и Цэцэг за Будду – состояние отвалила!.. А у нее разве есть состояние?.. Еще какое!.. Девочка далеко пошла и еще дальше пойдет… По рукам?.. По головам, бери выше!..
Ее живот. Ее черные, смоляные волосы вокруг ее живой соленой красной раковины. Иногда, чтобы позабавить его, она вплетала в черные волосы внизу живота мелкие белые и розовые жемчужины, уподобляясь шанхайской или иокогамской шлюхе. И он, склоняясь над ее разверстым лоном, целовал каждую жемчужину и бормотал: ты тайская принцесса, ты повелительница Веселых Домов Бангкока. И она смеялась нежно и презрительно, прижимая смуглой холеной рукой с длинными розовыми ногтями его голову к своему бурно дышащему животу.
Он подошел к венецианскому зеркалу. Поправил борта пиджака. Ничего костюмчик у Армани вчера отхватил. Пойдет. Респектабельный. Немного претенциозный, конечно. Для раутов… для ночных фешенебельных ресторанов. Пальцы бессознательно поправили, чуть туже затянули галстук. Шелковый плотный итальянский галстук, серо– стальной, с синеватым отливом, с золотисто– коричневым крапом, будто точки тополиной смолы по шелку разбросаны…
Для ночных фешенебельных ресторанов…
Для ночных проститутских закрытых, страшно дорогих ресторанчиков…
Он вспомнил, как и где он впервые встретил Цэцэг.
Нежная, томная музыка. Кто– то щиплет струны – какого инструмента?.. Возможно, это гитара. Нет, это экзотический, неведомый ему инструмент; вот он видит его – он в руках у длинноволосой девочки, она сидит на полу, на соломенной циновке, совсем голая, лишь черная бархотка охватывает ее тонкую шейку, да на левой вывернутой лодыжке – жемчужная низка, крохотные, как рисины, жемчужинки. В ее руках – маленькая круглая тыква с приделанным длинным, как удочка, грифом, натянуто несколько струн. Пальчики– лепестки щиплют струны, стараются. По всему маленькому залу с приземистым низким потолком разложены циновки и толстые ворсистые ковры, и на них сидят посетители, и с ними – девушки. Девушки и их гости сидят чинно, скрестив ноги. Кое– кто пьет чай. Чай подают в широких больших фарфоровых пиалах. На блюдах, стоящих прямо на коврах и соломенных подстилках, разложены заморские яства. Сильно, резко пахнет йодом. Шепот: “Фугу, фугу!..” – “Да что брешешь, это не фугу, какая это тебе фугу, это просто хозяйка треску Ваське приказала изжарить на кухне особым образом… а за фугу в меню выдает… чтобы баксов побольше содрать…” – “А ядом, ядом– то каким– нибудь она ту треску полила?!..” Он осматривается. Ночь в японском ресторанчике “Фудзи” на Малой Знаменской стоит очень дорого. Здесь бывает денежный цвет столицы. Цвет тоже хочет иногда развлечься, отдохнуть – не по– русски; как– то по– иному. Восток нынче в моде. Восток щекочет нервы, язык и сердце. Мысли Восток иногда тоже щекочет. Не только Дальний, но и Ближний.
Он разделся, бросил шубу на руки согнувшемуся в три погибели раскосому лакею, шагнул в зал. К нему, вертя огромными бантами на задах, смешно ковыляя в японских гэта по коврам, подошли, одетые в шелковые кимоно – ярко– желтое и густо– лиловое – две девушки: одна маленького роста, другая – повыше. Малютка кокетничала, вертела маленьким, как орех, задиком, солнечно– желтый шелк кимоно дразнил, зазывал. Та, что повыше, в фиолетовом, не изгалялась, стояла достойно. Улыбалась. Он оценил гордость и скромность. “А дорого тут, наверное, стоят девочки”, – весело подумал он, жестом показывая лиловой гейше: садись рядом со мной. Гейша, скрестив ноги, села на красный ковер, с не стирающейся с лица холодной улыбкой налила в громадные красные пиалы горячего чаю. Девочка продолжала щипать сямисен, струны жалобно звенели, плакали – о несбывшемся. Гейша в лиловом знала все правила тя– но– ю – поэтической чайной церемонии. “Давай, давай, изящно отставляй мизинчик, поглядим, какая ты в койке, может, ты трубая русская базарная баба. У вас тут у всех глаза накось подкрашены. Япо– о– онки!.. японки из Никитников, с Красной Пресни…” Гейша вынула из– за пазухи веточку цветущей вишни – откуда в январе– то, еще глупо удивился он, – и осторожно опустила в пиалу с горячим чаем. Белые лепестки поплыли по коричневому кипятку. Девушка приблизила широкоскулое лицо и сказала медленно: “Никогда не торопись. В любви никогда не торопись. Сегодня будешь только смотреть на меня. И пить со мной чай. Я буду трогать тебя за руки, трогать твое лицо и целовать тебя. Завтра придешь”.
Он хотел сначала рассмеяться: что за игрушки, что за дразнилки!.. – но она глядела так холодно и надменно, а губы ее изгибались так призывно, свежие, алые, без следа помады, зовущие, – что он подавил в себе странное, дикое желание – ударить ее по щеке, а потом обнять и повалить тут же, на красный ковер, – что он явился завтра в “Фудзи” как штык, снова заказал дорогой ужин, снова сидел на карачках, в этой глупой, неудобной восточной позе, ноги затекали и голова кружилась, рядом с этой ловкой черноволосой калмычкой, да, скорей всего, калмычкой. Они опять пили чай, ели какую– то японскую бурду, какие– то норимаки и сладкий рис с вареными фруктами и кремом в крохотных фаянсовых горшочках, пили сакэ, и она приближала к нему веселое, лоснящееся, румяное лицо и нежно, едва касаясь губами, целовала его в губы. И он вздрагивал и весь, с ног до головы, покрывался горячим потом.
Она отдалась ему только на третий день.
Ночи не было. Он не заметил, была ночь или нет.
После этой ночи в номерах закрытого ресторанчика “Фудзи” на Малой Знаменской он больше не бывал у лиловой гейши. Он понял, что влип. Побоялся влюбиться безумно. Испугался женитьбы, связы. Жениться на шлюхе, как это романтично, ах! Утром, перед тем, как уйти, он положил ей на ореховый столик две тысячи долларов под большую тяжелую перламутровую, с рожками, раковину южных морей.
И он потерял ее из виду. Он даже не знал, как ее зовут.
Он не знал, что она из ресторанчика ушла, роль гейши наскучила ей, надоело разливать чай в пиалы и заученно улыбаться гостям, а доллары можно было заработать и в других местах – там, где не надо было ночь напролет улыбаться за чаем или изысканно спать с мужиками; она подвизалась одно время в японской фирме “Nissan” переводчицей, зная хорошо английский и сносно – японский, потом играла в Монгольском театре в Москве в ставшей модной средневековой буддистской мистерии Цам, изображая в шествиях и танцах Белую Тару, женское воплощение Будды; постановку несколько раз вывозили за рубеж, ее Белой Таре рукоплескал Нью– Йорк и Сан– Франциско, Париж и Пекин, но потом ей наскучило и это; и однажды Ефим увидел ее раскосое свежее, румяное, прельстительное лицо – лицо монгольской принцессы, любимой жены богдыхана – в экране телевизора. Увидел – и ахнул: да ты еще больше похорошела, гейша со Знаменки! Теперь разыскать ее, встретиться с ней не представляло труда. Он с трудом подавил в себе искушение. Он не стал звонить на ОРТ, не стал домогаться свидания. Ему слишком помнилась та ночь. У него были другие женщины, с ними все обстояло гораздо проще и легче.
Но когда до него дошли слухи, что магнат Андрей Мухраев женился на невероятной восточной красотке, дикторше Центрального телевидения – ну да, вы все знаете ее, как же, на Цэцэг, вот баба, оторва, самого Мухраева подцепила!.. – тут он уже не выдержал. Она с мужем теперь бывала на всех крупных мафиозных тусовках, на которых и он, Елагин, бывал. Однажды в Кремле, на приеме в честь приезда президента Франции, он, с бокалом шампанского в руке, подошел к ней. Он волновался. Она не сразу его узнала. Вглядывалась, заученно, как тогда, в “Фудзи”, улыбалась. Сколько лет прошло?.. Разве она упомнит всех, кто покупал ее ночи после тя– но– ю?.. Он теперь знал ее имя. Но боялся назвать ее по имени. Он стукнул бокалом о ее бокал и прошептал: “Фудзи”. Она вздрогнула. Она стояла рядом с мужем в сильно открытом, темно– лиловом, как тогда, платье, но на сей раз это был не текучий шелк, а твердая парча. Жесткий корсаж поддерживал ее твердую, будто выточенную из желтого дерева, грудь. Она улыбнулась ему, показав все зубы. Длинные аметистовые серьги у нее в ушах качнулись. Она отпила из бокала шампанское и так же тихо бросила ему: “Привет”.
И все закрутилось.
Они уехали с приема в его “Феррари”. Он узнал, что они с мужем живут раздельно, у них – у каждого – фешенебельные апартаменты в самом сердце Москвы, Цэцэг жила на Якиманке, в элитном доме рядом с отелем “Президент”, Мухраев – на Пречистенке, в богатом особняке, – а еще у них был принадлежавший им обоим трехэтажный дом в Подлипках, в чудесном сосновом лесу. “Ко мне или к тебе?..” Не ставь так вопрос, рассмеялась она. Она велела ему ехать на Якиманку, и он, живший богато, видавший виды роскошества и аристократизма, был поражен невероятием, почти сказочностью ее быта. Бытом это было трудно назвать. Казалось, в этом пространстве, в этих стенах живет поистине богдыханша, жеманница, утонченная, капризная. Ему чудилось – он попал в апартаменты Зимнего дворца, в царские покои. “Я люблю роскошь, – просто сказала она ему, – я не жалею никаких денег на красоту вокруг себя”. Они еле смогли добрести до постели – так и шли к устланной атласными одеялами и голубыми шкурами ирбиса, необъятной кровати, обнявшись, сплетясь. “Я же говорила тебе еще тогда, никогда не спеши”, – рассмеялась она, когда он, раздевая ее, порвал у нее на груди парчовое платье цвета моря в грозу.
Так Цэцэг стала его любовницей, и он никогда не допытывался, как она жила все эти годы, что делала, с кем спала, с кем делила жизнь. Ему было это не нужно.
И он не знал, что когда– то, давно, еще до работы в “Фудзи”, она была женою крупного международного бандита, террориста Ли Су– чана, по рождению китайца, много лет прожившего в Америке и в Тегеране, а сама родилась в Монголии, и девочкой ее привезли в Россию, и ее девичья фамилия была Цырендоржи, что по– монгольски означает – “небесный цветок”.
Ну, так… Пора. Он еще раз кинул взгляд в зеркало. Отошел к шкафу, резко, со стуком выдвинул ящик. Пистолет, он всегда брал с собой пистолет. Даже когда ехал к женщине. Мир очень изменился. В мире надо было держать ухо востро. Даже с Цэцэг?.. Даже с Цэцэг. Он чувствовал: за спиной красивой женщины сейчас, сегодня могут стоять толпы мужчин– воинов, жаждущих истребить друг друга – и его. Надо уметь защищаться. Впрочем, так было во все времена.
Он накинул массивную бобровую шубу, в которой сам себе напоминал портрет Шаляпина кисти Кустодиева – сине– коричневый, бархатистый ворс меха, длинные полы, по пяткам бьют, могучие отвороты огромного воротника, – сунул в карман золотой портсигар от Гуччи. Еще взгляд в зеркало. Как же ты любишь свое отражение, Елагин. Отражение – или себя?.. Он спустился вниз в скоростном лифте, и сердце подкатило к горлу, как всегда, – вышел из подъезда на улицу, и мрачная, тяжелая дверь туго– натуго, щелкнув, закрылась за ним. Закрылся его мир. Его эксклюзивный, богатый, его собственный мир. Мир, куда не было иным – поганым, чужим, рабским, робким, глупым люмпенам – никакого доступа. Они и не знали, и не узнают никогда, что здесь, за тяжелой мощной дверью, в его мире, творится.
Он нынче не завел машину в подземный гараж – поленился. Все равно его дом охраняют, охранники ходят вокруг дома, сидят в подъезде, все отлажено, все продумано, все защищено. Ну, постоял нежный “Феррари” перед домом, померз… Он с нежностью думал о железной повозке, как о живом человеке. Тьма, ночная тьма, о, как алмазно блестит снег. Ему с детства нравилось, как остро, слепяще, тысячью алмазных цветных искр блестел снег ночью, в свете фонарей, когда мать везла его в машине домой из Сандуновских бань – Ариадна Филипповна, в те поры еще молодая хорошенькая Адочка, ужасно любила париться, покупала на вечер номер с парилкой, русской или сауной, и брала с собой малое дитя, и парила мальчишку до умопомрачения, и хлестала его березовым, а то и пихтовым веником, – они ехали домой, он, в шубе, в теплой шапке, обвязанный, как девочка, крест– накрест пуховым платком, чтоб не простудился, не дай Бог, пялился в машинное стекло, наблюдая сказочное сверкание снега, а мать, небрежно бросив руки на руль – она водила машину, как залихватский лихач, разнузданно, безоглядно, – цедила сквозь зубы: “Ну что таращишься, снега не видел, Москвы не видел?..” Москва ночью манила его, втягивала, восхищала. Москва ночью казалась ему волшебным городом, полным опасностей и восторгов. Он плющил нос о стекло. Мать закуривала прямо в машине, дым лез ему в ноздри, он чихал, мать раздраженно гасила сигарету в “бардачке”. “Мама, почему ты куришь? Курят только дяди”. Я без курева не могу, зло рубила она воздух словами, в крови табак течет, привычка.
Привычка… Где она привыкла курить?..
Иногда мать брала его на свои спектакли в Большой театр. Он не узнавал ее на сцене в гриме в роли Снегурочки. “С подружками по ягоды ходить, на оклик их веселый отзываться!.. Ау, а– а– ау– у!..”
Он вырос – и Москва не утеряла ночной страшной магии. Он усмехнулся, идя к машине: Москва стала еще волшебнее и еще опаснее, чем казалась в детстве.
Снег хрустит под сапогами. Хрусь, хрусь. Так хрустит морковка на зубах. Так хрустит разрываемая бумага. Где машина?.. На миг его окатило кипятком: украли!.. – нет, вон она. Смех над собой: ну, украли бы, новую бы купил, еще лучше! До “Феррари” оставалось несколько шагов. Он уже почти бежал, глянув на часы под рукавом шубы: время, время! Еще мотор на морозе разогревать!
Навстречу – наперерез ему – из тьмы морозной ночи метнулась тень.
Черная вязаная шапка на голове. Прорези для глаз.
Глаза – в прорезях самодельной бандитской маски – сверкают в него.
Он не успел сунуть руку в карман и вытащить “руби”. На него уже глядело бешеным черным глазом, глазом пустоты, пистолетное дуло.
– Я знаю, кто ты. Не толкай руку в карман. Засунешь – прошью насквозь.
“Он со мной говорит – значит, он уже не киллер, – пронеслось в голове. – Значит, он или вымогатель, или наводчик, или…”
– Что тебе надо? Деньги?
Он задал единственно возможный вопрос в его положении. Единственно верный.
– Да. Деньги.
– Ну так держи…
Он все– таки сделал попытку сунуть руку в карман. Чтобы вытащить не пистолет – бумажник. “Кажется, с собой тысячи три долларов наличными. К Цэцэг без денег ездить нельзя. Вдруг она завтра утром, после ночи любви, захочет поехать куда– нибудь в бутик на Петровке, купить себе за пару тысяч новый костюмчик от Фенди… или туфельки от Андрэ. Мало ли какая блажь ей в голову придет. Да, около трех тысяч. Парню хватит с лихвой. Отлично подлатается. Ему и не снилось, плюгавому воришке”.
– Стой! Опусти руку! Продырявлю!
Дуло уже упиралось ему в лоб. Он медленно поднял руку. Потом другую.
– Ты, поосторожней…
Бешеные глаза блестели в прорезях черной лыжной шапки. Парень держал оружие умело, крепко, дуло холодило Елагину голый лоб – он отправился к Цэцэг без шапки, все равно, думал, в машине тепло, а доехать до Якиманки – ну, пять, ну, десять минут…
– Я не твой доктор. Слушай, мразь. Нам не твой кошелек нужен. Нам нужны твои деньги. Твои деньги на твоих счетах. Твои большие деньги. Они лежат у тебя на счетах без дела, как тюлени. А у нас они в дело пойдут.
Его взорвало. Под пистолетным дулом – опасно, нехорошо взорвало.
– Без дела?! А ты, щенок, сучонок неутопленный, ты знаешь, они у меня в деле – или без дела?! Едальник свой заткни…
Парень в черной шапке сунул ему кулаком, в котором держал пистолет, в скулу. Елагин шатнулся. Вытер кровь с подбородка ладонью. Ненавидяще глянул на бандита.
– Я– то еще ничего не сказал, а ты уже меня оскорбляешь. Негоже.
– Для чего вам мои деньги?!
– Для нашего движения. Для движения, что смоет всю грязь и гадость в стране. Очистит все. Уничтожит тех, кто уничтожает нас всех так много лет. Так много… веков.
– Кого, кого уничтожит?!
От сильного, умелого удара у него кружилась голова. Темнело перед глазами.
– Кого надо.
Голос из– под шапки доносился тускло, ровно, бесстрастно. Елагина затрясло.
– А– а, понятно… Понятно, мать вашу!.. – Он задохнулся. – Ну вот я, русский человек, не инородец, я, я добился чего хотел, я разбогател, я открыл зарубежные счета, я – делаю – деньги – своим – черт побери – умом! И это ко мне вы подкатываетесь, чтобы выманить деньги – у меня!.. вы, кто вы такие, мать вашу, мать, мать…
– Заткнись.
Бандит размахнулся. Елагин не успел отреагировать. Он уже лежал на снегу, отплевываясь, снег набился ему в рот, в зубы, рот снова был полон крови, и он плевал кровь на снег, и тер, мыл лицо снегом, утирался, стряхивал сгустки крови с бобрового бархатисто– синего воротника. Парень равнодушно, сверху вниз, с пистолетом в голой руке, смотрел на него.
– Я… куплю свою жизнь?..
– Ты сделаешь больше. Ты примкнешь к нам. Ты станешь нашим. Из дерьма ты превратишься в героя.
Елагин сел на снегу. Он размазал по лицу кровь, его лицо напоминало новогоднюю маску медведя, объевшегося праздничной клубники. “Черт, черт, выбил зуб, шантажист. Все– таки выбил! В “Дентал– студио”, конечно, ввинтят… тысяча баксов зубик, как с куста… Теперь без бодигарда – никуда…Шагу без охранника не шагну…” Это ты, ты, магнат недорезанный, считаешь денежки?!.. “Чем богаче – тем жаднее”, – вспомнил он насмешливую улыбку матери, когда она попросила у него денег на покупку дома во Франции, на Лазурном берегу, а он, пряча глаза, ей отказал.
– Я не хочу, – он снова сплюнул на снег красную жижу, – быть героем.
– Твое дело. Не можешь стать героем – пожалуйста, будь дерьмом. Но если ты дерьмо, тебя уничтожат.
– Кто ты?!
Не помня себя, он заорал. Он проорал это так натужно– оглушительно, резко– истерично, надеясь, что – услышат, испугаются… Откроют окна! Вызовут милицию!
Молчание. Тишина. Каменный глубокий колодец двора. Каменный мешок. И они оба – мертвые камни на дне мешка; мешок прорвется – выпадут на дорогу, никто не заметит.
Если его здесь и сейчас убьет этот придурок – никто не заметит.
Все всего боятся. Все таятся. Страх накрывает всех колоколом, куполом. И все жмутся друг к дружке под куполом страха; и каждый в страхе закрывает глаза, отворачивается от крика, от ужаса, и шепчет себе под нос: “Ничего не слышал, ничего, ничего. Это чужое дело, чужое, не мое”.
Парень, глядя на лежащего на снегу у его ног Елагина, медленно стянул с головы черную шапку. Пистолет не опустил.
И Ефим прижал ладонь ко рту. Вдавил ладонь в зубы, чтобы не закричать.
У парня не было лица.
Вместо лица у него была страшная маска. Раззявленный до ушей рот. Бугристые, рваные, грубые сине– лиловые шрамы вдоль и поперек щек. Сбитый, свороченный чудовищным ударом кулака на сторону, сломанный нос – хрящ вдавился внутрь, в череп, как у сифилитика. Рваные, будто их насильно отрывали от головы, терзали щипцами, резали ножницами, уши – не уши, а кожные лохмотья вместо ушей. Через весь лоб шел страшный белый рубец, будто по голове парню заехали казацкой саблей или маханули острой бандитской финкой. Зубы во рту виднелись – половина была повыбита, черная скалящаяся пасть ужасала.
И только глаза на том, что когда– то было лицом, глядели умно, бешено, ясно.
Он не помнил, когда и как попал в лапы бандитов. Бандиты собирали, сколачивали маленький отряд бесплатных рабов– нищих, уличных попрошаек; при всем кажущемся грязном примитиве этот промысел давал, как ни странно, неплохой доход, – и отловленного пацана, вчерашнего несмышленыша, молокососа, хорошенько, беспощадно измастырили, изуродовали раскаленными щипцами, бритвой, пучком горящей пакли да и просто кулаками, чтобы рожа калеки смогла вызывать жалость и ему больше бы, щедрее подавали. Этот прием был известен века назад – во многих странах, в Англии и во Франции, в Германии и Италии, разбойники нарочно уродовали детей, чтобы уродец мог разжалобить своего созерцателя. Но в средневековой Европе уродцев еще и продавали задорого в богатые дома, уродливые карлики и страшные, как смертный грех, кретины с успехом играли роль шутов, забавляли и потешали почтеннейшую аристократическую публику, а в нынешнее время… Нынче урод был сугубо уличной принадлежностью – так же, как и вонючий бездомный бродяга, как побирушка у хлебного ларька.
Мальчонку звали Чек. Он не знал, прозвище это было или имя; его всегда окликали так, и он привык. Чтобы избавиться от побоев и подневольного труда, он убежал из большого города, имени которого он не знал, далеко на юг, в горы; просто сел в поезд и поехал зайцем, забрался в плацкартном вагоне на третью полку и скрючился, свернулся в клубочек, так и ехал, голодный, не слезая с полки, пока его не обнаружила дотошная проводница: кто это у меня там сопит под потолком?! – и не ссадила, не вытолкала в шею на станции, а станция– то была уже южная, уже за Краснодаром– Главным. Он пробрался в горы – и попал, как кур в ощип, в лапы к боевикам. Он не знал, что на Кавказе шла война; ему пришлось это узнать. Боевики приволокли его, грязного, маленького, упирающегося, нещадно матерящегося, в часть – и хохотали, уставив руки в бока, и надрывали животы: ну и ну!.. вот это картинка!.. вот это чудище, ночью приснится, Ахмед, испугаешься, в штаны наложишь!.. – и тут же поняли, как его можно использовать в войне. Они засылали его разведчиком в федеральные части: “Ты, бей на слезу, пацан, гавари, шыто тибя изрезали на куски эти гады чечнюки!.. гавари, шыто всех тваих перебили, шыто сестру изнасилывали, а ты чудам убижал!.. и вот не знаишь, куда бежать!.. А сам, ты, слышишь, все у них разглядывай, все – запаминай, нам патом расскажышь, ты, понял?!..” Они бросали его под федеральные танки со связками гранат: “А, плевать, умрет малец – туда ему и дорога, подумаешь, цаца какая!.. а нам надо, чтобы эти танки в ущелье не прошли, нам надо их остановить!” – и он швырял гранаты под танк, падал на пузо и отползал прочь, оглушенный взрывом, он выживал – чудом, и он удрал от воюющих чеченцев – тоже чудом.
Он убежал, уродец по имени Чек, и так начался его БЕГ.
Начался его Бег Через Всю Страну.
Так бегут не люди: так летят птицы– подранки и низко, почти распластавшись по земле, бегут голодные битые собаки. Он видел ужас жизни лицом к лицу. Он видел, как на Кавказе воют над трупами убитых детей одетые в черное, коленопреклоненные женщины; он видел в Крыму вырубленные, выкорчеванные тысячелетние виноградники, видел крымских татар с бешеными лицами, бегущих по улицам с плакатами в руках: “Крым – наш!”; он видел, как на Каспии вытаскивают из моря огромных остроносых рыб с колючими костяными боками, похожих на крокодилов, вспарывают им брюхо ножами и вынимают из брюх икру, выгребают руками, трясясь, чтобы никто не увидел, не заловил, бросают черные икряные комки в алюминиевые цистерны, грузят в лодки и увозят, с матюгами заводя мотор, а рыб так и бросают на берегу – гнить. И он подходил и трогал острые рыбьи носы, когда лодки уже скрывались в сизой морской дали и его уже никто не мог увидеть, и отрезал от самой большой рыбины кусок, и разжигал костер, и жарил рыбу, и с нее капал вкусный желтый жир, и он ел рыбу и плакал – ему было ее жалко, такую большую и бесполезно мертвую, и других рыб, валявшихся поодаль. Он видел воров в Ростове– на– Дону, всовывающих ножи под ребро, как браконьеры – той колючей рыбе, молоденькой девчонке из отельного варьете – за то, что она не сняла нынче ночью того, кто ворам был позарез нужен; он видел, как в Курске под электричку пацаны толкнули приятеля, не принесшего на встречу заказанные деньги, и пацана переехало пополам, и еще полминуты рот распяливался в крике, хотя сознание мальчишку уже покинуло; он побывал и на северах с сезонниками, помогал бить оленей в бригаде, ошивался с геологами, закинулся неведомым ветром в славный бандитский городок Питер – ух, и весело же погулял он там! В странствиях Чек взрослел, учился быть сильным, злым, гордым. На севере, в Воркуте, один старый зэк, с жалостью и пониманием глядя на его изуродованное лицо, тихо сказал ему: “Помни, малец, в жизни есть условие: никого не бойся, никому не верь и ни о чем не проси. Соблюдай это условие, и ты будешь жить. А нет – будешь существовать. “Петухом” будешь. А потом и убьют тебя, пришьют как миленького”. – “Меня и так пришьют! – оскалился Чек. – Странно, что до сих пор не пришили!” Так – озлобленный, повзрослевший, заимевший не опыт жить, но опыт ненавидеть, он закатился, наконец, туда, откуда выкатился когда– то – в Москву. Ощерившийся уродливый щенок, затаивший глубоко внутри себя ненависть к миру, родившему его на свет и изуродовавшему его, он растил в себе эту ненависть, лелеял ее, холил – и, нарвавшись на ребят– скинхедов, избивавших однажды в метро лощеного раскосого, богато одетого, желтолицего господина – кейс богатого азиата валялся далеко, у эскалаторов, чемоданчик пнула нога в огромном черном ботинке, – примкнул к ним.
Он примкнул к скинам, как примыкает к ним каждый отверженный.
Каждый, кто был сильно бит – и выжил.
Каждый, у кого был отнят кров, семья, очаг, стол и собственная постель – и кто поднялся над своим бездомьем и одиночеством, скрипнув зубами.
Каждый, кто копил в себе ненависть и горечь, не зная, на кого ее вылить, и кто обнаружил: ого, враг– то есть, оказывается! Вот он!
Вчера скины с Моховой мочили вусмерть рэпперов из Марьиной Рощи. Побоище удалось на славу. Скины отомстили рэпперам за то, что они подражают проклятым ниггерам и носят широкие негритянские штаны, и поют вшивые ниггерские песенки, и танцуют на площадных коврах и старых одеялах, разложенных прямо на улице, свои поганые ниггерские танцы. Так отомстили, что – любо– дорого! Рэпперы еле ноги унесли. А самого главного, Грина, они хорошо мочканули. Как клопа. Грин, мать его, самый главный расп..дяй у этих г….едов и есть. Он– то скинам в лапы и попался. И они его отделали. Отделали будь здоров. По первому разряду. Мамашка у любимого сыночка костей не соберет. Башку двумя камнями придавили. Били классно, били везде. Во все места. Детишек теперь у суки не будет. И сам он – будет ли, нет ли, еще бабушка надвое сказала. Башку так измолотили – хоть сейчас в фильм ужасов. Да у нас сейчас все сплошной фильм ужасов! Выходи на улицу с камерой и снимай! Не хуже, чем у американов, получится!
Отдубасили реппэров – пора и отдохнуть. Нажраться и подраться? Нет, сначала подраться, потом – нажраться! Слова в слогане меняются местами! Эй, ребята, все бритые?! Волосики не подросли?! Никого машинкой обчекрыжить не надо?! А водочки дашь, братишка, опосля стрижки?! Дам, дам, конечно, как истинному арийцу – истинный ариец!
Вперед, вперед. Где соберемся? Соберемся сначала у Зайца, потом все, кучей, двинем в Бункер.
А кто сегодня в Бункере?
Не кто, а что. Сегодня в Бункере – сборище века! Таракан приезжает, твою мать!
Сам Таракан?! Во классняра! И что лабать будет со товарищи?!
Ну что, что! Ты сам не знаешь разве, что может выдать на– гора “Реванш”! Всю классику! “Арии спустились с Белых гор”, “Белая кожа, черная кожа”, “Бритоголовые идут”, “Аркаим”… ну, как всегда, конечно, “Убей его, убей”… ну и там, наверное, новяк какой– нибудь, не знаю…
А “Дон’т стоп, хулиганс” – будет петь?!..
А пес его знает, Таракана, что ты, Зигфрид, у меня спрашиваешь, я что, автоответчик кинотеатра “Россия”?!..
Таракан был знаменитейшим рок– музыкантом, популярным у бритоголовых. “Реванш” – знаменитейшей рок– группой со скандальной, нечистой славой: немало побил Таракан тарелок и фужеров на именитых сейшнах, немало салатов, приправленных майонезом, вывалил на белые пиджаки спонсоров престижных рок– концертов, немало девиц перещупал и перетоптал даже не в гостиничных номерах – прямо за кулисами, на коробках и ящиках из– под аппаратуры. Таракан был славен не только скандалами. Его рок– музыканты, наголо обритые, в противовес ему, обросшему, мохнатому, с неряшливо спутанной жидкой бороденкой, не только откалывали на сцене хулиганские номера, орали и выкрикивали нацистские лозунги и во всеуслышание матерились в микрофон – дешевым эпатажем искушенную публику было уже не удивить, – но и выдавали, время от времени, на удивление знатоков, такие отпадные хиты, что и не снились ни “Джей– 3”, ни “Герцеговине флор”, ни “Фигляру”, ни “Истинным арийцам”. Это была музыка! Можно было улететь, как от хорошего косячка, слушая ее. Таракан приобретал вес. Его песни гремели по России. Пару раз он выехал на Запад, в Германию и Англию, и даже записал там пару альбомов, но больше на Запад не ездил – не хотел: “Снобы там все, ребятишки, кого ни копни – снобы!” Германия, страна классического нацизма, привлекла его лишь потому, что он хотел попьянствовать в мюнхенском кабачке, где начался знаменитый мюнхенский путч Гитлера. Да, вот такая блажь, только и всего. “С группы “Реванш” начнется наш реванш”, – пошутил однажды их Фюрер.
О, их Фюрер был классный парень.
Их Фюрером можно было клясться, божиться, материться и лечить рваные раны. Их Фюрер знал дело туго. Будущее было в руках их Фюрера – в этом они все не сомневались.
Никто из них не сомневался.
Ну да, вчера была отличная бойня, не такая, конечно, масштабная, как задумывалось, но все равно отличная; и от ментов они ускользнули, вовремя ушли; и приезжал из Питера Таракан со своими бритыми; и давненько они не слушали такой музыки; и в Бункере, о, в Бункере всегда была какая– нибудь – не какая– нибудь, что он брешет, а отличная! – хавка, это уж Фюрер всегда расстарается, на концерт знаменитости спонсоров нароет, изысканной хавкой столы завалит, ешь не хочу, икрой мажь морду, раками бросайся, как камнями! Торт на голову ставь и так, с тортом, иди плясать, все равно он когда– нибудь упадет и всего тебя кремом обмажет! Вот веселья– то будет!
Да, бойню надо отмечать, это славно придумано. Да, он пойдет сегодня в Бункер.
И он пошел нынче в Бункер, и ногой распахнул дверь подъезда, и постучал, как между ними, скинами, было условлено, в массивную железную дверь; и ему открыли; и тут же, сразу же, около входа, он увидел сидящую на вертящемся офисном стуле девушку в белом. Ее странные, чуть раскосые глаза смотрели странно – куда– то вдаль. Будто бы она презирала всех, кто путается у нее, царственно сидящей, под ногами.
Чек сплюнул. У, какая царица! Цаца, а не царица. Платье зачем– то белое, до пят. Старорежимное платье. Таких телки сейчас не носят. Особенно – их телки, бритые. Они носят такую одежду, чтобы удобно было рассматривать наколки, многочисленные tattoo и рисунки на теле. Сейчас на теле модно рисовать все что угодно. А эта сидит – ни рисуночка, ни татуировочки, и волосы черной волной вдоль лица висят. Как спущенный черный флаг.
Ишь, а что это такое чернявая телка держит в руках?! Бляха– муха, да у нее же на коленях корзина, а в ней – что в ней?.. Чек наклонился. Свечи! Провалиться на месте, свечи! И еще – странные глиняные пузырьки, и она так осторожно их протягивает входящим, и они, немало удивленные, берут у нее эти глиняные свистульки из рук. Чек присмотрелся. Высокий скинхед с уже отрстающей на башке темной щетиной взял из рук девушки такую свистульку, поднес зажигалку. Светлое пламя язычком взвилось, задрожало на сквозняке. Светильники! Эта телка раздавала вновь приходящим в Бункер светильники!
Ну да, и свечи – тоже… Вон, все со свечами в руках стоят, свечи горят… что, в Бункере сегодня света нет?!.. или это Фюрер прикол такой придумал, новый?!.. Какой прикол, дурак, может, просто света нет…
– Эй, – негромко сказал Чек и слегка двинул девицу кулаком в плечо. – Дай твою игрушку.
Она медленно повернулась к нему, протянула ему – в обеих руках – и свечу, и глиняный светильник. Ее лицо не дрогнуло. Она по– прежнему смотрела вдаль, поверх него, сквозь него. Уоыбнулась. Он взял из ее рук глиняный светильник, похожий на птичку, на жаворонка. Сказал:
– А зажигаешь тоже ты? Обряд такой? Или мне можно зажечь?
Она не ответила. Смотрела вдаль, мимо.
И он понял, что она слепа.
Зажег светильник, нашарив спички в кармане. Отошел от слепой, раздававшей свет. Вошел в зал. Там уже буквой “П”, каре, стояли роскошно накрытые столы, и во тьме сияли и вспыхивали огни, освещая бритые головы скинхедов, светлые модные, от Фенди и от Зайцева, пиджаки и смокинги спонсоров и именитых приглашенных, металлические бляхи и цепи на кожаных “косухах”, блестевшие в ноздрях и в проколотых губах пирсинги. Тьма, как это красиво. Мрак. И во мраке – огонь. Мощный огонь древних ариев.
Дверь в зал слегка приотворилась, и Чек снова увидел сидящую у двери девушку с корзиной на коленях. Из– под подола белого, будто невестиного, платья высовывались аккуратные белые туфельки. Он потихоньку сплюнул. Невеста! Божья невеста, что ли?.. Невеста Фюрера?.. Чек знал – Фюрер относился к женщинам никак. Что есть они, что нет. Никто и никогда ни разу не видел его с женщиной. Его интимная жизнь не была предметом обсуждения у скинов и у ребят постарше, уже не бивших каблуком в морды в метро и на рынках, а занимавшихся разработкой новой идеологии и поисками денег для покупки… чего? Оружия? Чек предпочитал не думать о войне в открытую – он уже навоевался, настрелялся, навидался смертей. Пусть Фюрер делает что хочет. На то он и Фюрер.
“Вот они– и– и– и!” – заорали скинхеды, воздевая над головами кулаки, приветствуя изо всей силы – вопя, брызгая слюной, топая ногами, оглушительно свистя – ултраправую рок– группу “Реванш” с Тараканом во главе. На небольшую сцену зала в Бункере выкатились налысо бритые ребята, присели с гитарами в руках – и завыли, заорали, надсадно завопили, скандируя текст всеми скинами обожаемого хита: “Убей его, убей! Убей средь бела дня! Убей его скорей! А то убьют тебя!”
– Ты желтых и цветных,
Ты черных и жидей
Бей в морду и под дых!
Убей его, убей! –
восторженно завопила, подпевая, толпа. Зал бушевал. Со столов уже хватали, не чинясь, не ожидая особого приглашения, яства и бутылки. Пробки летели в стороны, в лица и в потолок. Шампанское пенилось, выливалось на пол и на стол в неумелых мальчишеских руках. Иронично глядели, косились спонсоры. Или это были не спонсоры? Чек многих видел впервые. Вместе со всеми он вскидывал руки, бесился, выкрикивал: “Убей его, убей!” И все косился на дверь. Где эта девушка? Неужели ее не пригласят к столу?
Таракан уже нажрался водки и выкидывал коленца. Влез на стол, топтал ногами салаты и мясные закуски, схватил непочатую бутылку, раскрутил в руке – и швырнул, как гранату, об стену: “Вот вам, вы, черные гады, съевшие нас! Так мы замочим каждого, кто…” Длинный, продолжительный вой был ему ответом. Ребята из “Реванша” снова кувыркались на сцене. Теперь они пели нечто новое. Чек, накачавшись водкой и объевшись горячим – притащили антрекоты и куриные котлеты с косточкой, по– киевски, – с трудом разбирал слова. Он понял только: “…начнем сначала! Начнем, Россия– мать! Тебя все убивали – мы будем убивать!..” Пьяные скины, обнявшись за плечи, качались из стороны в сторону и горланили уже кто во что горазд. Таракан развалился на столе. Его взасос целовала бритоголовая девица с искусной татуировкой на спине. Татуировка изображала свернувшуюся клубком огромную змею, по виду – анаконду. Спираль времени, да. Жирненькая спина девицы подрагивала, как холодец. Чек снова покосился на дверь. Слепая девушка в белом платье стояла в двери, взявшись за косяк. Она печально, мучительно прислушивалась к тому, что происходило в зале. Ее ноздри раздувались, она ловила запахи еды. “Черт, ведь она хочет есть, – догадался Чек, – посадили телку раздавать свечи, а покормить– то и забыли”. Он сгреб со стола в чью– то тарелку остатки салата, две тарталетки с паштетом и икрой, кинул два мандарина, пару яблок и двинул к ней со всем этим угощением. Она уже снова сидела на вертящемся черном стуле. Он сел перед ней на корточки. Положил ей на колени тарелку. Корзина со свечами стояла у ее ног, на полу.
– Жрачку тебе принес, – сказал Чек, не зная, что еще сказать, взял из тарелки яблоко и сунул ей в руку. – Вот, яблоко, возьми! Пощупай…
Девушка осторожно обняла пальцами круглое красное яблоко. Поморщилась.
– Холодное, – тихо сказала.
– Ешь, грызи! Ты же тут обалдеешь с голодухи, пока они все там надрываться будут…
– Спасибо.
Она поднесла яблоко ко рту. Не надкусила. Вдыхала запах.
– А… какого оно цвета?..
Чек растерялся. Яблоко было густо– красное, темное– алое, его блестящие бока глянцево лоснились.
– Оно?.. – Он вздохнул, пожал плечами. Сидеть на корточках становилось все невыносимее, ноги затекли, и он сел на пол, раскорячив ноги, обняв ногами щиколотки слепой. – Красное такое. Как кровь. Ты знаешь, что такое кровь?
Слепая улыбнулась. Он ни у кого никогда не видел такой улыбки.
– Знаю, – тихо прошептала она.
– Откуда знаешь? Ты ж ни хрена не видишь.
– Знаю. Я любила красную краску. Краплак, кадмий красный… сурик. Я до сих пор вижу свои картины… когда засыпаю. И палитру, – сказала она, по– прежнему мертво глядя перед собой слепыми глазами.
… … …
Картины. Да, такие вот картины.
Цветные. Яркие. Невыносимые.
Детство в горах, в Южной Сибири, на монгольской границе. Отец – пограничник. Мать – улан– удэнская шлюха. Отец принял ламство, стал ламой в Иволгинском буддийском дацане. С матерью разошлись. У матери – полные карманы денег; она везет ее в Москву – к знаменитому режиссеру Михайлову: чтобы девочка снялась у него в фильме, – нанимает учителя– художника: девочка отлично рисует, надо научиться хорошо рисовать. Об убийстве Михайлова наслышана вся страна. Его убили из винтовки с оптическим прицелом, когда он, с цыганами, отмечал премьеру нового фильма. Ее, юную любовницу старого режиссера, выгоняют с дачи, где они жили оба: она – никто, они не зарегистрированы. Она становится бордельной девкой в знаменитом подпольном московском борделе госпожи Фэнь. Человека, которого она любила, убила ее мать.
Мать сажают в тюрьму. Она одна. От потрясений – внезапно наступившая слепота. Плача в одиночестве, кричит: есть ли ты, Бог?! Соседка, сердобольно помогающая ей, уговорила ее принять святое крещение. Она крестилась, поменяв имя, в Новодевичьем монастыре. Ее крестил отец Амвросий, в миру Николай Глазов, опальный иеромонах. За отцом Амвросием установлена слежка – уж слишком еретичен, слишком любит то, чего любить православному священнику никак нельзя. И верно следили. Да не уследили. Заманил к себе домой отец Амвросий двух мальчишек, подловив их в метро, да и изнасиловал по– содомски, страшно. Его нашли, судили – обоим мальчикам удалось убежать и показать на него. Она все время, пока Амвросий был в тюрьме, жила в его квартире, научилась передвигаться без посторонней помощи, даже выходила одна, без провожатых, за хлебом и молоком, нащупывая дорогу узенькой палочкой. Отец Амвросий вернулся из тюрьмы без бороды и усов, бритый, наглый, злой и веселый. Он сказал ей: “Ждала? Ты моя подстилка. Ты моя тряпка, и об тебя я буду вытирать ноги. Истинные христиане всегда были мученики”. И засмеялся – остро, зло, оборвал смех.
Амвросий стал читать проповеди. Его проповеди Нового Великого Времени, Нового Русского Порядка, сопротивления антихристу собирали кое– какой народец на площадях и в парках. Его хватали прямо с проповедей и увозили в “обезьянник” еще пару раз, отпускали – не было состава преступления. Он допоздна, иной раз до утра, писал что– то в больших толстых тетрадях – и опубликовал потом свои каракули в одном падком на сладости скандала издательстве под названием “Житие священника в тюрьме”. Она не видела, как он пишет; слышала, как шуршала ручка по бумаге. “Если бы не была слепая – перепечатала бы мне все!” Она помнит этот крик.
Не так прост был отец Амвросий. Он не растерял церковные нити, хватал их за болтающиеся в воздухе концы. Так, по ниточкам, по веревочным лестницам, он долез до верхушек Русской Православной Церкви, упросил, чтобы пересмотрели его осуждение и отлучение, где– то добыл темных денег, кого– то подкупил – и ему вернули приход, правда, не в Новодевичьем монастыре, а затолкали в сельскую церковь, далеко под Москвой, в сторону Нижнего Новгорода, на север от Петушков. Он и ее с собой взял туда: “Ну что, поиграешь в попадью?!” Она молчала.
Она все время молчала.
Почти все время.
Одна из ее самых любимых ненаписанных картин так и называлась – “Молчание”.
Она молчала и тогда, когда он объявил ей: “Едем в Святую Землю, собирайся, сложи в мешок все свои трусики наощупь”. Мартовское Шереметьево, вьюга в лицо. Ей казалось – она видела самолет, так грозно, объемно он гудел. Отец Амвросий крепко держал ее под локоть. “Улыбайся, – шипел он ей в ухо, – улыбайся шире, на нас все смотрят”. Она вспомнила себя и Михайлова на премьере фильма, где ее отсняли в главной роли. Как широко – как акула всей пастью – она тогда улыбалась!
Ее поразила жара. Жара обрушилась сверху. Ливень жары. Амвросий сам надел ей на ноги легкие античные босоножки. Храм Гроба Господня дохнул темнотой и прохладой. Они отстояли здесь вечернюю службу. Наступила ночь. “А почему мы не уходим отсюда?” – спросила она, жалобно обернув к нему слепое лицо. “Дура, это же Пасхальная ночь”.
Ну да, они же были паломники, они ради этой Пасхальной ночи и приехали сюда, всю жизнь скитались – и пришли! Толпа волновалась. Тишина была чревата взрывом. Люди жались друг к другу, бормотали невнятицу. Умолкали. Она ничего не видела, только слышала разноязыкий говор. Амвросий стоял рядом, она чувствовала его. Он весь был как натянутая струна. Или тетива. Духота сгущалась. Она задыхалась. Тьма обнимала ее. Вечная тьма. По щекам текли, медленно сползали слезы. Слышался шепот: “Скоро, скоро... сейчас, сейчас!..” Чего все ждут, скорбно спросила она. Чего мы ждем? И Амвросий ответил сердито и презрительно: “Чуда. Все ждут чуда. И чудо свершится”.
И, когда из всех грудей вырвался вопль восторга, она испугалась – так же, как тогда, когда на Москва– реке, в цыганской лодке, подстрелили Михайлова и из всех глоток вырвался вопль ужаса.
“Свет, свет! – кричали все в толпе. – Вот оно, чудо Господне!” Она слышала треск, будто от горящего хвороста. Она чувствовала жар, движение теплого воздуха, запах ладана, запах смолы. Она почувствовала, как застывший в напряжении, ледяной Амвросий становится мягким и живым, смеется, оборачивает к ней лицо: “Господень свет! Он зажег нам его!” Она стояла как истукан. О каком свете они говорят? Пасхальный свет, голубой свет… Он сам зажигается, сам… Нет, нет, Бог зажигает…
Они все видели его. Православные видели. Турки видели. Иудеи видели. Католики видели. Узкоглазые и желтолицые китайцы видели. Все видели горний свет Господень, каждую Пасхальную ночь возгорающийся в храме Гроба Господня – синие потоки, голубой огонь, слепящие шарики холодного пламени, что можно брать руками, погружать в него лицо, целовать его, как целуют губы, – она одна не видела свет.
Ночами в отеле, в тесном и душном номере, распахнув настежь окно, Амвросий читал ей из маленькой книжки. Она слушала, потом засыпала, он продолжал бормотать, читая. Сквозь сон она слышала: синий священный сапфир, синий цвет, последний цвет надежды, крест, крест осеняет мир, крест – высшая награда за муку… Она слышала, как Амвросий быстро, невнятно бормочет, уже не из книжки, уже – сам по себе: под крестом объединятся Восток и Запад, если они не хотят умереть, конечно… все народы, кто примет веру Белой Расы… Белая Раса – священна… все остальные – ее слуги… восставшие против Белой Расы да погибнут…
Она спала, как лошадь, с открытыми глазами, и в ее прозрачных черных глазах стояли слезы.
Свет, голубой свет.
Голубой свет свечи.
Чек видел раскосую девушку со светом в руке. Она его – не видела.
До крещения ее звали – Дарима.
При крещении ей дали имя – Дарья.
ПРОВАЛ
Белый песок. Черно– синяя вода.
Мертвое море.
Песок обжигает голый живот. Мужчина подползает по песку ближе к ней, запускает руку, всю облепленную песком, ей между ног. Они оба голые. Они оба стонут, вбирая, всасывая губы друг друга; потом – внезапно – отталкивают друг друга от себя, словно обжегшись о загорелую потную кожу. Он видит, как она загорела. Она – не видит, как загорел он.
Она трогает губами пальцы, будто заклиная себя: молчи. Он видит, как она грациозно садится на песке, забирая распустившиеся волосы в пучок на затылке, и ее обнаженная красная живая раковина внизу живота слегка приоткрывается. Он не сводит с красной раковины глаз. Она чувствует его взгляд, сдвигает ноги. Белый песок ослепительно сверкает на солнце, как белый снег там, у них, на их родине, далеко отсюда.
“Ты знаешь, дура моя, что твои монголы обожествляли знак “суувастик”? Свастика – тоже крест. Все на свете под крестом. Видишь, – он подполз к ней снова, – я ложусь на тебя крест– накрест”. Он внезапно встал и ринулся на нее, как ястреб. Повалил ее на песок. Лег на нее, вонзил себя в нее, покорно поддавшуюся, раздвинувшую ноги молча, как служанка – господину: бери. Потом, подождав, пока биение крови не уймется немного, повернулся на ней – так, что их тела, если поглядеть на них сверху, образовали живой крест.
Так лежал на ней, прижимая ее животом к песку. Она молчала. Не двигалась. Не шевелилась. Он зло повернулся на ней так, что его ноги воткнулись в песок около ее плеч, подхватил ее руками под ягодицы, задвигался в ней бурно и мощно. Когда последние судороги утихли, он внезапно взял руками ее ступню, повернул к себе, поцеловал ее пятку. Она молчала.
“Как мы сюда попали?” Он, лежа на песке, распластавшись, как мертвая рыба, отдыхая и забывшись, вздрогнул от звука ее голоса. “Как? За деньги. Я купил билеты, и мы полетели”. Она опять помолчала. Молчала долго. Береговой ветер взвивал песчинки, сыпал ей в волосы. Черное на белом. Черные косы – на белом песке. Жаль, что она не видит своей красоты. Зачем женщине зеркало? Оно смущает и развращает ее. Зеркало – наваждение дьявола. Мужчина – вот зеркало женщины.
“Я понимаю, что за деньги. За твои?” Черная птица кружила над ними в вышине, страшно высоко, выглядела отсюда, с земли, как буква “Т”. Тау, распятие. Римляне делали распятие в виде буквы тау. “Много будешь знать – еще и оглохнешь”. Он никогда не лез за словом в карман.
Черно– синяя вода не колыхалась. Полный штиль. И песок во рту, песок на зубах.
Где они, что с ними?
Белое жаркое небо падает, падает на них. Ястреб кружит над ними. То, что они оказались в жизни вместе, это не любовь. Видит Бог, не любовь.
Бог видит все? Скажи, Бог, Ты все видишь или нет?
Дарья не знала, зачем Амвросий поехал в Израиль. Она никогда не докучала ему расспросами. Надо будет – сам расскажет. Он не рассказывал. Однажды вечером, грызя финики, пробормотал: ты знаешь, что здесь, в Иерусалиме, строят Храм Второго Пришествия? Мощный собор возводят, может, и правда Страшный Суд скоро?
… … …
– Эгей, Витас, кисточку мне вон ту… что у тебя в руках… ну да, эту… на секунду брось!
– Брошу, да не попаду! Или попаду тебе в башку, медведь!..
– Кидай, не ошибешься!
Под куполом храма Христа Спасителя висели в люльках, раскачивались художники. Просили друг у друга то кисточку, то банку с краской. Шутили. Ругались. Молчали, сцепив зубы. Дышали тяжело. Работали. Пот с них тек градом.
Тяжело это – корячиться в тесной деревянной люльке, прицепленной к металлическим лесам, высоко под потолком, черт знает где, свалишься – костей не соберешь. Тяжко быть художником– монументалистом. Реставратором церквей – не легче. Заработок хороший, господа! Настоятель им златые горы пообещал, если договор не нарушит! И молоко за вредность пусть наливает – не ровен час, сорвешься с высоты…
– Что там молоко – водки пусть сразу наливает, водки!..
– Мы с тобой, дружище, водочки сегодня ой как тяпнем, ой как вмажем… после трудов праведных… Слушай, а тебе не кажется, ты, косорылый, что ты вон там, справа, не туда руку у этого, у пророка Моисея, к чертям загвоздил?! Ну не туда у тебя рука пошла! Это не ракурс, а… сказал бы я! Мне– то отсюда лучше видно, чем тебе! Откатись в люльке – и глянь! Н что, я не прав?!
Тот, кого невежливо поименовали “косорылым”, скрючился в деревянной люльке лицом кверху; большие ноги художника нелепо торчали в стороны, ремни, на которых он висел, натянулись – мужчина был высок и массивен, ему нужна была не люлька, а платформа, чтобы писать фреску. Он огрызнулся на говорившего:
– Что треплешься! Работай лучше над своим фрагментом! В мой – не лезь!
Отер потный лоб ладонью. Зажал в руке палитру и кисти. Под скрюченными ногами, на дне лодки– люльки, лежали банки с красками и ворох тюбиков. Беспокойный этот Илюшка, то ему кисточку, то красочку подай, то еще руку не ту у Моисея углядел – вот банный лист! Приклеился, и все!
Хмурясь, он все– таки отъехал в подвижной люльке от фрески и оглядел ее со стороны, придирчиво, прислонив ладонь ко лбу. Н– да, не Микеланджело. А что? Лучше? Нет, я не Байрон, я другой. Он мазнул кистью по палитре, потом по стене. Рука Моисея, ее мучительно вывернутое запястье окрасились красным цветом. Заходящее солнце там, на фреске, все красило в красный цвет. А недурно намазюкано, право слово. Витас Сафонов сделал это. Мастер Нестор сделал это. И зашвырнул кисть – или там топор – или молот – или палитру – в реку, в озеро, в море, в космос. Чтобы никто более не сделал так.
Если бы он жил во времена Иоанна Грозного – ему бы наверняка выкололи глаза на Красной площади. Руки по локоть обрубили на Лобном месте. Это уж как пить дать.
Нет, кроме шуток, отличная подработка. Если они сделают фреску вовремя – у него будет возможность капитально отдохнуть и полететь наконец– то в Рим, к своей девочке. К своей последней девочке, Зине Серафимович. Зина, Зинуля, первое место на конкурсе красоты “Мисс Россия”, приглашение работать с лучшими модельерами Европы, сниматься в фильмах. Зина – топ– модель, браво, у него в жизни еще не было топ– моделей. Ой ли? Врешь ты сам себе, Витас Сафонов, врешь, суслик. Были у тебя и топ– модели. И фотомодели. И модельерши. И натурщицы. И простые шлюшки с бульваров. И модные барыни в норковых шубах, жены крутых бизнесменов. И девчонки с вокзалов. И знаменитые актрисы, что, раздевшись, стонали, бесстыдно раскидывались перед ним в постели: “Возьми меня! Возьми меня необычно! Чтобы я запомнила!.. Ах!.. Чтобы я запомнила ночь с Витасом!..”
Знаменитый Витас Сафонов, живописная звезда, хватит пялиться на фреску, в глазах зарябит. Трудоголик Илюшка может висеть в люльке хоть ночь напролет. Это его дело.
Домой?!
Уж лучше висеть здесь, под куполом, с занудой Илюшкой, чем – домой.
Давай работай, работай, Витас, здесь мазок, там другой… Работай…
Домой – не надо… Не надо – домой…
Домой ему все равно пришлось когда– нибудь идти.
Он слез с лесов. Вымыл руки. Переоделся. Илюшка еще висел в высоте, пьяный от работы, запаха разбавителя и вдохновения. Витас накинул макинтош, проверил, на месте ли деньги в кармане, и вышел в ночь и снег.
Машина стояла, ждала у храма. Его лошадка. Черная лошадка. Черный гладкий, блестящий “мерс”. Он сел, стронулся с места, вырулил на Волхонку.
Крутя руль, глядя прямо перед собой, он не помнил, не видел, не слышал ничего. Он с трудом останавливал машину на красный свет. Он не помнил, как доехал. Спасала только работа. Когда он переставал работать, ЭТО снова наваливалось на него и погребало его под собой. У него перед глазами все время стояло ЭТО.
Дом. Ночь. Холодильник. Водка. Ветчина. Еще рюмка. Еще. Не помогает. Спасает только фреска. Ну не малевать же все время. Деньги? Ни к чему. У него их и так много. Нужно иное зелье. Не водка. Хотя и водка хороша. Еще. Еще.
Он не пьянел. Это был плохой признак. Колеса! Нужны колеса. Он схватил пачку таблеток, высыпал себе на ладонь то, что осталось. Негусто. Но этого хватит, чтобы утонуть в забвении. Крепок он, силен, ничто его не берет, и, что самое страшное, он ко всему этому привык, к зелью, к колесам, к куреву, к табаку и травкам, хорошо еще, на иглу не подсел, но скоро, о, скоро подсядет. Он слишком близок к игле. Все слишком страшно. Спасенья нет. Боже, пошли мне спасенье! Дьявол, сатана, Люцифер, Вельзевул, пошли мне спасенье! Кто угодно, пошли мне спасенье!
Слишком мучительно. Слишком близко.
ЭТО было слишком близко. ЭТО было рядом.
Наконец его сдавили, сломали корчи неимоверной тошноты. Он согнулся, дернулся, и его вырвало прямо на свеженатянутый, загрунтованный для работы холст, стоявший на одном из мольбертов. У него была великолепная мастерская на Воробьевых горах, но он и дома работал, благо квартира была необъятная, в его хате в новом доме– “свечке” на Большой Никитской можно было заблудиться с непривычки: шутка ли, тринадцать комнат! Почему тринадцать, спрашивали его друзья– приятели, что за чертова дюжина?.. шутишь, старик, а?.. “Потому что я Тринадцатый апостол”, – мило улыбаясь, отвечал он, и все сразу замолкали, глядя на его остановившуюся, будто вросшую в лицо, страшную улыбку.
Черт, все колеса к лешему вытошнило. Все начинай сначала. Он замер перед зеркалом. Он был слишком хорош собою, художник Сафонов: густые русые волосы до плеч, как у всех гениев, густая рыже– русая борода – литовский князь, да и только, короны золотой на лбу не хватает, – широко стоящие большие серые глаза, тщательно подстриженные усы над чувственным, красиво вылепленным ртом. Девки и бабы от него просто дохли, валились к его ногам штабелями. Как это все ему надоело, Господи. С мокрой бороды капали капли воды – он подставлял голову в ванной под холодную струю. Господи, отпусти. Господи, ну не мучь Ты его больше!
Он рухнул на кровать. Смял в кулаке розовое атласное одеяло. Корчи снова скрутили его. Дьявол! Ну чистый синдром абстиненции. Но он же не наркоман! Он же не наркоман, чтобы испытывать такую чертову ломку! Или он – уже – абсолютно готовый – наркоман своего вечного ужаса? И он готов прокручивать ТУ страшную пленку в голове еще раз, сто раз, тысячу раз, чтобы вновь и вновь испытывать ужас – и, как древний герой, бороться с ним?!
Ты не герой. О Витас, ты не герой. Ты слюнтяй. Ты хорошо зарабатывающий салонной живописью слюнтяй. И тебя все равно найдут. Найдут и убьют. Уж в этом– то будь уверен.
Пот лил с него градом. На время ужас отодвигали нехорошие забавы. По всей Москве ходили слухи: Витас Сафонов – сексуальный извращенец, педофил, эротоман, нимфоман, любитель крутой групповухи и Бог знает чего такого, чему нет имени в человеческом словаре. Да! Да, все это правда. Да, он перепробовал и то, и другое, и третье. Чего он только не перепробовал – и с бабами, и с мужиками. Все приелось. Чтобы отодвигать возвращающийся ужас, он писал на огромных холстах чудовищных, голых баб, сходя с ума, страшно скалясь, смеясь, рисуя беднягам по восемь грудей, громадные, вывернутые на зрителя красные вагины, раздвигая им нарисованные ноги, как ножницы, до отказа, проводя длинные темно– багровые извилистые линии – не жалей, скупердяй, кадмия красного! – по торчащим грудям, по белым сугробам животов, по впалым щекам. Кровь, это по холстам, по голым женским телам текла масляная кровь, а он чертил кисточкой извилистую жуткую линию, закидывал голову, хохотал истерически, падал перед холстом на колени, протягивал к изуродованной натуре руки: гляди, я гений! Я изобразил твою сущность! Твою суть, женщина! Ты – такая! Тебя только рядили все века глупцы мужчины в рюши и кружева! Сюсюкали над тобой! А ты – такая! И только такая! Дьявол – ведь это баба, как никто раньше не догадался!..
Его друг Валера Праводелов, у которого была мастерская на Старом Арбате, говорил ему, когда Витас пытался пожаловаться ему на жизнь: “Что хнычешь, дружище? Наши грехи – в нас самих! Хочешь избавиться от них – да, возьми кисть и нарисуй их! Но это полдела. Ты должен не просто отринуть их, а изобразить их так сильно, так ясно показать людям, чтобы люди испугались и сказали: да, это грех! Мы никогда так не сделаем, ибо это страшно! Ты готов к такой живописи?.. Нет?.. Тогда, парень, малюй свои ню. Крась “нюшек”! Зарабатывай! Продавайся в модных галереях! Ты же до сих пор это делал с успехом…” Праводелов стоял у мольберта в черной рясе, и Витас сначала не понял ничего. А потом узнал: Валерий рукоположился, принял сан. Праводелов – завтра уже святой… а он?..
Где святость? Где грех? Зачем – жить? Чтобы продать завтра за тридцать тысяч долларов изящную сексуальную картинку в галерее “Ars eterna”, изображающую, как смуглый юноша обнимает белокожую девушку, а золотые волосы девушки взвиваются за ее спиной, клубятся, летят, обнимая весь холст? Юноша с эрегированным членом, девушка, еще сжимающая кокетливые ноги, но уже готовая их расставить, чтобы принять мужскую плоть. Масса лессировок, множество изящных живописных приемчиков, уже испытанных, нравится публике – верняк. Он всегда попадал в “яблочко” потребы. Он сам себе был классный менеджер и маркетолог. Такое – купят, с руками оторвут! И обязательно золотом, легкой позолотой по взвихренным волосам пройтись. И назвать работу – как можно красивее: например, “Рождение ветра”. Или: “Начало страсти”. Господи, как же он умел всегда делать красивые вещи! Как он нравился! Как он бешено покупался! Это ли не счастье художника? А ты опять спрашиваешь себя, ты, идиот, – зачем жить!
ЗАЧЕМ ЖИТЬ, ЕСЛИ ТОТ УЖАС ВСЕГДА ПЕРЕД НИМ.
Он рванулся прочь от зеркала. Чуть не врезался лбом в косяк. Ну что, прибегнем к испытанному средству – коньячку?! Есть, есть у него отличный коньячок в баре, прямо скажем, отменный. Привезенный из самого что ни на есть французского града под названием Коньяк. Эх, пописал он там этюдики… оттянулся. Завалился туда после выставки в галерее Друо, где – везуну Витасу удача не изменила! – продал все, привезенное из Москвы, до последнего холста. Галерист был доволен, аж замаслился. “Хочу показать вас в Америке, в лучших американских галереях, в музее Гуггенхейма!” А он, напившись с друзьями– художниками, эмигрантами и французятами, в отеле “Савой” до положения риз, отоспавшись, ломанулся в провинцию. Французская провинция, это вам, батеньки, не хухры– мухры! Солнце, какое солнце… Юг… Гроздья винограда сорта “Русанна” свешиваются через разрушенные античные каменные ограды… На рынках вино наливают из бочек, отворачивают краники… Свинью жарят на вертеле – прямо у дороги… И эти лошади, лошади, лошади, изумительные камаргские лошади, бешеные, грациозные, как женщины, с косящими прелестными глазами и пышными хвостами, с сухими хрупкими бабками, с гривами, которые хочется целовать, и эти белые быки Прованса, эта жестокая коррида Тараскона, Нима, Арля – прямо в античных амфитеатрах… Он оказался в Коньяке – и застрял там. Он переписал, перенес на холсты и картонки за полмесяца весь Коньяк, всех его жителей, всех его виноделов и весь виноград на праздниках вина. И приволок оттуда в Москву не две бутылки спиртного, как то положено было правилами Аэрофлота, а целых пять: три провез нелегально. Ну, а если бы обнаружили контрабанду? Попробовали бы только прицепиться к VIP– персоне Сафонову! Международный скандал!
Так– так… Коньяк… Он выпьет и забудет все. Он выпьет и представит себе роскошное солнце южной Франции. Солнце бьет ему в лицо, он блаженно жмурится, как кот. Он выпьет – и…
Рука с бутылкой застыла в воздухе, дрогнула, и пахучая струя коньяка пролилась мимо бокала. В дверь позвонили.
Он кинул взгляд на часы. Двенадцать ночи. Если точнее – четверть первого.
Он никого не ждет сегодня. Сейчас. В этот час. Никого.
Кто– то из баб?! Нет. Никого не звал. Кто мог самовольно явиться? Зоя? Алла? Мурзик? Нет, Мурзик на такое не способна. Мурзик гордячка. Она будет ждать, пока ее не позовут. Ида?.. Да, может быть, Аида… Какая ей шлея под хвост попала, Аиде… Перепихнуться на ночь глядя захотелось… Черт, он же имеет право на отдых, просто на спанье, на сосредоточенность, на стояние у мольберта… на личную жизнь… или и в двенадцать к нему прутся оголтелые папарацци?!.. “Как вам отдыхается, многоуважаемый Витас?.. Спится?.. Не спится?..” Да, как поется в одном рок– тексте, – как бы воистину не спиться… от жизни такой…
Он громко брякнул бутылкой коньяка о столешницу. Пошел открывать.
На миг перед закрытой дверью его объял дикий страх. А ВДРУГ ЭТО…
Он отогнал безумье. Привычки спрашивать, как старая старушка: “Кто там?..” – он не имел, слава Богу. Он же все– таки был мужчина. Он повернул вправо– влево бирюльки замка и рванул дверь на себя.
За дверью стояли двое в черном.
Он сначала не понял. Во тьме подъезда странно, бело– призрачно светились, как у инопланетян, их головы.
Потом до него дошло: бритые.
Двое бритых. Двое бритоголовых. В черных кожаных куртках. Из– под курток – черные рубахи.
Он отшатнулся. Двое быстро шагнули на него. Втолкнули его в прихожую.
Он пятился. Они наступали. Тот, что был пониже ростом, захлопнул за собой дверь.
Все. Он в мышеловке. Мышеловка – его собственная квартира.
Не зря он глотал колеса, как сумасшедший. ЭТО возвращается. Нет, он сейчас проснется. Эти двое лысых ему снятся. Снятся! Снятся!
Реальный, живой бритый мужик разжал губы. На Сафонова пахнуло запахом хорошего одеколона. Он втянул воздух ноздрями. “Hugo Boss”. Недурно.
– Господин Витас Сафонов?
Он не мог говорить. Кивнул головой.
– Мы по вашу душу. Сесть пригласите?
До чего вежливы, подумал он с издевкой, до чего галантны. Будто и не бандиты вовсе. “А может, они не бандиты? А кто же, кто же, кто?! Морды у них – точно киллерские… Дурак, если бы тебя хотели убить – уже давно бы убили, едва ты открыл дверь… Тихо, Витас, тихо, веди себя прилично, слушай, что скажут…”
– Садитесь. – У него рот повело вбок, как при тике. Улыбка не получилась. – Чем обязан?
Лысые сели. Тот, что был ростом повыше, вальяжно закинул ногу за ногу, озирая обстановку, шкафы, мольберты, начатый холст на мольберте, картины на стенах. Остро пахло разбавителем, свежей масляной краской. Лысый мужик воззрился на картину напротив. Витас видел – она его шокировала.
– Фью– у– у– у! – присвистнул он. – Вон мы чем на досуге занимаемся. Ай– яй– яй, нехорошо, дяденька, малевать такую похабщину. – Он кивнул на громадное полотно, занявшее полстены над камином. На искусно прописанном, тщательно пролессированном холсте худая белокожая женщина на фоне красного ковра, раскинув ноги и задрав в крике наслаждения голову, мастурбировала, втыкая в себя черный деревянный олисбос. – В аду гореть будешь. Или ты не русский человек?
– Мы, кажется, еще не пили на брудершафт. – Так, хорошо, голосок окреп, не дрожит. – Я по матери литовец.
– По матери, по матушке, – хохотнул второй, тот, что пониже росточком, антикварный венский стул под ним противно скрипнул. – Вниз по матушке по Волге!.. Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан.
– Я слушаю.
Он увидел себя в створках зеркала– складня. Он был очень бледен. Лысый мужик сперва поглядел на коньяк в бокале, на бутылку, на лужицу коньяка на столе, потом – в лицо Витасу.
– Ладно, на брудершафт потом. Извините. Забылись. Мы пришли сделать вам заказ, господин Сафонов.
– Заказ? – Во рту у него пересохло. Он и впрямь мучительно, до сосанья под ложечкой, захотел хлебнуть коньяка. – Какой заказ?
Почему они не убивают его сразу. Немедленно. Сейчас. Ведь это же так просто – вытащить пушку из кармана, направить прямо в лицо. И размозжить череп в хлам. Чтобы кровавые куски полетели на стены, на холсты, на зеркала. Новая живопись. Натуральная живопись. Шматки кадмия красного. Ошметки живого краплака. Искусствоведы будут говорить, закатывая глаза: “Последние картины Витаса Сафонова написаны в полном смысле слова кровью”.
Тот, кто пониже, ухмыльнулся. Скинул ремень черной большой, как мешок, сумки с плеча. Черную сумку Витас, испуганный, потрясенный, не заметил.
Лысый дернул “молнию”. Распахнул сумку. Вытащил огромный целлофановый пакет. Сквозь прозрачный целлофан было хорошо видно, что пакет весь, сверху донизу, набит пачками долларов. Лысый шмякнул пакет на стол орехового дерева с инкрустацией полудрагоценными камнями – яшмой, нефритом, сердоликом. Витас купил этот стол на аукционе в Бельгии, в Брюсселе. Еле провез через границу. “Это стол моей бабушки, – разводил он руками перед таможенниками, – у меня бабушка в Бельгии, в Антверпене живет, милая такая старушка, понимаете?.. Единственная память о предках нашего рода…” Всхлипнуть, главное, – правдоподобно…
Витас глядел. Он глядел – и не видел. Глядел – и не понимал. Так, отупело, соображая, что к чему, он когда– то, желторотым пацаном, впервые глядел жестокое порно. Он никогда в жизни не видывал столько денег наличными.
“Что это? Розыгрыш? Это фальшивки? Меня берут на пушку? Или это все– таки сон, сон, сон, бред?! Что я должен делать? Что я должен СДЕЛАТЬ за эти деньги?!”
– Я не раб, – сказал он, выдавив эти слова из наждачно– жесткого горла, как масляную краску из засохшего тюбика, и посмотрел поверх бритых яйцевидных голов. – Если речь идет о насилии…
– …то вы не продаетесь. И не покупаетесь, я правильно понял? – Высокий усмехнулся. Витаса покоробило. – Вы не раб, мы вас не насилуем, не покупаем, мы вас – нанимаем. Мне кажется, это вполне приемлемые деньги для художника… такого ранга, каким являетесь вы.
– Так, так. – Он тряхнул головой. Длинные волосы взвились, опали на плечи. – Значит, нанимаете. И что же я… хм… за эту сумму… простите, сколько здесь?.. должен буду нарисовать? Голую задницу? Политическую картинку? Двух лесбиянок в разгаре коитуса? Землю, разрезанную надвое, как яблоко?! Обезображенных жертв Холокоста?! Бабу в родах?! Что?!
“Так. Верно. Еще веселее. Ты взял правильный тон, старик”.
Он осмелел и уже издевался над ними. Он старался не смотреть на прозрачный мешок, набитый деньгами, лежащий перед ним на инкрустированном яшмой бельгийском столе.
– Мы заказываем вам фреску. Мощную фреску. Ничего подобного не было ни в каких веках до нас и, рассчитываем, еще долго не будет после нас. Надо сделать так, чтобы такого больше никогда на Земле не было.
– Сюжет фрески?
Он уже перешел на профессиональный тон. Ни улыбочек, ни издевок. Вопросы по существу.
– Второе Пришествие.
– Где надо писать фреску? В храме?
– Да. В храме. Этот храм уже строится. В него вложены большие деньги.
– Деньги, вот эти, – он кивнул на целлофановый мешок, – от тех же людей?
– Да.
– Где находится строящийся храм?
– Сказать? – Высокий кинул взгляд на низкорослого.
– Скажи. Что таиться. Бестолковое дело. Он же все равно туда скоро полетит.
– В Иерусалиме.
– Черт, в горячей точке, – Витас поморщился. – Неплохенькое местечко, конечно, но – такая каша вероисповеданий! Мусульмане, евреи… православные… храм на храме, и каждый свою веру хвалит, за свою – глотку перегрызет… И вы туда же! Вы… – “О чем ты. Ведь не эти же гололобые щенки строят собор. Они – исполнители, запомни. Их дело – припугнуть меня, нанять меня, передать мне деньги. И баста!” – Какой вы веры– то, ребята? А?! Судя по заказываемому вашими шефами сюжету – христиане, я так понял?
Высокий набычил лысую голову.
– Вы православный?
– Да.
– Хотя вполне бы могли быть католиком, если – литовец.
– Мать умерла давно. Она не крестила меня ни в младенчестве, ни в отрочестве. Не те годы тогда были. Я принял крещение уже взрослым. Осознанно.
– Ясно. Значит, вы поймете. – Высокий встал, венский стул жалобно простонал под могучим, крепко сбитым телом. – Он придет скоро. Возможно, мы с вами явимся свидетелями Его прихода. Он придет в блеске и славе своей. Не так, как тогда. А мы… Мы лишь ускорим Его приход. Понятно?
Встал и низкорослый. Черная кожа куртки противно скрипнула. Они оба, не прощаясь, повернулись на каблуках, пошагали к двери. Не оглянулись.
Замки отлетели прочь. Резко, оглушительно хлопнула дверь, чуть не сорвавшись с петель. Витас так и остался сидеть в комнате. Ни договора. Ни печатей. Ни подписей. Ни контрактов. Ни ручательств. Ни расписок. Ничего.
Только вся сумма – весь его гонорар – все деньги, положенные ему за его работу, еще несделанную, еще тающую в дымке времени, как тает между пальцев дымок сигареты, – перед ним, на столе, на гладкой столешнице с яшмовым деревом и малахитовым озером.
… … …
Ефим хотел забыться.
Ефим хотел нырнуть в пропасть безоглядной чувственности. В омут постыдной и черной страсти, которой он, может быть, и не испытывал, но которую именно сегодня ему невероятно хотелось испытать.
Он заставлял Цэцэг проделывать такие штучки, которые ей и не снились там, давным– давно, в “Фудзи”. Ноги выше головы? Пожалуйста, но разве это так удивительно? Это не страсть. Господи, страсть – ведь это тогда, когда срываются все покровы внутри тебя, не снаружи. Тело только иллюстрирует, рисует внутреннее дьявольское обнажение. Я срываю все покровы. С тебя. С себя. Я делаю, что хочу. И, обнажив себя до конца, я смеюсь над собой – и делаю то, чего не хочу. Ибо я хочу испытать то, чего не испытывал никогда.
Она взяла его ногу, поставила себе на грудь. “Дави, – шепнула. – Сильнее”. Я раздавлю тебя, ты же такая нежная. Не бойся. Прогнувшись под ним, она застонала; его ступня заскользила по ее потной груди, по животу, она раскинула ноги, открывая красные створы; большой палец его ноги скользнул внутрь нее, губы нашли ее губы, и зубы больно укусили сложенный трубочкой рот. Она, не отрывая рта от его губ, выставила вперед груди, и его пальцы, найдя торчащие темные соски, больно сжали их, вонзили в них ногти. Так?! Я же так не хочу. И хочу. Тебе же так больно. И все равно ты так хочешь. Покажи мне изощренный восточный секс, ты, продажная Цэцэг, самая лучшая шлюха в мире.
Она встала на колени в постели, высоко подняв зад. Он провел языком вдоль по ее хребту, осязая позвонки, ощущая на губах вкус соленой смуглой кожи. Ее пот пах розами. Она любила роскошь и сама была роскошью. А он сегодня, сжигаемый жаждой – забыться, окунуться в иной мир, топтал эту роскошь ногами, бил наотмашь, приковывал цепями и наручниками к спинке кровати, истязал, шептал: покажи мне еще что– нибудь. Потряси меня! Научи меня! Ты, ученая, ты, дикая…
Лежа под ней, выплясывающей на нем отчаянные па любовного танца, он скользил глазами по стенам. Неплохо оформила спаленку монгольская красотка. За такой коврик, с вытканными Венерой и Адонисом в гроте, она наверняка отвалила на Кристи черт знает сколько. Ведь это же гобелен шестнадцатого века… судя по колориту, нежно– дымчатому, голубовато– холодному, французский. Эпоха Генриха Второго, Дианы де Пуатье… Венера наклонилась над восставшей плотью Адониса, едва не касаясь ее губами, хитро улыбаясь. А это что? Новогодняя маска?.. Черная с золотом?.. Ну да, какая– нибудь китайская маска древнего чудища, вон и козлиные рога, книзу закручены… Он перевел взгляд. Цэцэг подпрыгнула сильнее, резче. Она хотела сделать ему больно. Он, держа ее обеими руками за талию, ощущая под ладонями мокрое скользкое тело, смотрел уже на другой сюжет. А это китайщина, родной ей Восток. Лысый, с седой паклей жиденьких волосенок вокруг уродливой головы– тыквы, смешной старикан – ого, однако, а уд какой огромный, торчит, темный, как у осла, – задрал девчонке, видимо, служанке расшитый хризантемами халат аж до самой шеи, пытаясь овладеть ею. На круглом лице служанки, с глазками– щелками, с черной челкой до бровей, было написано озорство и презрение. Да, она подставит себя хозяину. Но и выколотит из него монету! А то и собственный бумажный домик.
Цэцэг остановилась. Прекратила прыжки. Ефим по– прежнему глядел на китайскую гравюру. Он только что заметил на гравюре еще одного человека. Чья– то голова высовывалась из– за приоткрытой двери. Мужская? Женская? Он бессознательно перевел взгляд на дверь спальни Цэцэг. Может, здесь за шторой, за гардиной, за китайской ширмой с птичками и розочками тоже есть Подглядывающий?
Елагин вздрогнул. Цэцэг возобновила свои танцы. Еще немного – и судорога неимоверного наслаждения выгнула его в мгновенном столбняке. Цэцэг упала рядом с ним. В теплом воздухе спальни, пропитанном ароматами всевозможных парфюмов, запахло солью, горечью и морем.
Он по–прежнему смотрел на дверь. Цэцэг шутливо ударила его ребром ладони по плечу, имитируя движение каратэ– до.
– Люблю, как пахнет сперма. Она пахнет морем. Китайцы говорят: есть четыре священных жидкости – кровь, лимфа, слюна и сперма. Тот, кто научился задерживать сперму в себе во время любви, а не выбрызгивать ее, питает свой тысячелистый лотос Сахасрару.
– А моча, значит, не священная жидкость? – Против воли губы его поморщились в улыбке.
– Нет. Моча – это то, что должно уйти в землю. Кровь и лимфа текут в нас, это жидкости нашей жизни. Слюну мы глотаем даже друг у друга в поцелуе. Сладка слюна Суламифи для Соломона, помнишь?.. А из спермы рождаются дети. Она самая священная.
– И глотать ее ты тоже любишь?.. Не притворяешься?..
– Нет. – Она перевернулась на живот, внимательно смотрела на Ефима. – Я так скакала на тебе, как на коне, а ты все такой же бледный. Что с тобой? Что так уставился на дверь? Я же тебе говорю, это моя и только моя квартира. Сюда никто не придет. Никто! Никогда! Без звонка…
Ефим молчал. Цэцэг заботливо отерла струйку пота, стекающую с его виска. Быстро клюнула его в нос, как птичка.
– Птичка– синичка с китайской ширмы, – беззвучно шепнул он. – Тебе не кажется, что за нами кто– то подглядывает?
– Подглядывает?.. Какая чушь! – Цэцэг сладко, как кошка, потянулась, и все ее неостывшее от страсти тело завибрировало, задрожало в истоме. – Тебе везде мерещатся шпионы. Ты перетрудился, милый. Мне кажется, ты слишком много на себя берешь. Что– нибудь из твоих несчетных дел тебе надо бы бросить. Но только не меня! Не меня!
Она, в шутку, накинулась на него, как львица, понарошку терзала, рычала, трясла за плечи, неистово целовала. Потом отшвырнула, как истрепанную игрушку. Рухнула на подушки. Ему показалось: вот так она может отшвырнуть его и по– настоящему.
– Меня только что чуть не убили.
– Чуть не убили? – Узкий черный глаз ожег его насмешкой. – И ты все– таки приехал ко мне? Браво. Что же ты не держишь в черном теле своих бодигардов? Они работают у тебя или нет? Или ты им только платишь деньги? Беспечно ты живешь, как я погляжу.
Она встала с постели. Подошла к огромному, во всю стену спальни, зеркалу. На зеркальных полочках в кошмаре женского веселого беспорядка лежали, валялись, сверкали флаконы и флакончики, щетки и расчески, жемчужные связки, агатовые ожерелья, брошки, коробочки с кремами, помады, тени, румяна, колечки, расписные шкатулки. Он, скосясь, смотрел, лежа на животе на кровати, на безумный натюрморт, на нее, беззастенчиво показывающую ему смуглый крепкий, округлый зад. Она загорала вся, целиком, на нудистских пляжах на Ривьере, на Майорке. Ни следа белых полосок ни от какого бикини.
Цэцэг поднялась перед зеркалом на цыпочки и закинула руки за затылок. Ее изжелта– коричневая, золотистая спина волнующе сужалась к бедрам. Смоляные волосы змеями ползли по лопаткам. Он вспомнил монгольскую пословицу: “Женщина – алмаз в кулаке: крепко сожмешь – изранит ладонь”.
– Я купила нам с тобой билеты на завтра на представление японского театра кабуки. Мистерия “Восемь Ужасных”, как тебе названьице? Фимка, да что ты такой квелый?! А ну– ка встряхнись! Приказываю тебе! Я, владычица тварей подземных и надземных, я, повелительница живых людей и адских духов…
Продолжая смеяться, она шагнула к стене. Сняла со стены то, что он принял за новогоднюю восточную маску. Быстро надела себе на голову, обернулась к нему, и Ефим ахнул от неожиданности.
Перед ним стояла монгольская принцесса. Дочь Чингисхана.
Глаза принцессы сияли. Голая смуглая грудь горделиво вздымалась. На черных курчавых волосах внизу живота еще блестели капельки влаги.
– Монгольский царский головной убор, мне из Улан– Батора в подарок прислали, Эрден– батыр вчера в посольстве передал, была презентация фильма Миши Горенко “Чингисхан”. Повеселились.
– Фильм– то ничего?
– Не ничего, а что– то. Миша молодец. Он уцепил главное. Он показал разность цивилизаций. Мы никогда не поймем Восток. Восток никогда не поймет нас.
Она стояла перед ним голая, еще вся потная после соития, на голове у нее торчали, выгибаясь в стороны, крутые, будто турьи, рога, обтянутые черной плотной тканью, расшитой золотой нитью. Золотые стежки перевивали рога, они будто были обмотаны елочным золотым дождем.
– Горенко – твой любовник?
– У царицы всегда должно быть много фаворитов, ты же знаешь.
Раскосые глаза хохочут. Широкие скулы лоснятся. Румянец спускается со щек, красной рекой бежит по шее.
… … …
Идут. Опять идут.
Идут его бить.
Он сжался весь. Сжался в комок. Надо сжаться в комок, втянуть голову в плечи, согнуть шею, согнуть ноги в коленях, прижать колени к животу. Поза младенца в утробе матери. И так, сжавшись, лежать. Так они тебе хотя бы не отобьют печень. Почки – да, отобьют. Но хребет не сломают. Хребет сломают тогда, когда тебя растянут “ласточкой”. Старая известная пытка. Ты для них – враг, падаль. Тебя все равно уничтожат. Но будут уничтожать медленно. Ибо это приносит им удовольствие.
– Эй ты, Косов! – Они все– таки выбили из него его имя и фамилию. – Будем говорить?!
Он поворачивается к ним на тюремной койке. В камере полумрак. Он не видит их лиц. Вместо лиц – серый туман. “Мое лицо для них тоже – туман. Они тоже не видят меня. Они никогда не выйдут на ребят. Я никогда не скажу им ни имена, ни адреса. Никогда. Я никогда не выдам Хайдера. Он слишком нужен всем нам. Я никогда не выдам Хирурга. Не выдам Алекса Люкса. Баскакова они и так знают, вся страна знает Баскакова. Взять Баскакова они все равно не могут – он не преступник. Для них преступники – мы, голь, мелкота, лысая чернота. Больших людей упечь в каталажку не так просто. Маленьких – пожалуйста. Большие дяди играются во взрывы и убийства, а ловят, судят и приговаривают малолеток. Так было всегда. Я ничего им не скажу”. Он смотрит прямо перед собой в серую тьму застылым взглядом. Две острые льдины глаз. Два ледяных скола.
– Говорить будем?!
– Мы уже говорим.
– Андрей, давай! Сбрасывай его!
Он скорчился. Подобрал колени к подбородку. Его скинули с койки на холодный каменный пол. Удар сапогом. Еще удар. Он закрыл руками лицо. Пусть разбивают в кровь руки. Пусть переломают пальцы. Ему нужны глаза. Глаза и зубы. Он еще должен видеть, что случится с его миром.
Удар. Стон. Удар. Стон. Они перевернули его сапогами на спину. Он казался сам себе насекомым, защищающим хрупкое брюшко от железных шестеренок.
– Ты, гад! – Удар. – А как добивали цепями того, уже мертвого, на рынке, это ты помнишь?! – Удар. Стон. – А как тебя бьют – так это нехорошо, некрасиво, больно, ужасно?! Ах ты сволочь! Ну, ты у нас заговоришь! Не из таких показания выколачивали!
Отступили. Он отнял руки от лица. По разбитым опухшим, синим пальцам текла кровь. Он слизнул ее языком. Обернул к бьющим его лицо – и засмеялся.
– Ха, – сказал он. – Ха– ха. Ха– ха– ха. Предают только слабаки. Те, кого потом опускают. Вы можете убить меня, но вы меня не опустите. Вы сами дряни. Вы бьете меня, чтобы услужить хозяину. У вас у всех есть хозяин. И он не погладит вас по головке, если вы не исполните его приказ. Все вы сявки, шавки. Все вы суки.
Человек в форме, с серым, невидимым во мраке ночной камеры – одно маленькое оконце под потолком – призрачным лицом снова сунулся к нему, поддал ему под ребра: на! На тебе за суку! Он застонал, перевернулся на полу на бок. Так лежал – спиной к ним.
– Вы работаете на хозяина. Вы рабы.
– Вы тоже рабы! У вас тоже есть хозяин! Он охмурил вас! Он задурил вас, щенкам, башки! Опьянил вас своей идеей! Идеей великой белой расы! Белая, видишь ли, высшая, а все остальные – мусор, выходит, так?!
– Да, мусор, – жестко сказал он, лежа на полу, не оборачиваясь к ним. – Вы сами увидите это. Вы все скоро увидите.
Они пытали и били его – он пытал и бил их. Они били его кулаками – он бил их словами. Жестами. Взглядами. Он бил их молчанием. Всем собой. Он вступил с ними в поединок.
Поединок – это всегда ответственно. Он может быть одноразовым, и тогда в поединке кто– то обязательно гибнет. Тогда в поединке сразу видны победитель и побежденный. А может растянуться на месяцы, на годы. Тогда выигрывает тот, кто овладевает временем.
Допросы измотали его. Он уже еле держался на ногах. Он был единственным, кого удалось поймать тогда, на рынке, в сумасшедшей бойне, в снежной тьме. Остальные скины разбежались кто куда, как тараканы, откатились за лари, за рыночную тару, попрятались под прилавки, унесли ноги. Он – один – ноги не унес. Значит, надо бороться.
После одного из допросов с пристрастием, когда он сидел, облитый водой, уткнув локти в колени, опустив голову низко, почти до полу – его тошнило, он боялся, что его вырвет прямо на тюремный пол, – голос над ним произнес загадочное слово: “Спецбольница”. И наступило молчание. И он так и сидел, опустив голову, пока к нему не подошли, не приподняли его за руки, как марионетку, не поволокли в родную камеру, на родную койку.
Скоро это слово перестало быть для него загадкой. Ночью, в закрытой машине, в фургоне с решеткой, его привезли туда, откуда, по словам тех, кто томился там, как звери в клетке, не было возврата. “Из тюряги – есть, а отсюда, брат, уже нет”, – хрипло проскрипел ему в ухо первый, кого он увидел там в темном, освещенном лишь тусклой, как светляк, лампой больничном коридоре: сгорбленный человек с отрезанным ухом. Он думал – старик, а глянул в лицо – обомлел: молодой, глаза черно горят ненавистью, рот искусан в кровь. Его ровесник.
– Щас врачиха придет… Явится, не запылится. У, стервь!.. Ангелина Андре– е– е– евна. С– с– с– сука. У ней фамилие такое, знашь, сытое – Сы– и– итина. И правда, рожа сытая такая… дородная. Железная леди, я те скажу! Кнутом тя будет хлестать – и наслажда– а– аться. Сучка первостатейная. Помесь немецкой овчарки и этой, как ее, древней сучки– то, как бишь?.. Клепатры, во. Клепатра прям настоящая! Та, говорят, тоже пытать мужиков любила… Не– а, у ней точно этот, как ее, у самой комплекс… Ей самой, сучке, подлечиться надо, а она тут – всех якобы лечит… И ведь корчит из себя, корчит! Обрати вниманье, как двигается! Башку задерет, ножонками переступает, будто с самолета по правительственной дорожке к самому Президенту машет – ать– два, ать– два! У, морда… Говорят – дисер какой– то пишет… А чо это такое, дисер?.. Ты, брат, знашь аль нет?..
– Диссертация. – Он отвернулся к стене. – Слушай, Колька, у тебя в заначке никакой сигаретины не завалялось? Курить до смерти охота. Уши пухнут.
– Тю, спохватился, малой!.. – Колька потянулся на койке, панцирная сетка лязгнула под его огрузлой тушей. – Была б соска, угостил бы… Ти– ха! Вот и она… у, бабец…
Он инстинктивно подобрал ноги, укрылся тощим вытертым верблюжьим одеялом. Закрыл глаза. Он не хотел видеть никакую “Клепатру”. Баба есть баба. Его мужики били – ничего из него не выбили. Ну и что, брешут, что упрятали сюда навек. Навек ничего не бывает! Ни тюрьмы, ни любви, ни жизни. Все когда– нибудь кончается. Кончится и эта ботва.
– Больной Архип Косов, встать! Врача на обходе встречать стоя! Вы тут все не лежачие! Не инфарктники!
Он открыл глаза. Вскинул их. И – обомлел.
Над ним стояла действительно Клеопатра. Владычица. И даже белый врачебный халат не делал ее плебейкой.
Тяжелые темно– красные волосы были подобраны на затылке в огромный пучок, еле держащийся на стальных длинных шпильках под кокетливо сдвинутой набекрень докторской белой шапочкой. Длинные узкие глаза странного, зелено– коричневого, в странную травянистую желтизну, меняющегося кошачьего цвета изредка пугающе вспыхивали красным, когда лицо поворачивалось к свету. Тусклый плафон под потолком палаты слабо освещал высокую, длинную шею, длиннопалые белые руки с сужающимися к кончикам пальцев фалангами; длинные, хищные ногти – их любовно отращивали и за ними любовно ухаживали, – были накрашены густо– малиновым блестящим лаком. Удивительно свежее лицо. Легкий румянец на скулах – или искусный макияж?.. Прямой тонкий нос. Изогнутое лекало намазанных перламутровой помадой капризных губ. Кончики губ подняты. Она улыбается? Она… насмехается? Она – издевается?!
– Больной Косов, вы не слышите – вам говорят!
“Баба она и есть баба. Пусть орет сколько угодно. Не встану”.
Он повернулся на другой бок и притворно захрапел. Перед его закрытыми глазами стояли длинные, как слезы, серьги с прозрачным зеленым камнем, качающиеся у нее в ушах.
Он не понял, что произошло. В одну секунду он оказался сброшенным с постели умелым, сильным приемом кунг– фу. Что это кунг– фу, он не знал. Он узнает об этом потом. Он вскочил в один миг, опьяненный яростью. Он забыл, что это женщина. Хотел ответить. Гнев застлал ему разум чернотой. Он сделал выпад. И опять ничего не понял, оказавшись на полу. Женщина нанесла ему боковой маховый удар наружным ребром ступни, мгновенно сбросив с ноги модельную лаковую туфлю.
Он лежал на полу, кости ныли. Он видел над собой лицо женщины. Красивое, с раздутыми ноздрями, с погустевшим румянцем, со сдвинутыми бровями. Она всунула ногу в туфельку. Стояла над ним прямо, как эсэсовская надсмотрщица в фашистском лагере. Он против воли восхитился. Таких бы баб – к ним! К Хайдеру…
– Вставайте, больной Косов, – голос врачихи– зверя был ледяной и спокойный. Будто бы это не она обрушила на него два сногсшибательных удара. – Вставайте и пройдемте со мной. Санитары вас проводят.
Что такое здешние санитары, он уже почувствовал на собственной шкуре. Они отделывали непослушных будь здоров. Разновидность палачей, и действуют они не всегда по приказу короля, часто – и по своему соизволению. Нельзя их обижать. Они тебя – могут. Как угодно. Однажды они с Коляном пытались пробраться на кухню, чтобы похитить из кастрюлек хоть что– нибудь съестное – подыхали с голоду. “В тюряге и то лучшей кормят!” – возмущался Колька. Он не забудет, как их с Колькой отлупили санитары. Связали простынями, вместо смирительных рубах, и отлупили – ножками от старых стульев. После тех побоев у него на колене стала расти странная твердая шишка, и все больнее становилось ходить, он не мог свободно сгибать ногу. “Хромой скин буду, Хайдер калеку обратно не возьмет. Да какой я скин уже? Шерсть на башке вовсю отросла. И обратно я отсюда, как обещают, не вылезу”.
Он поднялся. Отряхнул больничную пижаму. Лохмотья какие дали, ужас. И не штопают, и иголок с нитками не дают: а вдруг ты ту иголку санитару в задницу всадишь?! Или в другое место… Пошел к двери. Два санитара в черных халатах, как два черных пса, возникли по бокам, только что не взлаивали от усердия.
– Ко мне, – коротко сказала красноволосая Клеопатра. – Вы все тут, лежать тихо! Я вернусь через пять минут.
Толстый Колька скрючился под одеялом. Длинный, сухопарый, поджарый Солдат – старик Иван Дементьевич Стеклов – так и лежал, уставив сумасшедшие белые глаза в потолок. Ленька Шепелев – Суслик – сидел на краю койки, болтал ногами, причмокивал, будто сосал вкусную конфетку, бормотал, вскрикивал дурашливо: “А я счастливей всех!.. А у меня радость!.. А я счастливей всех!..”
“Врешь, через пять минут ты не вернешься”, – зло подумал Архип, выходя в длинный темный коридор, где отвратительно пахло с кухни гнилой вареной капустой.
– На что жалуетесь?
– На все.
– Я спрашиваю, на что вы жалуетесь?
Он попытался заглянуть в длинные, как стрелы, зелено– желтые, цвета хризолита, надменные глаза. В ее кабинете было пусто и голо, как во всех унылых помещениях спецбольницы. Страшная, серая пустота. Серые стены, серые офисные столы. Серый стул, и он на нем сидел – напротив нее, сидящей за столом. Сидел и смотрел на ее длинные малиновые ногти.
– Я же вам говорю, на все. Только не надо меня больше бить. Я ведь и сам себя могу убить, правда? Тогда вам станет неинтересно.
– Что – неинтересно?
– Все. Я же кончик ниточки, за которую надо потянуть, правда?
Ее лицо повернулось к нему. Теперь она прямо глядела на него. И он наконец глядел в ее глаза. Он, чувствуя, как все в нем, внутри, обжигается, что все его кишки, сердце, легкие и печенки обдаются крутым кипятком, все– таки глядел прямо ей в глаза. Он не знал, что она владела техникой гипноза – и древней, и современной. Он не знал, что она знала все методы суггестии. Что она серьезно занималась контагиозной магией. Как не знал и того, что ее диссертация, которую она писала, писалась ею на тему: “Агрессия как основополагающая социальная манипуляция в пространстве тотального общественного экстрима”.
– Да, вы ниточка, – медленно, задумчиво сказала она. У нее стал удивительно мягкий, вкрадчивый голос. – Мы думали, мы вас оборвем сразу. Но вы умеете тянуть резину. Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути, вы не находите?
– Кто это сказал?
– Китайцы.
– А если я сумасшедший?
– Что вы сказали?
Зеленые серьги в маленьких ушах дрогнули. Она вытащила из ящика стола портсигар, открыла, вытянула сигарету. Щелкнула зажигалкой. Дым обволок ее гордое, будто из белого мрамора высеченное лицо. “А портсигар– то золотой, – покосился он на вещицу, – драгоценный. Ух, золота сколько вбухано, классно”.
– Я сказал, если я действительно сумасшедший? Ну, если у меня и правда крыша поехала? Ну псих я, псих, и все! Тогда как?
– И людей на рынке, ни в чем не повинных, вы убивали тоже в невменяемом состоянии? В состоянии аффекта? Вы оправдываете себя? Вы пытаетесь подстелить под себя соломку? Не выйдет.
Она ногой нажала на кнопку под столом. Санитары, стоявшие за прозрачной стеклянной дверью, с готовностью вломились в кабинет.
– В двадцатую комнату его.
Санитары довольно заулыбались, будто получили шоколадку в награду.
– В двадцатую, точно, Ангелина Андреевна?
– Да. На ЭШТ.
Когда его взяли под локотки и повели к двери, он, внезапно испугавшись до дрожи, до ломоты в костях, чувствуя резкую боль в отбитом колене, закричал, оборачивая голову к ней, докуривавшей сигарету:
– Что такое ЭШТ?! Что такое ЭШТ?!
– Электрошокотерапия, кореш, – радостно заржал санитар, державший его за правую руку. – Положат тебя на доску, электроды к башке подведут, ток пустят. Ну, подергаешься немного, покорчишься. Если мало тока дадут – под себя не будешь ходить, я тебе гарантирую.
Они волокли его уже по коридору, а он упирался, ошпаренный лютым страхом, все оборачивался к ее кабинету, кричал: “Зачем?! Зачем меня туда?!”
– Если ты шизофреник, миленький, так лечись, – тихо, с улыбкой сказала она, слушая крики из коридора, потом облизнула перламутровые губы и загасила окурок в круглой малахитовой пепельнице.
Холод укрытой чистой простыней доски под спиной. Голоса – над ним, вверху. Его руки привязаны к доске. Его ноги привязаны к доске. В его зубы всунута деревяшка, привязана к затылку. Он, как пойманный волк, со щепкой в зубах. Уже никого не укусит. Он понимает: это конец. Все битье по сравнению с этим – это туфта. Здесь ему придет конец, он знает это точно. Ну и что, уж лучше сразу, чем мучиться здесь всю оставшуюся жизнь. Белая раса! Ведь это делают с ним люди его, белой расы. Значит, Хайдер был неправ, и война людей друг с другом может быть и между представителями одного рода, одного клана?! “Сколько дадим ему?” – “На первый раз немного”. – “Немного – мертвому припарки. Надо, чтобы он восчувствовал. Чтобы покрутило его потом как следует”. – “Хорошо, тогда…” Он не расслышал цифру. К вискам прижалось что– то ледяное. Будто два круга, выпиленных изо льда, приставили к вискам. Он затаил дыхание. Деревяшка во рту пахла хлоркой. Он судорожно проглотил слюну.
А дальше настал ад. Мгновенная страшная боль пронизала все тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах, стала крутить его и выворачивать; боль нарастала, становилась все нестерпимей, и он выгнулся, хотел соскочить с доски, но он был привязан к ней, хотел заорать – и не мог, деревяшка во рту мешала; он замычал, глаза его вылезли из орбит, а боль все росла, накатывалась на него издали и обрушивалась, плющила его и трясла, и он молил ее: ну кончись, кончись когда– нибудь! Разрежь меня пополам! – а потом уже ни о чем не молил, потому что сознание заволоклось громадой черной тучи, подсвеченной изнутри ослепительным золотым сиянием по краю, по кайме. Туча обняла его и вобрала в себя – так, как вбирает в себя мужчину женщина, когда он острым живым выступом входит в нее. И его не стало.
…Он не помнил, когда он опять начал быть. Словно из тумана, донеслись голоса. “Эй, Коля– а– ан!.. знаю, у тебя в тумбочке чинарик есть… Суслик, прекрати лыбиться!.. Лучше поматерись!.. Эй, ребя, давайте Солдату закажем письмо на волю написать… А кому письмо– то?.. Женке?.. Любовнице?.. Да нет, маманьке… Маманька думает – меня где– нито в Чечне угробили… Ей так, наверно, и отписали отсюда… Коль, ну дай чинарик!.. не жмоться…” Он хотел разлепить глаза, встать – и его тут же, будто веревками, скрутили неистовые, неимоверные судороги. Он корчился в судорогах, извивался, закидывал голову, скрежетал зубами, метался по койке, и панцирная сетка звенела под ним, стонала. Он так скрипнул зубами, что коренной зуб раскрошился, он почувствовал осколки во рту, выплюнул их на пол. Голоса над ним звучали так же равнодушно, весело даже: “А, нашего новенького– то, Косова, на дыбу таскали!.. Ну да, так всегда корежит после дыбы… Якобы – полезно это… Пусть мозги нам не пудрят… Не полезно, а – говно полезло!.. Мучат людишек почем зря… Чаво– то из нас выбивают – выбить не могут…”
Его корчило так еще с полчаса. Когда мучительные судороги на время отпустили его, он вскочил с койки с перекошенным лицом, с оскаленным ртом. Приступ ярости, как миг назад приступ боли, сотряс его. Он ударил, не глядя, кулаком влево, вправо. Сшиб с тумбочки Кольки больничную кружку. Она полетела в окно. Разбила стекло. Он пошел, пошел дальше по палате – все громить, все срывать – простыни, подушки, матрацы с коек. Ухватился за грязную штору. Рванул вниз. Как сорвавшийся карниз не убил его – он не помнил. “А– а– а– а!.. А– а– а– а!” – кричали люди в палате, разбегаясь, прячась кто куда. Ленька Суслик заполз под койку. Идиот накрылся матрацем. Серый Граф сел на корточки, держался за никелированную спинку кровати, блажил: “Ой, спасите!.. Ой, убивают!..” Лишь один Солдат сидел в койке прямо, как аршин проглотив, уставив одинокие белые глаза в пространство.
Ненависть захлестывала его. Ненависть переполняла его. А за что ему было любить этот мир?! Ему, одинокому волку, изгою, выплюнутому миром, ибо противно миру грызть отбросы?! Мир выбросил его из себя – бей этот мир, бей, убивай, пока сам не сдохнешь! Пока сам…
В палату ворвались санитары. Набросились на него. Повалили на кровать. Дюжий санитар, по прозвищу Дубина, прокряхтел, крепко прижимая животом его голову к подушке:
– Эй, Марк, веревки тащи! Будем, на хрен, привязывать!
Они так крепко примотали веревками его запястья и лодыжки к металлическим опорам койки, что конечности вмиг затекли, налились кровью, посинели.
– Развяжите, суки!
– За “суку” ты получишь…
– Не бей его, это такое бывает после ЭШТ… Бесятся они… Глотки всем готовы перегрызть… Это реакция такая, не колоти его, слышишь, Андрюха…
– На! Получай! Еще?! Хватит?! Сыт?! Лежи! Думай за жизнь!
Ушли. Сумерки вливались в палату стремительно, как синий яд. Голоса кругом поутихли. Разнесли ужин – он слышал, брякают тарелки, алюминиевые ложки. К нему никто не подсел на кровать, не покормил его с ложечки. Он внезапно почувствовал резкую, острую жалость к себе. Ощутил себя маленьким, очень маленьким, совсем дитем. Вспомнил детство. Сибирь. Он – сирота. Та семья, что приютила его в енисейском поселке Подтесово, так прямо и сказала ему: ты – неродной, ты – сирота, у тебя папка в лагерь загремел, а мамка спилась, ее хахаль убил, ножом на кухне зарезал, так мы тебя милости ради взяли, вот живи, хлеб жуй, да не забывай, чей он – хлеб. Василий Косов был охранником в лагерях около Лесосибирска. Он и забрал его, когда мамку пришили. Он помнит дом на Енисее, где они жили с мамкой. Тесный, маленький, избенка срубовая, даже тесом не покрыта. Крыша все время протекала. Когда отца взяли, к мамке стали приходит чужие мужики. Она спала с ними за печкой, его не стесняясь, визжала, вскрикивала, материлась; он видел иной раз за подпечком ее высоко вздернутые голые белые ноги. Когда мужики уходили, мамка выпивала водки и становилась доброй, розовой, ласковой, обнимала его, целовала, пуская слюни ему на щеки. “Архип, – причитала, – Архипка, что ж ты у меня какой хлипкий…” Он и правда часто хворал, кашлял. Однажды он нашел мать за печкой, на кухне, всю резаную– перерезанную. Заорал от страха. Прибежали люди. Пригласили из лагеря, что поблизости, охранников, чтобы труп на машине довезти в сельскую больницу – может, жива еще? “Ваську Косова позовите!.. Ваську Косова!.. У его – машина казенная!..” Он так и не узнал, где могила матери. Он не знал, кто такой Василий Косов. Зато потом узнал хорошо. Лагерный охранник дал ему свою фамилию. По пьяни – колотил его, малявку, по затылку, кричал, куражился: “Да у меня автомат есть! Да я всех, если надо будет…”
Жалко себя, жалко. Слезы текли по его щекам. Он лежал, привязанный к койке, будто распятый. Он скинхед, он бил черных и будет бить. Это черные, это все чернявые, жадные, хитрые, вонючие чужаки облепили его страну, его Россию, его Русь, и сосут, прилипалы, из нее кровь. Это они виноваты в том, что у него не было детства! Не было юности! Не было ничего! Это все они! У них – все! В их руках – все! Власть! Деньги! Бабы! Воля! Жрачка! Выпивка! В их руках – жизнь! А в его?! В руках таких же, как он?!
Слезы лились уже градом. Он скрипел зубами. Ругательства вырывались из его стиснутых губ. Палата погрузилась во мрак. Это ночь наступила? Ну да, это ночь. Плачь, можно поплакать вволю. Тебя сейчас никто не видит, пацан Архипка. Может, только мать, летящая среди облаков с изрезанной крест– накрест кухонным ножом, окровавленной грудью, видит тебя с небес.
Не с небес, а из– под грязного потолка палаты. Он хохотнул сквозь слезы, выплюнул еще крошку от зуба.
И услышал, как в тишине, нарушаемой лишь храпом узников и бормотаньем Суслика: “А я – счастливый!.. Я – и правда счастливее всех!..” – по каменному полу палаты мерно, четко стучат каблучки.
Цок– цок, цок– цок. Лошадь хорошо подкована. Цок– цок.
Сердце замерло. Он отвернул голову, закрыл глаза, засопел, притворился спящим. Кто– то сел на край его кровати. Пружины тихо тренькнули. Сел – и застыл. Тоже, как и он, замер.
Так они застыли оба: он – лежа, привязанный, едва дыша, тот, кто сидел у него на кровати – не шевелясь, не тревожа пружины.
Ночь спускалась, ночь втекала в палату из окна. Ночь обнимала мир черными властными руками. Ночь была чернокожая, и ее тоже надлежало убить.
Он почувствовал, как чьи– то руки медленно, уверенно развязывают ему туго затянутые узлы веревок на запястьях. Сначала на одном, потом на другом. Он все еще боялся открыть глаза и посмотреть. Он уже чувствовал запах духов и слабый запах сладкого пота из подмышек. Запах женщины. Чувствовал острые ногти, царапающие его кожу. Кошка. У, кошка, ты пришла, чтобы обцарапать меня?!
Он уже знал, кто отвязывает его.
И, повернув голову, открыв глаза, почуяв руки освобожденными, он приподнялся на койке – и резко, сильно, больно, будто бил мужика, а не бабу, ударил ее по щеке.
И снова закрыл глаза. И отвернулся.
Он этой пощечиной ей все сказал.
Кто она такая.
Она прижала ладонь к щеке. Щека пылала. Она ощупала кончиками пальцев щеку, скулу, челюсть. Нет, не вывихнул, уже хорошо. От таких ударов челюсть запросто сворачивается на сторону. Она– то знает это. Ага, лежит без движения. Изображает равнодушие. Она наклонилась над ним, он совсем близко почувствовал пряный, египетский аромат ее духов.
И губы, горячие, властные губы раздвинули его рот, и язык вплыл внутрь, ловя и нащупывая его язык, и ее рука нашла, стиснула под простыней живую дубинку, тверже железа, что восстала – бить, разить, убивать и рождать.
Молча, не говоря ни слова, она снова привязала веревками, валявшимися на полу, его руки к спинке койки. Сдернула с него простыню. Грубо стащила с него рваные, старые пижамные штаны. Нежно погладила, потом грубо стиснула его вздернутый уд, больно уцепила, сжала в пальцах и крутанула складку кожи на головке. Наклонилась. Взяла дрожащую плоть губами. Он уже истекал соком. У него так давно не было женщины. Он чувствовал, что сходит с ума. Она ласкала его страшно и грозно, сжимая в кулаке, вталкивая глубоко в рот, больно кусая. Он с трудом удерживался, чтобы не излиться ей в рот. Она поднялась, быстро сбросила с себя туфли и трусики – и так, в халате, в черных чулках, раздвинула над ним, лежащим, беспомощным, красивые ноги – и медленно, страшно, мучая и его, и себя, опускалась на его вздернутый штык, накалывала себя на него, насаживала, как мясо на вертел.
Все молча. Все без слов. Без стонов и криков. Они оба понимали – стонать и кричать и говорить нельзя, это палата, и больные спят, и санитары за дверью, и дежурные сестры в сестринской комнате. Она двигалась на нем сначала резко и сумасшедше неистово, потом – внезапно – застыла, оцепенела. Слушала, как он ворочается, как зверь, внутри нее, в ее пещере. Положила ему пальцы на губы, и он укусил эту руку. Она отдернула руку. Усмехнулась. Он видел во тьме палаты эту усмешку – белые зубы сверкнули, как ледяные сколы, зеленые серьги качнулись в ушах. Она сильнее вдавила его в себя, и он, не выдержав, застонал. Она легко, не больно ударила его по щеке: молчи. Уперевшись ладонями в его плечи, она стала подниматься и опускаться над ним, то убыстряя движения, то замирая, и из него снова исторгнулся мучительный стон. Она приблизила к нему лицо и вобрала в рот его губы, играя ими, как заблагорассудится – жестоко, умело. Он задыхался. Она уже не сдерживала себя. Приподнимала ягодицы, усиливая толчки, становившиеся все бешеней, все жаднее. Скакала на нем, как скачут на лошади. Он был ее конем. Она – его дикой наездницей. Он подавался навстречу ей, веревки врезались ему в запястья. Она укусила его губы до крови. И внезапным, страшным усилием он, напрягши все мышцы, сделав их каменными, железными, отвердив до предела и чудовищно вздув, разорвал путы, связывавшие его.
Неистовый взрыв сотряс их одновременно. Она не удержалась, раскрыла рот в беззвучном крике, захрипела, застонала. Толстый Колька ворохнулся во сне. Суслик забормотал чаще, прерывистее свою ахинею. Сидя на нем верхом, не слезая с него, видя, что он освободился от веревок, она, с улыбкой наклонившись к нему, вытирая обеими руками пот с лица, спросила веселым шепотом:
– Ты меня теперь задушишь?
Он молчал. Еще тяжело, как загнанный зверь, дышал. Она все еще сидела на нем, сжимая ногами его ребра. Потом потянулся к ней, привстал на звякнувшей койке, взял ее лицо в руки и поцеловал, как икону.
Всего больных в палате было тринадцать человек. Колька шутил: двенадцать апостолов, братцы, и Христос, а кто же Христос– то, а?.. вот то– то и оно, каждый думает, что – он… После завтрака, после порции уколов и лекарств, после принудительного лечения – кому душ Шарко, кому – литий, кому –ЭШТ, кому еще какая пытка назначена, – узники начинали точить лясы. Так коротали до обеда время. После обеда тоже болтали; иные спали; иные буйствовали, и их нещадно лупили санитары. Иные выясняли, кто за что сюда, в “спецуху”, загремел. Сергей Кошелев попал сюда попросту – от армии захотел отлынить, под психа “закосил”, ну, его маленько проучить решили. Федя Шапкин, пловец, спортсмен, был изловлен при переплывании в море русско– турецкой границы. Федя так и не сказал, зачем да почему плыл ночью, под лучами пограничных прожекторов, в Турцию морем, да еще в непогоду, в шторм. Это навсегда осталось тайной – видимо, не только его. Да, здесь у половины узников были не свои тайны, и выдать их – значило также помереть, и в этих же застенках, но только, возможно, от руки тех, кого ты заложил и кто с воли подсылал к тебе наемника, палача– исполнителя. Никто не знал, как попал сюда Солдат. Старик все время молчал. Видно, его залечили уже до степени полной молчанки, или же это была удобная маска: молчу – не тронут. А может, он был просто глухонемой.
Ангелина Сытина, главный врач спецбольницы, по– прежнему приходила к Архипу по ночам. Не каждую ночь, конечно. Но – часто. Он безошибочно определял, когда она явится. В воздухе пахло грозой. Пахло – ею. Он изучил эти ее пряные, с ароматами и благовониями Аравии, Сахары и Нила, египетские духи. Он знал, что она любит, какие позы, какой ритм; он сходил с ума, представляя, как она ляжет на живот поперек кровати, раздвинет ноги: “А теперь так”. Обычно она приходила часа в три– в четыре ночи, когда вся больница погружалась в оцепенение, в ледяной мучительный сон. Иной раз в ночи раздавался крик из дальней палаты. Это кричал, корчась в судорогах, тот, кого недавно приволокли на каталке из двадцатой комнаты.
Однажды он ее попросил: “Странная просьба у меня к тебе будет, да?.. Но ты выслушай. И не смейся”. Она засмеялась тут же. Он положил ей пальцы на губы. “Принеси мне сюда… жаровню. Хочу видеть живое пламя. Хочу испечь, зажарить мясо. Шашлык. Я исхудал. Тут не еда, а коровье говно. Принеси настоящего мяса. Баранины. И жаровню. Попроси на кухне жаровню. Ну… попроси на улице… у этих… у чурок… они на каждом углу сейчас шашлыки жарят”. Она посмеялась, ничего не сказала, потрепала его за щеку, как младенца. Он дернул головой. “Не принесешь? Черт с тобой”.
На другую ночь она снова явилась. Он думал – она не придет. Пришла и принесла с собою небольшой аккуратный мангал. Раздула в углях огонь. Она доставала из пакета хворост, подкладывала в красное пламя. Огонь разгорался, Архип протягивал к огню руки, улыбался. Солдат лежал рядом на койке, лицом вверх, неподвижно глядел в потолок. Солдату бы мясца горячего, сразу бы сил прибавилось. Ангелина вынула из сумки кастрюлю, там лежали приготовленные куски шашлыка, вымоченные в уксусе и посыпанные резаным луком; ловко насаживала их на принесенные шампуры. Мясо, мясо. Настоящее, живое мясо. “Как это там Емелька Пугачев говорил?.. Лучше один раз напиться живой крови, чем всю жизнь жрать мертвечину?..” Да, именно так он и говорил, а откуда ты знаешь?.. Пушкина надо читать, школьная программа. Я так давно училась в школе. Я все забыла. Гляди, какая красота. И сок уже капает. И угли шипят. Красные угли.
Они сидели на корточках, на каменном полу холодной палаты, перед жарким мангалом, где жарилось мясо, грели руки, протягивая их к огню. Окна затягивали роскошные морозные узоры. Белые пальмы… белые хризантемы… Ангелина переворачивала шампуры, чтобы мясо поджарилось со всех сторон. Вкусные запахи расползались по палате. Больные беспокойно ворочались. Кое– кто проснулся, увидев главного врача, скрючившуюся на корточках перед горящим мангалом, испуганно перевернулся на другой бок. Федька Шапкин громко стонал во сне. Он перенес пять сеансов ЭШТ. У него уже обнаружилось недержание мочи, отвисала челюсть. Он так и не сказал, зачем переплывал морскую границу. Эй, моряк, ты слишком долго плавал! “Может быть, уже готово?”
Она сняла с огня шампур с самыми толстыми, сочными кусками мяса, ловко стащила крайний кусок пальцами, длинными ногтями с серебристо блеснувшего в полутьме шампура – и стала есть, обжигаясь, дуя на мясо, беззвучно смеясь. “Готово. Пробуй. Все как ты хотел, идиот”. Он взял шампур у нее из рук. Отгрыз кусок прямо с шампура, не сводя с нее глаз. “Я не идиот. И ты не стерва. Зачем ты представляешься стервой?”. Она усмехнулась. Уцепила горячее мясо пальцами. Поморщилась от боли, сорвала с шампура. “Не обожжешься?..” Она держала кусок баранины на голой ладони. “Я обожглась об тебя. Теперь уже все равно”. Красный уголь, красное пламя, красная зола, темная палата, алмазно– блестящие ледяные разводы на оконных стеклах.
Она вздохнула. Стала есть мясо. Поймала губами падающий с куска завиток лука. Снова остро посмотрела на него, сидящего близ мангала. По его лицу ходили красные блики. “Ты выйдешь отсюда, если ты скажешь, кто ты, с кем ты и кто стоит за тобой”.
“Покажу на своих?”
“Да, покажешь на своих”. Ее губы блестели жирно. Глаза изумрудно мерцали. Сейчас она была похожа на кошку, на первобытную женщину, делящую со своим недавно прирученным хищным зверем ужин, зажаренную на костре дичь.
“Изволь. – Он кивнул головой на окно за его спиной, все в морозных хвощах и папоротниках, на тусклые придорожные фонари, на сугробы и звезды, на страшный каменный город там, вдали. – За мной – вся страна”.
Ее красивое лицо освещалось красными сполохами огня, еще живущего внутри мангала. Губы в бараньем жире улыбались. Она держала мясо в руках, на белый глаженый халат капал мясной сок. Темно– рыжие волосы выбились из пучка, красное кольцо волос обнимало розовое ухо. Ее длинные глаза сейчас, в ночи, потемнели, отсвечивали зелено– синим, почти черно– лиловым, как виноград “изабелла”, куда девалась дневная кошачья желтизна. И все же она кошка. Египетская кошка. Хайдер рассказывал – была такая богиня Бастис, кошка, она жила в пустыне, беда была, если кто разгневает ее. “Ты хочешь сказать, что у нас скоро настанет ваша диктатура?”
“А другого выхода нет, госпожа главврач. Таких, как ты, кто мучает людей, надо…” Он резанул ребром ладони себе по горлу. Глядел на нее. Она вернула ему взгляд. Ее зрачки снова на миг сверкнули красным. “А если я – буду – с вами?”
“Ты…” Он обнял всю ее взглядом. Запустил зубы в кусок, стащил, как зверь, тряся головой, с шампура. Прожевал. Снова уставился на нее. Она сидела на корточках перед мангалом, ее безупречно белый халат был весь заляпан жиром. Он вспомнил, как она изнасиловала его в койке, привязанного, первый раз, и снова мучительно захотел ее. “Ты… Ты – можешь”.
Ночь была такая короткая. Дыхание было тоже коротким. Два слова, всего два слова умещались в выдох.
Смыслы движения? Вашего движения?
Очищение. Очищение страны от грязи. Очищение земли от грязи. Слишком много грязи накопилось. Ее можно только выжечь огнем. Или вырезать ножом.
Новая Хрустальная ночь? Недурно.
Ты знаешь о Хрустальной ночи?
У меня была пятерка по истории. Это неважно. Ты сказал про огонь. Вы считаете себя огнем?
Даже Христос говорил про крещение огнем. Мир гниет с хвоста. Он погибает. Россия тоже погибает. Россию съели, сожрали черные мерзавцы.
Кто это – черные мерзавцы?
Кавказцы. Евреи. Азиаты. Негры. Чурки. Слышишь, они все чурки. Они – зараза. С Кавказа ползет зараза. Из Китая ползет зараза. Из Африки ползет зараза. Ты, врач недорезанный, тебе что, ниггерского СПИДа мало?!
Хорошо. Вы перебьете всех неугодных. Вы возьмете власть. И что будет? Россия для русских? Только для русских? А как быть с татарами? С чувашами? С мордвой? С хакасами?
Не заливай мне про хакасов. Не заливай мне про татар. Татары – соседи. Славяне с ними издавна жили. Я вырос в Сибири, так я рядом с хакасами вырос, с эвенками. Соседей трогать не будем. Мы будем убивать только чужаков. Оккупантов. Оккупанты – к стенке!
Так, замечательно. Ну, а если во мне течет, хм, иноземная кровь?
В тебе?! Иноземная?! Из перерусских русская, Ангелина Сытина… Выдумаешь еще…
А если? Ну, если? Если я покажу тебе паспорт? И там – черным по белому: осетинка? Или – ассирийка? Или – еврейка? Тогда как? А? Меня – тоже к стенке?
Тебя надо – к стенке в первую очередь. Ты – сука. Но нам такие, как ты, нужны. Я говорю это все тебе сейчас не просто так. Наше учение свято. Все, что основано на чистоте – крови, помыслов, поступков, – спасет землю. Все, что замешано на грязи – когда смешиваются крови, нации, языки, тела, добро и зло валят в одну кучу малу, – ее убьет. Поэтому лучше убьем мы. Наше убийство – не убийство. Мы убиваем, чтобы будущие поколения – жили.
Ах, как это знакомо. Сейчас моря крови, в будущем – моря счастья. Так мир и топит себя в крови, а счастья все нет и нет.
А ты умная. Ты всегда была такая умная? Гитлер вон все придумал правильно со своим народом. Мы Гитлера до сих пор как чудище представляем, а он ведь был умный человек. Все организовал. Народ накормил. Правительство отладил. Идеями головы снабдил. Высокими идеями, между прочим. Колонны маршировали. Знамена несли. Героем каждый хотел стать. Героем, слышишь!
Ты тоже хочешь стать героем? А попасть в гитлеровский концлагерь – хочешь? И прямиком – в печь?
Меня не взяли бы в концлагерь. Я – молодой. Я полон сил. Я боец. Меня послали бы воевать. И я бы погиб в бою, здесь…
…на Курской дуге, да, под Вязьмой, под Москвой? Подо Ржевом? Ты убит подо Ржевом, молоденький немецкий ефрейтор, ты, Гитлерюгенд?!
Там – герои. Здесь – герои. На войне все герои. Давно не было героев. Давно не было войны. Мир иссяк. Мир высох. Миру нужна влага. Надо полить все кровью.
Ты так хочешь войны? Скажи, ты хочешь войны?
Да. Я больше не хочу мира. Я хочу войны.
Поцелуи закрывают брешь пустоты, разверзающейся, раскрывающейся между ними, как раскрывается незажившая рана под сползшей повязкой. Он целуют друг друга так неистово, будто хотят ворваться, войти друг в друга. Стена плоти неодолима. Человек никогда не войдет в человека. Человек никогда не поймет человека. Человек всегда будет биться о человека, как бьется рыба об лед, как бьется волна о каменный лоб скалы.
– Косов! Встать!
Крик доносится из другого мира. Издалека. Крик не принадлежит миру, в котором он еще пребывает, еще плывет.
– Косов! Встать, говорят!
Глаза медленно открываются. Он – на больничной койке. Ни запаха мяса. Ни запаха египетской царицы Клеопатры. Ни мангала. Все убрано. Следы заметены. И халат, верно, уже положен стираться в автоклав. Завтрака еще нет. Больные угрюмо сидят на кроватях. И все почему– то смотрят на него. На него одного.
Санитар подходит к нему, берет его за шкирку, как котенка, и силком спихивает с койки. Он без штанов. Придерживает сползающие трусы. Порвалась резинка. Слышно хихиканье Суслика. Он, шепотом матерясь, влезает в пижамные штаны, валявшиеся на полу. Другой санитар, в дверях, радостно скалится.
– Косов! За мной!
Он выходит в коридор, сопровождаемый стражами. Косится на резиновую дубинку в руках санитара. Куда на этот раз? В двадцатую комнату? В тридцатую? Он усмехнулся. В нем больше не было страха. Он снова чувствовал себя воином и мужчиной. Да, он мужчина. Она дала ему понять, почувствовать, что он – мужчина. Да, она искусница, Клеопатра. Плати за ночи Клеопатры пытками, скин. И попроси санитаров тебя обрить, для порядка. Они это сделают с удовольствием. У героя должна быть голая, как железный шлем, гладкая голова, чтобы удобно было в любое время надеть каску. Твоя голова – твоя каска. Бейте током. Бейте дубинками. Все, что нас не убьет – сделает нас крепче.
… … …
Это было так недавно. Ему сейчас казалось – это было целый век тому назад.
Мощные лесистые крутосклоны отражаются, как в темно– зеленом зеркале, в бурливом Енисее. Порогов и перекатов на реке стало меньше – плотины подперли воду, она успокоилась там, где должна бежать и играть, как встарь. Михаил Росляков пригласил его порыбачить в Бахте летом – ну он и поехал на Енисей, давненько он тут не бывал. Все столица, столица. А Сибирь уже где– то побоку лежит. Как копченая семга: закоптил, полюбовался, положил в мешок – и забыл, а клялся, что осенью с пивком сгрызет.
Рыбалка по осени, рыбалка… На Енисее – самая рыбалка. Никакое вонючее Подмосковье с Енисеем не сравнится. Хайдер дал ему денег – он заслужил, заработал. Такую вербовку провел среди молодых ребят – любо– дорого. Целые города, городки под Москвой, под Нижним, под Ярославлем поправели. Правых на выборы выдвигают. Целые районы пацанов головы бреют, в скинхэды подаются. “Скины – это наша юная гвардия, – так Хайдер ему и сказал. – Обрати внимание на скинов! На них пока вроде бы никто внимания и не обращает! А жаль! Скинхеды – это завтрашние мы. А мы завтра будем гораздо жесточе и жестче нас, сегодняшних”. Он хорошо поработал и заслужил отдых. Билеты на самолет, правда, вздорожали. Ну да и на поезда тоже. За инфляцией не угонишься. “Это черные гаденыши нам делают инфляцию, все они. Скинем их – заживем. Будем править – все будет правильно, понял?!” Куда ни шли триста долларов, пожал плечами Хайдер, на– ка тебе все пятьсот, гульни. Только с черными девками там, в Сибири, не спи, понял?! Никаких чтобы китаянок, монголок! Только с русскими матрешками! У нации должно быть здоровое и чистое продолжение, понял?! “Не бойся, презервативы в любом киоске, шеф”, – буркнул Архип, заталкивая доллары в нагрудный карман “бомбера”.
Он прилетел в Красноярск, из Красноярска, договорившись с капитаном маленького енисейского катерка, развозившего провизию геологам, поплыл по Енисею на север, через родное Подтесово, к Бахте. Бахта, поселок на берегу, да и поселком– то трудно назвать: домов шесть– семь, не больше, жмутся, как ульи на пасеке, друг к другу. Осень стояла в тот год в Сибири драгоценная. Леса горели золотым, янтарным и красным, горы мерцали ало– пестро, как яшмовая шкатулка. Жидкое золото стекало с верхушек приречных угоров, багрянец вспыхивал огнем в распадках; под ногами в тайге еще подмигивала забытая, неснятая рубиновая брусника, алели красноголовики. Осень была наброшена на Сибирь, как вышитый красными розами бабий платок – такой носила когда– то его покойная маманька. Где– то здесь, недалеко, был дом… Когда проплывали Подтесово – он спустился в кубрик, отвернулся от окна, курил. Не хотел, чтобы видели его слезы.
В Бахте он сразу же двинул в избу к Мине Рослякову. “Миня, встречай москвича!.. Вот гостинцы…” Выпили “Столичной” водки, закусили чем Бог послал: Росляков вывалил на стол все таежные богатства, все соленья и варенья. “А вот кунжа, рыбка знатная, ух, пальчики оближешь!..” Они выпили все три бутылки с Миней одни, голосили песни, Миня играл на гармошке, не попадая пьяными пальцами в клавиши, нещадно растягивая меха. “С кем рыбалить– то собирашься?.. Со мной аль в одиночку?.. Один?.. ну– ну, гляди… А то я старовера Еремея тебе подкину, он ить бойкий старикан, шустра– а– ай… он тебя на такую рыбку наведет – закачаешься!.. На чира, на золотого осетра…”
Они все– таки пошли к Еремею. Дед встретил их на завалинке, курил трубку. Глядел на дворец осени слезящимися глазами. Договорились. Еремей сладил снасти, осмотрел лодку, кивнул Архипу. Выплыли на самую середину Енисея, на стрежень. “На стрежне рыба плохо берет, – выкряхтел старик, – давай– ка подгребем к тому бережку поближе”. Ветер рвал с берез и лиственниц золотые ошметки, продувал насквозь, до души. Холод дышал с севера. Пахло зимой. Еремей поставил снасть на осетра – длинная леска, на конце камень, к леске привязано множество крючков с насадкой. Дед размахнулся и закинул камень далеко в воду. “Сейчас посидим, перекурим, и, даст Бог, дело пойдет”.
Ждали час или больше. Колокольчик на леске зазвенел. Еремей вздрогнул, уцепился за леску сухими узловатыми пальцами, похожими на корешки хрена, стал тянуть. Рыбина большая ухватила крюк. Когда над водой показались колючки на темной спине и острая акулья морда, Архип радостно закричал: “Осе– о– отр! Тяни!” Он перехватил леску у старика. Вдвоем они тянули упирающуюся, мечущуюся в холодной воде рыбу. Это было упоительно. Он никогда не забудет ощущения живого сильного тела, которое бьется, хочет жить, и ты борешься с ним – и побеждаешь.
Они затащили осетра в моторку. Кинули на дно. Осетр и вправду был огромен – великолепный, страшный, как рыцарь в латах. “Древняя рыбища, – уважительно сказал Еремей и потрогал большим пальцем костяную щеку осетра, – все делает, и дышит, и разговаривает. Как человек. И размером с человека. Ну, поохотились. В Бахте разговору об нас будет!..” Больше ловить не стали – надо было разделывать осетра, даже на холоду он портился быстро, а Еремей сказал, важно поднимая черный прокуренный палец, что в снулой рыбе образуется смертельный яд, ее есть нельзя. Вернулись с победой. Доволокли добычу под жабры в избу к Еремею. Архип огляделся. О как знакомы ему были такие избы! Изба вся – из одной комнаты: тут и спят, тут и едят, тут и снасти чинят. Черные бревна дышали сыростью, старостью. Под потолком болталась лампочка без абажура. “Лампочка Ильича”, – насмешливо подумал Архип. По стенам висели желтые и коричневые старые фотографии. Потолок был оклеен газетами сорокалетней давности, тоже желтыми, как воск. На строганом, без скатерти и клеенки, столе стоял граненый стакан, лежала синяя коробка спичек, серела крупная соль в поллитровой банке. Разношенные сапоги около печки. Драный собаками тулуп на гвозде в углу. “Как ты живешь тут, дед Еремей?” – со сдавленным внезапно горлом спросил он. “Пес его знат, паря, – старик почесал затылок, поглядел на рыбу, разложенную на полу на мокрой тряпке. –Так вот и живу! Хлеб в Бахту не всякий раз катера завозят, накуплю впрок, сухарей насушу…” – “А родные– то у тебя какие есть?” – “Есть, а как же, есть. В Красноярске кто, кто – в Якутске… один мой пацан погиб, на этой, как ее, китайской границе… давно уж… Про остров Даманский слыхал?.. Ну вот там и сгинул…” – “А что же тебе дети не помогают?” Архип глянул на коричневую фотографию у печки. Маленькая женщина, лицо суровое, губы сжаты, в валенках. Наверное, жена. “Кто бы им самим помог! – Старик сморщился, губы его затряслись, он замахал рукой, отгоняя от себя навернувшиеся слезы, как отгоняют мух. – Бедствуют ребята, бедствуют! То на одну работу сунутся, то на другую… Витька пытался дело открыть – прогорел к чертям… В тюрягу загремел… Выпустили… Младший, Ванька, в Якутске с семьей… Трое у него… На трех работах пашет – а деньгов все нету, еле концы с концами с бабой сводят… Хоть воруй иди, твою мать! А может, и пойдут! Витька вон после тюрьмы обозленный такой, пишет письма: автомат раздобуду, на жирных пойду, всех пришью к лешему… Такие– то дела, сынок… А ты говоришь – помогать… Не– е– ет… Бог помогает… Человек, помоги себе сам – и весь тут сказ!..”
Еремей поднял голову и широко перекрестился на темный, прокопченный образ Богородицы, висевший в красном углу над столом. Архип скрипнул зубами. Нищета. Русь. Пустая изба. Сколько таких стариков по России в покинутых селах. “Мы выдернем тебя, Еремка, и таких, как ты, из нищеты. Мы будем воевать. Мы, как твой Витька, возьмем автоматы в руки”. Еремей глянул на Архипа остро, вдруг – завлекательно– хитро. “Автома– а– аты?..Это ж дороге удовольствие, автомат. Где денежек на оружие возьмете? Аль у вас все серьезно?.. Выпить, говорю, у тебя ничего нету?..” Архип достал из куртки припасенную бутылку, привезенную из Москвы. “Это ж надо, а, “Гжелка” называется!.. Впервой такую вижу… Забирает?..” – “Еще как забирает, дед. Завтра утром на рыбалку не встанешь”.
Они разделывали осетра, варили уху, Архип нанес дров из стайки, растопил подпечек, бросал в варево соль и лавровый лист. Аромат драгоценной рыбы гулял по избе. “Да ить беда, рыбнадзор то и дело шастает по реке, это нам с тобой нынче повезло, не спымали нас, как того осетра”. Хлеба у старика не водилось, одни сухари. Архип пожалел, что не захватил с собой из Москвы в самолет рюкзак с хлебом. Еремей опьянел быстро, рука его дрожала, протягиваясь к рюмке, нос и глаза быстро покраснели. “Ух, вкусно!.. За бутылку – удавлюсь, ей– Богу… Люблю я это дело… Тут у нас одно веселье – зелье… А что, что, ну вот ты мне скажи, как бороться– то будете?.. Народ перебьете?..”
“Перебить – слишком просто”, – Архип опрокинул в рот граненый стакашек водки и потянулся вилкой к куску разложенной на доске, дымящейся осетрины. Он жевал осетрину и смотрел в окно. Золото укрывало угоры и лощины, золото рвалось ветром в нестерпимо– синей вышине. “Смертельная красота”, – подумал он. Будто церковной парчой все накрыто. Перебить, говорит Еремей. Если бы все решалось так быстро! Убил того, кто мешает тебе жить, – и будь счастлив?!
Хайдер приводил им примеры из истории. Хайдер говорил об Иване Грозном. Об армянской резне 1915 года. О геноциде Пол Пота. О Варфоломеевской ночи. О Хрустальной ночи в Германии. О сталинских лагерях. Хайдер говорил о том, что войны и геноцид очищают генофонд, поворачивают колесо истории, освобождают человечество от шлаков, от явлений застоя. Хайдер рубил рукой воздух, лицо его горело вдохновением, жесткое, властное, и они глядели на него и верили ему.
Хрустальная ночь. Это было. И это – будет?!
Все, что было, будет когда– нибудь снова.
Будет Хрустальный год. Будет Хрустальный век.
Новый век, мы должны отпить из тебя, как из хрустального бокала. Темно– красный, сладко– соленый, пьянящий напиток – наш.
Они с Еремеем уснули поздно, за полночь. Старик уложил его на печке. Архип долго не мог уснуть, слышал, как старик, стоя на коленях, косноязычно, пьяно молится перед иконой, бормочет, просит, умоляет, плачет. Старик молил для всех, и для себя, и для детей, и для народа, и для него, Архипа, – счастья, конечно. Но старовер не знал, что такое счастье. Он не знал его никогда. Поэтому бросил молиться о счастье и стал молиться о том, чтобы крупная рыба всегда в сети шла.
– Ты глуп, Баскаков. Бороться надо не твоим кустарным способом. Ты мыслишь категориями прошлых лет. Просто твой метод – лобовой метод. Есть другие.
– Какие же, Хайдер?.. Ну– ка назови!
Кудлатый высокий, крепкоплечий мужчина с яростным смуглым, в оспинах, лицом откинулся на спинку стула, и стул под ним чуть не сломался. По его корявому лицу, кроме оспинных вмятин, еще бежали и шрамы – один вдоль правой щеки, ножевой, другой – белой морской звездой – рваный, на подбородке. Огромные карие бешеные глаза глядели, как с иконы византийского письма. Мужчина расстегнул пуговицу на воротнике гимнастерки и сухо, будто утка крякала на озере, захохотал.
– Ты можешь смеяться сколько угодно, Ростислав. Смеется тот, кто смеется последним, тебе это известно. Я не буду сейчас раскрывать тебе все карты. У меня должно быть мое ноу– хау, не так ли? Скажу тебе одно: на выборах, через четыре года или через восемь лет, это уже неважно, электорат выберет меня. Меня – или другого из наших, который окажется умнее, чем я.
– А о себе ты думаешь, что умней тебя быть невозможно?
– Невозможно. – Говоривший улыбнулся. – Как ты думаешь, Саша, ведь невозможно, правда?
– Невозможно, – весело согласился высокий, плотный парень с бритой головой, в темных маленьких круглых очках, с вывернутой, будто заячьей, губой. На голом черепе уже отрастала колючая темная щетина. – Ты прекрасен, спору нет, Хайдер. И умен. Что бы ты делал без меня, а? Без меня, кто сделал тебя, собаку, таким умным?!
Саша расхохотался. Тот, кого называли Хайдером, рассмеялся тоже, хлопнул Сашу по плечу. Круглое, сытое, скуластое, крепкой лепки, лицо смеялось. Смеялись чуть косо стоявшие, с татарчинкой, светлые глаза. Смеялся выдвинутый вперед властный подбородок. Смеялись крепкие, жесткие, как у скульптуры, мощные, ораторские губы. Смеялся, ходуном ходил кадык на могучей шее. Ворот черной рубахи расстегнулся, и на ключицах подпрыгивал, смеялся медный нательный крест.
– Ну да, Деготь, без тебя я бы был – ничто! – отдышавшись, бросил он. – Что такое вождь без философа? Идея первична, не так ли, партайгеноссе Деготь?
– Хорошо, – Баскаков не успокаивался. Вертел в руках сигарету. Не закуривал. Нервно прыгала верхняя губа, тик колыхал шрам на подбородке. – Хорошо, скажите же мне тогда, какими все– таки путями вы собираетесь привести Фюрера к победе? Времена, когда народ верил лозунгам и слоганам, давно прошли! Я, как старый солдат, прошедший Афган и Чечню, говорю вам точно: наши действия – война! Сугубо – война! Это – мое дело. Я считаю, что времена выступлений, маршей, шествий и демонстраций в Москве и других городах под знаменами с Кельтским Крестом и с иными штандартами, какими хотите, тоже – давно прошли! Вы считаете, скинхеды – неуправляемые?! Да я покажу вам, что еще как управляемые! Надо только создать жесткую иерархию внутри самих объединений и группировок! Они – пока что – анархичны! И ты, Хайдер, что греха таить… – Баскаков сглотнул слюну, расстегнул еще одну пуговку на гимнастерке. – Ты, согласись, ты еще не совсем Фюрер. Ты только называешь себя им. Тебя же никто не знает.
– А я и не стремлюсь к тому, чтобы меня узнали завтра. – Хайдер улыбнулся, расправил широкие, мощные плечи, сладко потянулся, зевая, и рубаха чуть не треснула по швам. – Мне даже надо, чтобы я какое– то время побыл в подполье. Время подполья – всегда самое драгоценное время для того, кто хочет победить. Разве нет? Вспомните историю, уважаемые. Ничто не делается нахрапом! Если тебе хочется повоевать, Слава, – ступай снова на Кавказ! Там еще долго, ой как долго будут стрелять.
Баскаков, зло провертев раза два– три колесико зажигалки, наконец добыл огонь и закурил, глубоко втягивая щеки, как чахоточный в приступе кашля. Хайдер закурил тоже. Опыт тиранов, опыт деспотов, да, важный опыт. Но ведь и тираны ошибались. Они – не безгрешны. Непогрешимых царей нет. Вождь – гораздо более мобильная фигура, чем застывший на троне тиран. Тиран боится потерять власть. Вождь, фюрер ничего не боится. Они все зовут его: unser schwarze Fuhrer, наш Черный Вождь. Черный Ярл. Так звали могучих скандинавских вождей. Ярл – Ярило – Солнце. Он еще взойдет, как солнце. Он еще засияет. И сожжет огнем тех, кому суждено сгореть. И обласкает отверженных. Людей своего народа. Своей расы. И – только своей.
– Чингисхан, – сказал он, выпуская дым, улыбаясь, из– за дыма следя, как нервничает Баскаков, как, не глядя, ссыпает пепел под ноги, хотя на столе стояла пепельница. На старом школьном столе. – Чингисхан, вот кто знал хорошо, что к чему.
Они сидели в здании заброшенной, покинутой детьми и учителями школы, на втором этаже, в бывшем классе биологии – пособия с изображенным человеком, с которого содрана кожа, оплетенного кровеносными сосудами и синими жилами, со всеми потрохами наружу, еще висели, неснятые, на гвоздях у классной доски. Хайдер всегда быстро подбирал то, что плохо лежит. Он за копейки арендовал брошенное советское здание у администрации маленького подмосковного городка. Мэром городка была женщина. Она быстро подпала под могучее мужское обаяние Хайдера. “А что вы тут будете делать, позвольте спросить?..” – мэрша улыбнулась, подняв мордочку, как киска, и осторожно притронулась рукой к рукаву черной рубахи Хайдера. “Не позволю”, – так же мило ответил он и взял мэршу за руку внаглую, открыто, привлек к себе. Вопросов дама больше не задавала. В кабинете они были одни.
Назавтра пустующая школа оказалась в их распоряжении. Деньги за аренду Хайдер перевел милой даме сразу за весь год.
– Если мне надо – и пойду, и постреляю, – зло кинул Баскаков, дымя, как Сивка– бурка, выпуская дым из ноздрей. – Мы все прекрасно знаем, Фюрер, какие деньги стоят за этой войной.
– И чьи деньги, самое главное, – уточнил Хайдер. Обернулся к Александру. – Ну что, Деготь? Наш Рим продолжается? Сколько сегодня завербовано нашими верными легионерами?
– Без счета, Ингвар. Без счета! – Деготь радостно блеснул кругляшами черных очков, ткнул пальцем в переносицу. – Даже боюсь тебе всех перечислять… ряды растут! В Ульяновске очень много скинхедов… в Тольятти… там, в Тольятти, они беспощадно бьют рэпперов…
– Ну, это молодежные разборки, – Хайдер поморщился, поглядел в черное ночное окно. – Это ерунда. Рэпперы бьют скинов, скины рэпперов, их вместе бьют гопники, потом приваливают на мотоциклах байкеры и бьют всех, кого ни попадя. Молодежные войны были и будут всегда. Пацаны бьют друг друга только за то, что у тебя не такие штаны, как у меня, и ты любишь поганого гея Эминема, а не патриотический “Коловрат” и не “Реванш”, черт побери. Я не о пристрастиях. Это все оспа. Это грипп. Это с ними пройдет. Важно, чтобы НАШЕ – не прошло. Мне нужна организация скинхедов. И хорошая организация. Правильная. Кто будет ею заниматься? И каковы прогнозы по стране, Деготь?
– Прогнозы великолепные, – Саша осклабился. На пухлых щеках вспрыгнули ямочки, как у девушки. – Все делаем без истерики. Молодые наши ребята, тем, кому по двадцать и больше, ну, так скажем, от двадцати до тридцати, берут руководство в свои руки. Приветствуют любое проявление жестокости, но не необузданное и стихийное, а целенаправленное. Народ, в общей своей массе, должен понять: есть сила. Есть сила, которая, если она выступит организованно, в одночасье может перевернуть всю создавшуюся на сегодняшний день здесь и сейчас картину мира. И те, кто не является арийцами, призадумаются.
– Они просто убегут из страны! – истерически крикнул Баскаков сквозь густой табачный фимиам, и длинный шрам у него вдоль щеки дернулся.
– Если бы! Это было бы слишком простое решение вопроса. Если бы они после двух– трех мощных выступлений скинов на вокзалах, на рынках, в метро, в кинотеатрах, в местах скопления людей что– нибудь, наконец, поняли – и стали бы собирать чемоданы, я бы, знаете, ребята, возблагодарил Господа. И борьба тогда была бы уже не нужна. Наша борьба, которую мы ведем. Они именно не убегут! И я не имею в виду люмпенов. Ну, всех простых черножопых и торговых чурок. Я имею в виду высокопоставленных черных. Тех черных, которые держат руль. Которые – у власти. Они плевать хотели на нашу силу, ибо они тоже обладают силой. И в столкновении этих двух сил и заключен секрет нашей нынешней войны. Так– то, Баскаков.
В окна класса биологии черными, широко распахнутыми глазами глядела зимняя ночь. Человек с содранной кожей, перенесенный на огромный плакат из анатомического атласа, глядел на троих, сидевших вокруг стола, красным страшным кричащим лицом.
– Ну хорошо. – Баскаков кинул окурок на пол, раздавил сапогом. – И как ты думаешь, как имя той силы, которой обладают они?
– Ты знаешь.
– Что ты мне, как Христос: ты сказал!
– Деньги, конечно. Деньги, Баскаков. Большие деньги. Огромные деньги. У нас с тобой таких денег пока нет.
Черным платком упало тяжелое, длинное молчание. Молчали все трое. Деготь то и дело указательным пальцем поправлял очки, сползавшие с потного носа. Трое думали. Три головы – не одна. Все великие дела всегда делала небольшая горстка людей, весело подумал Хайдер. Ингвар Хайдер – Игорь Хатов. Он нарочно переделал имя на скандинавский, на кельтский, на германский лад, чтобы не только чувствовать себя тевтонцем и воином, но чтобы передать подчиненным ту силу, которой обладал сам. Деньги? Чепуха. Деньги приходят, деньги гибнут, взрываются, горят. Люди, у которых в руках большие деньги, на самом деле ими не обладают. Ибо деньги – та материя, что постоянно в призрачном движении. Если у него вдруг окажутся в руках такие деньги, на которые он смог бы купить всю Россию, он не колеблясь сделает это. Но он купит Россию не для себя. Он купит Россию – ей же самой – в подарок. Но только ей! А не Израилю! Не Африке! Не мусульманскому полумесяцу!
“Врешь ты все себе, Хайдер. Себе ты купишь Россию. Себе. Себе– то хоть не ври, мужик. Им – можешь головы дурить сколько угодно. Власть нужна тебе и только тебе”.
Перо скрипело. Перо медленно, упорно выводило текст.
“Россия прежде всего. Россия над всем. Разве мы – не избранная нация, призванная осуществить то, что осуществить может только она – и более никто другой в мире? Россия – вершина. Пусть половина нации ест, пьет и спит в грязи – это не вина народа. Это вина тех, кто над ним. Ах, Федор Михайлович, как Вы были правы, когда Вы писали и говорили: русский народ – народ– богоносец! А что представители этого народа били своих детей, убивали своих поэтов, расстреливали своих крестьян – так это все болезни нации. БОЛЕЗНИ НАЦИИ. Почему нация не может болеть, как человек? Почему народ не может болеть, как человек? Но ведь от болезней вылечиваются. Вылечиваются, слава Богу!
Западная цивилизация – опасная цивилизация. Это сифилис, черная оспа и новый СПИД, что несет человечеству вымирание, если Запад возьмет верх над Востоком. Но и Восток не весь безопасен. Внутри Востока есть гнойные раны и воспаленные язвы. Быть может, Азию, все азийское полушарие, против Запада и поведет Россия, Русский Бог. С Россией – с нами – Бог.
С нами – Бог, слышишь ли ты это, мир!
И у нас есть Вождь. Как давно у нас не было Вождя! Наш Вождь сочетает в себе силу древнего героя и ум современного политического мыслителя, отвагу юного бойца и холодную мудрость опытного мужа. Наш Вождь – истинный ариец, представитель ариев, какими они были, когда проходили долгий, многовековой мучительный и торжественный путь от гаваней Гипербореи до предгорий Инда, от подножий священных Гималаев – до безбрежных степей и равнин Борисфена и Танаиса. Арии, наши предки, шли из Индии через великий Аркаим сюда, на Запад. Улыбка Азии озаряла Запад. Земли ложились к ногам ариев, к ногам белой расы. Это были наши с вами предки, россияне! И то, что мы с вами забыли это – наш грех, наша беда, наш нынешний ужас.
Предстоит новый ужас. Ужас борьбы. Ужас войны. Я это вижу и чувствую, иначе я не был бы философом. Быть русским философом в наши времена, уважаемые, – это все равно что добровольно класть голову на плаху. Мне еще нужна моя голова. Но я прекрасно вижу плаху, вижу палача, и вижу, что моя голова дана мне для того, чтобы думать, глаза, чтобы видеть, а рот, чтобы говорить. И я говорю: скоро придет Час России. Все, что было с Россией в минувшем, двадцатом веке, – это было не с Россией. Это было с некоей другой страной, насильственно возникшей на ее месте. Но ростки истинной России прорастали. И наконец они сплотились, восстали в молодую горячую поросль. Наши молодые ждут и ищут. Наши молодые негодуют, сопротивляются, восстают. Что ж, так должно быть. Не бойтесь жестокости. Без жестокости, без ярости мы не сделаем того, что надо сделать: вернуть не только Россию – русским, но и русских – России.
Вперед, юные! С нами – Бог!
С вами – Бог!”
Человек оторвал ручку от бумаги. Витиеватый, манерно– старинный почерк убористо заполнил большой лист, занимавший полстола. Слишком просто для философской статьи? Слишком сложно для боевого обращения, воззвания? Человек прищурился. Ничего, и так проглотят. Неважно, как сказано. Важно – что. И кем. И – вовремя ли.
Он закрыл глаза, и перед его закрытыми глазами появилось лицо Вождя. Широкие скулы, короткая военная стрижка, победительная улыбка. Римский воин. Сулла. Нерон. Нет, дикий гунн. Аттила. Чингисхан. Да, и неуловимая, странная раскосинка в нем есть. О какой чистоте крови он говорит, если по всем русским в свое время прошлась монгольская гребенка? Та железная гребенка, которой расчесывали гривы и хвосты степных коней… Вождь был бы изумительным всадником. Ему бы так пошло скакать на лошади. Умный. Холодный. Без истерики. Насмешливый. Жесткий. Надменный. Веселый. А на самом дне глаз, на самом неуследимом дне, – чисто русское, страшное безумие, в одночасье сметающее весь холодный рациональный расчет.
Да, скоро, скоро наступят интересные времена. Россия – не только страна безумств. Россия – страна, наигравшаяся досыта игрушкой под названием “СВОБОДА”. Ей теперь нужна другая цацка. Под названием “ПОРЯДОК”. Если в России не будет порядка – она сойдет с рельсов гораздо скорее, чем это можно предполагать.
Человек, щурясь на свет старинной зеленой лампы, медленно сложил листок бумаги вдвое, потом вчетверо, потом подумал и сложил еще. Медленно затолкал в карман пиджака. Завтра он отдаст статью Вождю. И завтра же поедет в Серпухов. С заданием.
А теперь – спать.
Человек поднялся из– за стола, глянул на барометр, украшенный деревянной оленьей головой с ветвистыми рогами. Старый дедовский барометр показывал “БУРЮ”. Да, верно, будет буря. Будет, будет.
Он повернулся и вышел из кабинета, плотно притворив дверь.
Человека звали Денис Васильевич Васильчиков.
С Ростом Баскаковым, с Сашкой Дегтем и с Хайдером они шли в одной упряжке.
… … …
– Выпей капли, Ада. И не трясись. Прекрати трястись, я тебе говорю! Ну! – Он дрожащими руками накапал, вернее, не глядя, налил в рюмку валокормид, разбавил водой из графина, протянул красивой пожилой женщине с корзиной седых, когда– то роскошных кос вокруг головы. – Ефим не из тех, кто дает себя в обиду. Ефим защитится, в случае чего. Я, я готов его защитить, я сам, говорят же тебе!
Седая женщина с горделивым, царским лицом мучительно, преодолевая слезные спазмы в горле, глотала капли. Подняла глаза на мужа. Жалобно посмотрела.
– Жорочка, еще… Дай мне ударную дозу…
– Вон еще! Выдумала! Ударную дозу ей! Все трудишься ударно, да?! Вечная стахановка, и тут тебе удары подавай! Хватит! Сейчас подействует! Лекарственный шок, между прочим, может наступить и от передозировки такой вот ерунды! – Он раздраженно кивнул на пузырек валокормида. – Остынь! Я тебе обещаю… я клянусь тебе – ничего плохого не случится!
Он только что явился с работы. Он устал. Чем он занимался на работе? Перекачкой денег? Переделкой мира? Он до сих пор помнит тот день, когда в России обвалился доллар. Это он, он сам приложил руку к этому обвалу. И ничего, все безнаказанно проехало. Он не загремел в каталажку. Он не опростоволосился перед финансовым миром планеты. Концы были надежно спрятаны в воду. А Россия сама – о, это такая текучая вода… Все тонет в ней, тонет безвозвратно…
“Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, событья, мечты, корабли…” – ни к селу ни к городу вспомнилась ему строчка из стихотворения давно умершего поэта. Сегодня утром, еще до звонка Ефима, стоя перед зеркалом в ванной и бреясь, он поглядел на свою голую, оплывшую, волосатую грудь и заметил, что странно, пугающе почернели нательный крест и цепочка. Почему, к чему бы это, – подумал он, – ан все и прояснилось: когда он ехал в банк в машине, раздался “Свадебный марш” Мендельсона, он выдернул сотовый из кармана – и услышал в трубке спокойный, слишком спокойный голос сына. “Батюшка, дело плохо. Меня шантажируют по большому счету. Подослали какого– то урода. Черт знает кого. Платить им деньги или нет? Как скажешь. Или ты мне приставишь хороших бодигардов? Парочку, троечку? Как Президенту? Подумай. Перезвоню”. Отбой. Он даже не стал дожидаться ответа. Наглец.
“Я ж уношу в свое странствие странствий лучшее из наваждений земли…” Черт, привязались стишки. Лучшее из наваждений земли! Уж не Адочка ли была для него когда– то лучшим из наваждений земли? Быть может, но это время давно прошло. Они были вместе уже черт знает сколько лет. Она привыкла к роли царственной супруги мощного магната. Он, владелец самолетной компании, владелец фондов, банков, трестов, соучредитель знаменитого на всю страну алюминиевого концерна “Стар”, он, купивший популярный издательский дом “Предприниматель”, “Свежую газету”, издательства “Гермес” и “Аполлон”, он, которому подчинялось свыше трехсот отделений двух его главных акционерных компаний, он, скупивший десять типографий и несколько крупных издательств в Западной Европе и в Америке; он, владеющий пакетом акций ОРТ и издательским комплексом в Швейцарии, – что он считал теперь, сейчас лучшим из наваждений земли? Что бы он взял с собою отсюда – в Последнюю Дорогу?
– Адочка, – сказал он внезапно потеплевшим голосом и вынул у нее из холодных узких пальцев рюмку, – Адочка, ну не убивайся ты так… Ничего же не случилось. Ровным счетом ничего. Мы просто с тобой давненько не катались на нашей яхточке. На нашей славной, чудесной, замечательной яхточке. На “Тезее”. Вот выберем время… недельку… и отдохнем. А Фимка за это время сошьет себе бронежилет. У лучшего портного закажет! В лучшем салоне! У Гуччи… Ну не плачь же ты, я сейчас сам заплачу!
Слезы – было самое надежное, что могла придумать женщина. Она это и придумала. Ариадна Филипповна, жена магната Елагина, урожденная Андреева– Дельмас, надменная седая красавица в свои уже Бог знает сколько лет, и судя по тонким точеным, породистым чертам лица – потомственная дворянка, горько плакала, откинувшись на спинку кресла, утирая слезы кружевным платочком, вынутым из кармана шелкового домашнего халата. Дубина Ефим! И матери успел позвонить. Ну неужели не догадался промолчать! Через неделю– другую сын с отцом все это сами бы уладили. Он, Георгий Елагин, вычислил бы шантажиста, нанял бы хорошего, опытного киллера, и – делу конец. А кто стрелял – молодец.
– Цирк, – всхлипывая, выстонала Ариадна Филипповна. – Ты представь, урод какой– то. Господи, ужас, ужас. Ты обратил внимание, – она высморкалась в голландские кружева, – что сейчас на улицах вообще все меньше красивых людей? Что их почти нет?
– Ты у меня самая красивая. – Он наклонился и поцеловал ее в серебряный пробор. – Лучше тебя нет. Ты мое… – Он помолчал. – Лучшее из наваждений земли.
Когда он выпрямился, на его губах играла тонкая, неуловимо– издевательская усмешка.
… … …
Цок– цок. Стучат каблучки. Цок– цок.
Модельные туфли от Армани. Цвета брусники. Цвета крови.
Цок– цок. Женская палата. Вот она.
Открыть дверь. Войти. Быстро нашарить глазами ее койку. Койку новенькой. Ту, которую привезли сегодня утром.
Сумасшедшая девочка– грузинка. Лия Цхакая. Привезли прямехонько из Тбилиси. Зачем сюда? В Москву? Будто бы в Грузии спецбольниц нет? И потом, отношения между нашими загадочными странами… Она оборвала мысли. Всмотрелась в лицо девушки, неподвижно лежавшей на койке поверх застеленного одеяла. Девушка уже была переодета в больничный халат, продранный и штопанный на локтях. На ногах у нее не было ни чулок, ни носков. Ступни посинели от холода. Да, холодновато в палатах, раздула она ноздри. Ничего, холод способствует работе мысли.
Сумасшедшая? Она усмехнулась. Полчаса назад она прочитала всю историю болезни плюс секретный код. Тот, кто привез сюда Цхакая, передал ей на словах: опасная экстремистка, связана с движением “Neue Rechte”, с опальным публицистом Дегтем, апологетом движения. Девка к тому же поэт. Поэты, сами понимаете, люди непростые. Властители дум! “Песни на тексты этой козявки, – кивнул посланник возмущенно на бездвижное худенькое тело на кровати, – по всей стране уже поют! А тексты, я вам скажу, доктор, неслабенькие! К истории подшиты… ознакомьтесь… может, вы и сами уже где– нибудь слышали…”
Она остановилась около ее койки. Красивенькое личико. Густые ресницы, синие от недосыпания веки прикрывают огромные, должно быть, глаза. Про такие говорят: глаза по плошке. Коса, густая, черная, развилась, пряди вились по подушке, разметались по простыне. “Косу повыдерут и товарки, и санитары”, – отчего– то сладко– садистски подумалось ей. Она наклонилась, всмотрелась в спящую. На бледном личике были заметны маленькие, тонкие, будто сделанные перочинным ножом, шрамы. Царевна в шрамах. Изрезали нарочно? Пытали? Или это обрядовая инициация? Или просто стекло разбилось, зеркало упало и изранило ее, бедняжку?..
Спит? Без сознания? Для перелета и насильственной транспортировки запросто могли накачать чем– то успокаивающим… снотворным. Сытина наклонилась ниже и легонько похлопала девушку по щеке.
Глаза открылись. И впрямь огромные, дегтярно– черные, без дна. Две угольные топки.
– Где… я?..
– В больнице.
– Меня… вылечат?..
– Вылечат.
Ангелина усмехнулась. Вылечат, как же, держи карман шире. Вырваться из спецбольницы – все равно что родиться во второй раз. Она рассмотрела: шрамы свежие, вспухшие, недавно зажили вторичным натяжением. “Порезы бритвой”, – наконец догадалась она. Лия подняла к лицу руку. Потрогала шрамы пальцами. Болезненно, страдальчески поморщилась.
– Зеркало… Дайте зеркало!..
Сытина, улыбнувшись, вынула из кармана халата круглое зеркальце. Протянула девушке. С усмешкой глядела, как девчонка белеет от ужаса, плачет, трогая, поглаживая шрамы.
– Боже!.. Боже!.. Боже!.. Гмерто!..
– Ну как? – Голос Сытиной стал внезапно ледяным и острым, как хирургический скальпель. – Будем называть явки экстремистов в Грузии и в Москве? Или в ягненочка будем играть и дальше?
Ужас в глазах девочки дал ей понять, что пуля попала в цель. Чеканя слоги, Ангелина выговорила тихо, наклонясь над больной совсем низко, будто делала искусственное дыхание “рот в рот”:
– Учти, если покусишься на самоубийство, тебя спасут, здесь вытаскивают с того света не таких, как ты, но зато будут убивать медленно, но верно. Способов мы знаем много.
Она выпрямилась. Повернулась. Пошла прочь из палаты.
Цок– цок. Цок– цок, каблучки. Интересно, что такое “гмерто”?
А Косов называет кавказцев – “чурками”.
Эта девочка – не чурка. Эта девочка – принцесса.
Принцесса– экстремистка? Быстро же у нее отросли косы в тюрьме.
Завтра же она прикажет ее обрить.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
“Лия Цхакая, ученица грузинского философа Мамардашвили, сама – философ, философский факультет Тбилисского государственного университета. Дипломная работа – “Антропология мифа”. В Тбилиси знакомится с Александром Дегтем. Становится ультраправой по взглядам и убеждениям. В издательстве “Арктида” в Москве издает тоненькую книжку, брошюрку под названием “Волк. Ночь. Лилит” – о крушении исторических эпох и о неизбежном приходе – через Насилие – новой Силы, способной управлять людьми. Незаурядный поэт. Пишет и распространяет стихи: рукописи, публикации, Интернет. На ее тексты байкеры Хирурга сочиняют и поют песни. Рок– группа Таракана “Реванш” поет популярные песни на стихи Цхакая – “Наши идут”, “Возмездие”, “Кельтский крест”. В Тбилиси у Цхакая пожилая мать. Цхакая взяли в Тбилиси прямо с подпольного, организованного спонсорами – сторонниками движения “Neue Rechte” рок– концерта, где группа “Волки ночи” исполняла песни с ее текстами. Скинхеды повсеместно поют ее песни. В свое время брила голову, как это делают все скинхеды. В тюрьме в Тбилиси провела в общей сложности девять месяцев. Направлена в Московскую психиатрическую спецбольницу по распоряжению МВД России и Правительства Грузии”.
Когда Архипа снова вели на ЭШТ, он наткнулся взглядом в коридоре на бритую девушку, которую два дюжих санитара вели по коридору навстречу ему. Нет, не из двадцатой комнаты. Из двадцатой – везут на каталке. И сгружают на койку, как мешок с камнями. Девушка шла своими ногами, испуганно, будто зверек, взглядывая вверх, исподлобья. Архип вздрогнул от черного удара ее глаз. Господи, какие огромные глаза! Нечеловеческие. У людей таких не бывает. Как… как у Спаса с хоругви, с образа в церкви…
Лысая голова девушки. Бритая его голова. Они оба, переглянувшись, усмехнулись.
Они по глазам – не по головам – поняли, увидели друг друга: “Мы одной крови, ты и я”.
Лия остановилась около двери в женский туалет. Просительно посмотрела на санитаров. Те ухмыльнулись. Она скользнула в дверь туалета.
Его подтолкнул в спину санитар Андрюха: иди, иди, изголодался, небось, по хорошей порции тока!
Боль. Красная боль.
Он никогда не думал, что боль – красного цвета.
Нет, он так думал всегда.
Что это плывет там? Огромное, круглое, красное?
Это его боль плывет. Она наплывает и заслоняет ночь. Она заполняет собой мир.
Боль встает нимбом над его головой. И он смеется над собой, хохочет во все горло: смотрите– ка, а я и вправду святой, но я же никакой не святой, я преступник, я же убил, я убил! Я убил железной цепью человека! Я бил его, убивал его – уже мертвого! И я убил не только его одного! А скольких?! Я не помню!
Но я же убивал во имя! Я убивал во имя добра! Во имя справедливости! Во имя порядка!
Зачем вы казните меня– а– а– а?!
Красная боль.
Красная Луна в окне.
ПРОВАЛ
Ночь. Та вода, что была утром и днем – чистой, прозрачной, сапфировой, изумрудно– голубой, нынче, во мраке, – сине– черная, непроглядная.
У его ног плещет Байкал.
Байкал у ног, и они – юные. Он кичится тем, что он – круглый сирота. Кто как сюда попал, сбился в стаю. Кого родители кинули в детдом. У кого – их вообще не было: так себя и помнили всю крохотную жизнешку под забором. Кто из дому сбежал, из хорошего, теплого дома: воспротивился уюту, укладу, ханжеству, скуке, приключений захотелось, жизни взрослой, большой. Из Красноярска они добрались сюда, на озеро– море. “Славное море, свя– а– ащенный Байка– а– ал!..” – голосили они, напившись пива под завязку, на берегу, у перевернутых смоленых рыбачьих лодок. Луна в небе стояла с чуть красноватым оттенком, как апельсин, как новогодний мандарин. В Сибири не редкость красная Луна, особенно – осенью. Сентябрь, стоял сентябрь, и кедры гудели над Байкалом глухо, как гудит басом в храме наряженный в парчу митрополит: “Миром Господу помо– о– олимся!..” После пива они все, бритые, курили травку. Все тут были – и Зубр, и Ефа, и Оська Фарада по прозвищу Композитор, и крутой наци– скин, Черный Ворон, Алекс Люкс, позже он станет правой рукой Хайдера; и Сокол, друг Хирурга, здесь был; были и сибиряки, красноярцы и новосибирцы – Зуммер, Автоген, Крестьянин, Артем; и Уродец тут тоже был, среди них, великий Чек, ну как же без Чека, Чек – душа компании, ну и рожа у него, посмотришь – обхохочешься. И тот, отличный парень, классный мужик, тоже с ними тогда был – парень по кличке У– 2, и слухи ходили, что именно он, У– 2, и возглавляет Азиатское Движение – ультраправое движение Восточной Сибири, Монголии, Северного Китая и Японии. Шептали друг другу на ухо: за У– 2 стоят большие бабки, ты с ним осторожней! Не рассерди его! Никто никого тогда не собирался сердить. Осень скатывалась золотой монетой на дно Байкала. Осень плыла в толще прозрачной черно– синей воды нежной рыбкой– голомянкой. Они все – по кругу – курили травку, это же был не наркотик, что распространяли черные пауки на рынках, не гашиш, не героин, это была всего– навсего родная травка, конопля, и ее стоило такою ночью покурить. Все становилось прозрачным. Они словно плыли в ледяной воде Байкала. Они тогда обрились впервые. Они пьянели от травки, от обретенной силы, от учений Эволы и Гитлера, от “Mein Kampf”, от близости новой войны, что сметет все на своем пути. И их тоже? Ну, их– то уж не сметет, ведь они сами эту войну родят. А что лучше, родить войну или детей?.. “Роди детей, Бес, роди трех сыновей и воспитай их воинами! Героями! И пусть они победят! Пусть победят они, если ты падешь в бою!” В карбасе, на берегу, сидела в ватнике светлокосая девчонка, копошилась в россыпях рыбы на дне карбаса, вынимала, выбирала омуля, размахнувшись, бросала его в ведро, стоявшее на берегу – везти в Иркутск, на продажу, на рынок. Серебряная, шевелящаяся, подскакивающая на дне карбаса рыба была вся – от застывшей в небе огромной Луны – розовой, алой. “Красная рыба, – шепнул он тогда, смеясь. – Хотите на спор, я эту девку заволоку в кусты, и она сегодня ночью будет моей? Без драки, без угроз, а просто я ей понравлюсь?”
“Не сомневаюсь, Бес, что ты ей понравишься. Ты ей уже понравился, – Зубр затянулся, передал косячок Уродцу. – Гляди, она уже подмигивает тебе. Спеши, скин. Миг наслажденья короток. Когда мы захватим недружественные страны и в том числе Польшу, я тебе обещаю, что у тебя будут две рабыни– полячки. И ты сможешь их насиловать, когда захочешь, и даже хлестать плетью. Послушнее будут”.
Они еще раз случайно столкнулись в коридоре. И опять – около туалета. Аммиачный запах бил в ноздри. Она улыбнулась ему губами. Глаза не улыбнулись.
Они перекинулись только двумя словами: “Ты где?..” – “А ты?..” Она показала ему на пальцах номер палаты: два пальца, пять пальцев. Двадцать пять. Вечером он, крадучись, прошел по затемненному коридору в двадцать пятую палату. Когда он вошел, он сразу увидел ее обритую голову на подушке. Она лежала и ела апельсин. О чудо, апельсин! Он сел к ней на кровать. Больная рядом с ней странно вздергивалась, вскрикивала, иногда заливалась смехом, умолкала.
– Не обращай внимания. Она несчастная. Она уже по– настоящему сошла с ума. Ее закололи. Меня тоже заколют. Они колют мне уколы, ты знаешь… – Она протянула ему недоеденный апельсин. – Ешь. Мне принесли… Ешь, не стесняйся…
Он осторожно взял апельсин. Отправил в рот. Жевал, глядел на нее. Она произнесла тихо, медленно, будто пропела:
– Свастика, наш святой крест. Свастика, норд, зюйд, вест. Свастика, вечный ост – на Восток – до звезд.
Он вздрогнул. Схватил ее за испачканную соком апельсина руку. Ого, какая крепкая рука, подумал он, даром что маленькая.
– Наша песня!.. – Он задохнулся. – Я так и знал, что ты…
– Тише, – она прижала палец к губам. Улыбнулась. – Я написала слова.
– Так ты… – Он таращился на нее во все глаза. – Так ты – Лия? Ты Цхакая?
– Ну да, глупый. Жри апельсины! – Она сунула руку под матрац. Вытащила еще один апельсин. – Деготь и Хирург прислали. Они узнали, что я здесь. Вот прислали. Думаю так, что они подкупили персонал. Потому что передачу мне передали. Обычно здесь, если тебе с воли присылают передачу, ее не передают. Мне сделали исключение. Деготь наверняка засунул бабки какой– нибудь дежурной медсестре. И главврачу. Слушай, а эта красивая бабец, ну, главврач, ну, эта стервоза, она любит деньги?.. А?.. Может, нас с тобой… выкупят?..
– Мы что, вожди?.. Мы ж обыкновенные пешки… Ну, ты – другое дело… Ты – не пешка… Ты – гений…
– К чертям твои комплименты, – сказала она уже весело и приблизила рот к его уху. – А знаешь, что еще было в пакете?.. Книги… ну да, настоящие книги!.. наши книги… Эвола – на итальянском… Я по– итальянски читаю, они знают… Поэтому и не выкинули… эти… И – еще – тетради… И ручка… И я могу писать… Понимаешь, писать!..
Ангелина любит деньги. Любит деньги? Это надо обдумать. Он не думал об этом. Он просто ждал, когда она придет к нему ночью. Он спал с ней, забывая себя и весь мир. Лия ела апельсин, очищенный им. Причмокивала. Открывала уже замусоленную, грязную тетрадь, шепотом читала ему стихи. Дергала его за руку: нет, ты послушай, послушай!
– Я волею судьбы
И днесь провижу это:
Не люди, а гробы.
Не люди, а скелеты.
Я жить – я жить хочу!
Пить волю, власть и силу!
И Смерть мне по плечу –
От люльки до могилы.
– Еще, – глухо обронил он. Музыка слов завораживала. Лия вскинула бритую голову. Далеко отсюда, за окном, прошел поезд. Перестук долго не кончался: товарный, с множеством вагонов.
– Тебе не кажется, что мы не в Москве? – шепотом спросила она. – Черт знает где мы! Слушай!
Ради нашего торжества
Я убью эту тварь и нечисть.
Я убью эту дрянь и нежить
Ради нашего торжества.
Это время – гляди! – пришло.
Коловрат по небу катится.
Подстрели меня, первую птицу,
Что вам спела: время – пришло.
Как тебе?.. – Она задохнулась, снова полезла под матрац. – О, мать твою, не апельсин!.. а мандарин… Деготь перепутал апельсин с мандарином… Купил все апельсины, и один – мандарин…
Она кинула ему маленький мандарин, будто мяч. Он поймал его и тихо спросил ее:
– Тебя водили на ЭШТ?
– Нет. Что это?
– Дерьмо это. Ты не сможешь после этого писать стихи.
– Смогу. Я всегда смогу их писать. И в гробу даже. Слушай еще, это я сегодня написала.
Эти башни рушатся, рушатся.
Эти лица, полные ужаса.
Этот дьявольский самолет,
Словно в масло – нож, войдет –
И – насквозь пробьет серый камень,
Этот каменный хрен небоскреб,
И положат меня – руками –
В нерукотворный гроб.
Что молчишь?.. Дрянь, что ли?.. А?.. Ну скажи, ты…
Он знал ее имя. Она его имени не знала. Не знала и клички. И не стремилась узнать.
– Да нет, не дрянь… Кайф…
Он покрылся холодным потом. Он вспомнил Ангелину. Сегодня ночью Ангелина была у него. Они занимались любовью на полу палаты, подстелив под себя лишь тонкую рваную простыню. Потом, поднявшись с полу, одергивая халат, застегивая подвязки – она колготки не носила, только старорежимные чулки, – она сказала ему, раздвигая губы в плохой улыбке: “Я знаю, ты пялишься на эту свою скинхедку. Попробуй только залезть к ней под пижаму”. Я не хочу никого, кроме тебя, дрожа, ответил он.
… … …
Чашечки настоящего мейссенского фарфора на изящно накрытом для легкого ужина ореховом столе поражали грациозностью и хрупкостью. Их опасно было взять в руки. Коньяк в забавной приземистой, квадратной бутылочке был не просто выдержанный – коллекционный. Такая бутылочка стоила… ох, Бог знает, сколько она стоила, да и это ли сейчас было выяснять у хозяйки? Хозяйка блистала. Цэцэг блистала всегда. Но нынче она блистала особенно. На смуглой шее сверкало, вспыхивая звездами, ожерелье в одну нить из мелких африканских алмазов из копей Берега Слоновой Кости. Такие же брильянты ослепительно сияли в маленьких смугло– розовых ушках – в пандан так же алмазно сверкающим узким глазам. “У тебя не глаза, а черные брильянты”, – говорил ей Ефим. О, Елагин умел делать комплименты. Пустячок, а приятно. Парижское, прямо из салона Андрэ с Елисейских Полей, тонкое – в кольцо продевалось свободно – платье с серебряной блестящей нитью туго обтягивало фигуру, подчеркивая все, что можно подчеркнуть. Под тонкой материей вызывающе выпирали чечевицами соски. Сквозь полупрозрачную серебристую ткань был видел пупок на впалом животе. Круглый зад соблазнял. Черные длинные волосы Цэцэг забрала частью в пучок, частью – распустила по плечам, вплетя в пряди мелкие розовые жемчужины. Домашние туфельки за две тысячи долларов, расшитые маленькими, как пылинки, брильянтиками, от того же Андрэ, ступали по коврам мягко, вкрадчиво. Кошечка Цэцэг, кусаешься ли ты? О нет, я только ласкаюсь. Ласкаюсь и мурлычу.
Цэцэг взяла маленький молочник со свежими сливками, и легкий рукав платья упал, соскользнул к плечу. Гостья напротив выставила вперед ладонь: о нет, мне со сливками не надо, мне – с лимоном! У гостьи весело сияли глаза. Они обе, хозяйка и гостья, отражались в большом зеркале гостиной. Искоса взглядывали на свои отраженья. О, они обе были обворожительны. Таких баб было в Москве поискать. Почему они не актрисы? Почему не снимут фильм с ними в главной роли? О, все еще впереди, и фильмы тоже. Александра Воннегут, ее подруга, прилетела из Парижа, где она жила постоянно, в Москву на недельку – на вернисаж, где господин Церетели представлял в своем музее скульптурный цикл ее закадычного дружка, Гавриила Судейкина: “Дети – жертвы пороков взрослых”.
– Нет, нет, дорогая, мне – никакого молока… Ненавижу… – Александра взяла пальцами из блюдечка кружок лимона, бросила в чай. – Кислое – люблю! И горькое! И соленое! Я по вкусам, наверное, грузинка…
От грузинки в Александре не было ничего, ну ни капли. Крупные завитки волос, такая кудрявая светлая, плотная золотая каска на голове. Кольца волос спускались на шею, озорно вились вдоль щек. Ярко– зеленые, озерные глаза светились изнутри, фосфоресцировали. Широкие брови вразлет – дама, судя по всему, никогда их не выщипывала, следуя известному классическому завету японки Сэй– Сенагон: “Самое печальное зрелище в мире – это когда женщина перед зеркалом по волосочку выщипывает себе брови”, – губы без помады, скулы слегка подтонированы коричневыми румянами. Большие красивые руки, скульптурная шея, скульптурно– выпуклая, вызывающе поднятая грудь. Вот с кого Судейкину надо было бы лепить богиню. Голливудские красотки, сдохните. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, сдохните сразу, на месте. Русская баба Александра Воннегут вас обскачет на всех поворотах. Интересно, участвовала ли когда– нибудь Alexandrine в этих модных конкурсах красоты? Да нет, к чему ей эта дешевая развлекаловка для молокососок. У Александры в Париже дела поважнее.
– Угораздило их, умников, Гаврилку и Церетели, а также мсье Петушкова, выставить этих уродов перед Новым годом… перед православным Рождеством!.. – Госпожа Воннегут положила себе на тарелку лобстера, облизнулась откровенно. – Ух, люблю лобстера, грешница. И ты, Цэцэгушка моя, так изумительно умеешь его готовить.
– Не говори, Александрина!.. – Цэцэг поднесла к глазам руку в жесте притворного отчаяния. – Что за странная мода на уродов! Нет, что ни говори, а я люблю красоту. И в искусстве. И в драгоценностях. И в шмотках. И в мужчинах.
– И в женщинах?
Вопрос прозвучал щебечуще, невинно. Цэцэг мило улыбнулась. Вспыхнула. Горничной сегодня не было – она услала ее, когда та искусно накрыла на стол. Она сама взяла откупоренную бутылку, разлила по бокалам коньяк.
– Или ты, подруга, предпочитаешь что– нибудь полегче?.. Мускат “Анже”?..
Александра чуть приподняла углы губ. Яркие, сочные губы. Хочется укусить. Выпить. Брызнет сок.
– Нет. Твой коньяк так хорошо пахнет. Как ты сама.
Спину Цэцэг под платьем обдала волна горячего, разом выступившего на теле пота. Ее бросило в жар, как бросает в сауне. Александра взяла в пальцы бокал с налитым на дно коньяком, баюкая бокал в ладони; поднесла к носу, понюхала. Встала, сделала шаг к Цэцэг. Ее улыбка обнимала монголку. Облетала вокруг Цэцэг, как бабочка.
– Выпьем за нас с тобой, подруга. Мы стоим того.
Цэцэг тоже встала. Она была стреляная воробьиха. Там, давно, в “Фудзи”, она была девочкой не из робких. И все же у нее на миг захолонуло под ребрами. Александрина, она же с ума сошла! А впрочем, всяк по– своему с ума сходит. Нравится ей вот так с ума сходить. Почему бы не переспать с такой красоткой, как она, Цэцэг Мухраева? Многие бы желали, между прочим.
И Цэцэг сделала шаг навстречу Александре – в своем роскошном серебристом, обтягивающем все тело платье. И это она, Цэцэг, опередила эту прожженную стерву. Это она первая взяла ее рукой за подбородок.
– А ты не врешь, подруга, что была там, в “Галактике”, когда “Галактика” горела?.. Ты точно там была?.. И выжила?.. Да, классно горела гостиница… Жаль, что не сгорела… Ты…
Цэцэг вернула Александре улыбку. Скользнула рукой ей на грудь. Сжала ей грудь под платьем. Внезапно наклонилась. Через мягкий шелк ухватила сосок губами, зубами. Воннегут застонала. Прижала к себе голову Цэцэг руками. Мелкие брильянтики на медово– желтой шее заискрились. Цэцэг, продолжая целовать грудь Александры, медленно подняла руки и спустила с плеч подруги струящийся светло– малиновый атлас.
– Ну что ты… Разве это так нужно…
– Нужно… Конечно, нужно… Не бойся…
– Я не боюсь. Это ты боишься…
– Ты боишься… меня – или себя?..
Александра тоже нашла на спине у Цэцэг застежку платья. Расстегнула. Легкое платье, как воздух, опахивая тело теплом, скользнуло к ногам. Цэцэг вышла из платья, как выходят из морской пены. Они теперь стояли друг против друга нагие, кончики их грудей соприкасались, губы слегка приоткрылись; глаза сияли, взгляды глубоко погружались друг в друга.
– Мои глаза становятся твоими…
– Ты романтическая дура. Я просто невероятно хочу тебя. Здесь и сейчас. Скорее.
Александра впилась пальцами Цэцэг в плечи. От ее раскрытых, влажных губ пахло олеандром, от тела – розовым маслом. Между высоких, с острыми, как у девушки, сосками, загорелых грудей мерцал золотой крестик с вкрапленной бирюзой. Воннегут ослабила хватку, стала нежно, стараясь ненароком тронуть вставшие дыбом соски, ласкать смуглую грудь Цэцэг, приблизила лицо, и Цэцэг ощутила на щеках, на подбородке, на скулах, на веках, на шее мелкие, щекочущие, быстрые поцелуи. Александра ласкала ее соски и не касалась губами ее губ. Цэцэг не выдержала. Она сама рванулась навстречу Александре. Их рты слились, и они задохнулись обе, вместе, ненасытно всасывая, пожирая, вдыхая друг друга; потом отпрянули, рассмеялись. У Воннегут лицо пошло красными пятнами. Она взяла руку Цэцэг и положила себе на низ живота, втиснула ее пальцы во влажную женскую расщелину.
– Гляди, я вся истекаю соком. Где у тебя кровать?
– У меня море кроватей, ты же знаешь…
Они обе еле дышали. Целовали друг дружку ежесекундно. Цэцэг взяла Воннегут за талию, тонкую, как у стрекозы, и очень сильную, под кожей чувствовались все натренированные мышцы.
– Где – ближайшая?..
Воннегут снова прижалась губами к ее губам. Коснулась языком подковки ее зубов.
– Ты что, ослепла… Вот, за тобой…
И Александра подхватила Цэцэг под мышки и под коленки и так, смеющуюся, играющую в ее руках, как золотая рыба, с размаху кинула на постель.
ПРОВАЛ
Это очень древнее время. Я вижу его. Мы не можем провидеть время; его дано провидеть только провидцам, пророкам. Время иногда нам снится. Мы любим ловить его во сне, как ловят рыбу сетью. Я поймала тебя сегодня. Я давно хотела тебя поймать. Женщина поймала в любви женщину; ну и что? Это было всегда, и это будет. Сейчас очень страшное время. А мне все равно весело в нем жить. Дай мне свою грудь. Я вберу ее ртом. Я люблю чувствовать во рту грудь, нежность соска, его ягодную сладость, биение горячей крови в нем. Сосок женщины – окончание мира. Здесь мир кончается и начинается бесконечность. Бог придумал женщину для любви, правда?
Возьми губами еще здесь. И здесь. О да. Так.
Какая ты счастливая, что испытываешь все это.
Какая ты счастливая, что ты все это даришь мне.
Древняя сила, великая сила. Раздвинь ноги и открой мне все, что у тебя внутри. Раскройся. Я хочу ласкать все, чем ты владеешь. Бьют часы на стене, бьет ветер в окно. Сейчас зима, а нам жарко, будто мы на Ривьере. Вот, я вся открылась тебе. Женщина всегда так знает, так чувствует женщину, она всегда сделает так, что сладость захлестнет тебя, и ты потеряешь сознание.
Я уже его теряю. На помощь! Ты дура. Все еще только начинается. У тебя можно кричать? Все можно. Здесь нас услышит только Бог. Бог же был против этой любви! А ты меня любишь? Нет, ты что, любишь меня?
Закрой глаза. Я целую тебя в шею. Потом в грудь. Потом целую твои ребра. Потом прикасаюсь губами к животу. Лижу языком пупок. Целую золотое руно внизу живота. Мои губы здесь, у края твоей тайны, у пропасти желания. Если я коснусь тебя губами – ты превратишься в птицу.
Я хочу превратиться в птицу! Пожалуйста! Скорее!
Я целую твой мокрый соленый жемчуг. Я раскрываю губами твой бутон. Я всовываю дрожащий язык в твою раковину. Я превращаю тебя в продолжение себя. Я превращаю тебя в дрожание, в крик, в льющийся сок, в запах, в свет. Я превращаю тебя в смерть, но ты воскресаешь.
Они отдыхали. Воннегут курила, отводя руку, ссыпая пепел в изящную морскую раковину с белыми многочисленными смешными рожками, переливающуюся изнутри голубым перламутром. За окнами брезжил рассвет. Цэцэг опустила балдахин над кроватью. Они на миг выпали из времени, сейчас нехотя возвращались в него.
– Как твой богатенький Буратино? – Александра всунула тонкую сигарету в зубы, наблюдала снизу, лежа, как вьется, тает над ней дым. – Тебе с ним хорошо? Не надоел?
– Я не задавалась этим вопросом, знаешь ли…
– Не хочет ли он, такой талантливый и многообещающий, потесней прижаться к алмазному концерну “Де Бирн”? Я сблизилась с “Де Бирн” в Париже, слетала к ним и в Амстердам, и в Брюссель… Это перспектива. “Де Бирн”, судя по всему, останется единственным в мире монополистом – продавцом алмазов. Наши ребята из Якутии хотели его обойти, да факир был пьян, фокус не удался. – Воннегут снова глубоко затянулась, ссыпала пепел в раковину. – “Де Бирн” взял быка за рога. Все, они короли. Разве твой красивый бойфренд дружит не с королями?
Цэцэг потянулась к Воннегут. Их груди опять соприкоснулись. Она прикурила от гаснущей сигареты подруги. Балуясь, выпускала дым изо рта колечками.
– Ему сейчас не до алмазов, Александрина. Ефимку убить хотели… прямо на улице. Обнаглели… Он теперь без кортежа “быков” на улицу не вылезает. Если в машине куда едет – две машины его сзади пасут. У кремлевских боссов таких сторожей нет. У него слегка крыша поехала, я так думаю. Дела застыли… верней, все идет на автопилоте, а он – глядит в иллюминатор и думает: когда, твою мать, разобьемся?!
Они обе расхохотались. Александра докурила сигарету, сунула в ракушку.
– И все же подумай, детка. Я и тебе алмазик подкину… хорошенький… крупненький… за деловое сводничество. Мой покойный муж серьезно занимался якутскими алмазами, ты в курсе… и “Архангельскдиамантом”… Там, у Белого моря, геологи крупное месторождение открыли, такие кимберлитовые трубки, что – ой– ой– ой… Ну, мой благоверный въехал в это дело по самую маковку… да неумен оказался, убрали мальчика вовремя. А чтоб не рыпался лишнего.
Она взяла из пальцев Цэцэг сигарету, нагло затянулась, поднесла лицо к ее лицу, хулигански вдунула ей дым в рот. Зеленые глаза сверкали двумя сколами хризопраза.
– Нет, нет, – Цэцэг забила, засучила ногами в воздухе, откашливая дым, притворно колотя кулачком Воннегут по голой спине, – это правда, ты действительно была тогда там… ну, на том знаменитом пожаре?.. И тебе удалось спастись из этого ада?.. Невероятно! Говорят, там все к черту рушилось, полыхало, люди задыхались в дыму, как котята, на огне как куры жарились…
– И что тебе так дался этот пожар? Ну, горела гостиница и горела. Люди погибали, между прочим. Отличные люди. Им бы всем жить да жить. – Хризопразы глаз глядели сквозь дым равнодушно. – Ты никогда не видела, как люди прыгают вниз, на асфальт, с двадцатого этажа, только чтобы не сгореть? Я – видела.
– А что ты делала тогда в гостинице?.. Какого черта…
Воннегут положила ей теплую руку на голую грудь.
– Нет. Мне все это приснилось. Выкинь из головы. Я там никогда не была. Я просто созерцала одну обалденную картинку. Во Флоренции, в галерее Уффици. Рафаэль, “Пожар в Боргезе”. Страшная картинка, я тебе скажу. Как он огонь написал! Венецианская розовая, стронциановая желтая, яркий краплак… По глазам, подруга, бьет. Ослепляет.
Она быстро согнулась, спина ее выгнулась колесом в кровати. Быстро, мгновенно опустила голову к развилке смуглых, раскинутых ног Цэцэг.
… … …
Вернисаж был в разгаре. Толпа шумела, гудела, то глухо, то звонко жужжала. Раздавались смешки, восклицания, приветствия. Кто– то надсадно, старчески кашлял в платок. Поблескивали стекла очков. Резко, ударами светового хлыста, взблескивали связки ограненных драгоценных камней на шеях, на плечах и запястьях женщин. Женщин на вернисаже было великое множество, они толпились в изобилии, они были наряжены каждая – как царица; степенью наряженности и украшенности жен и любовниц, как встарь, при графах и вельможах, при командармах и генсеках, мерялся успех их мужчин. VIP– персон тоже было предостаточно. Важные люди высшего столичного света глядели на иных, кто рангом пониже, откровенно свысока; невежливо поворачивались спиной к папарацци; нет, кое– кто, напротив, улыбался во весь рот, показывая все вставленные в Голливуде либо в Париже жемчужные зубы, демонстрируя супермодные тряпки, выставляя ножку или выворачивая ручку, для фотографии в престижном журнале, особым образом. Мелькали судорожные белые вспышки фотоаппаратов. Стрекотали видеокамеры. Историческое событие фиксировалось со всех сторон. И женщины, женщины, женщины снова надвигались и рассыпались, как самоцветы, поднимались по мраморным лестницам и обмахивались веерами: ах, до чего жарко у вас, на этом вашем вернисаже!
“Что за чертовщину выставил Судейкин! Да он вконец спятил”.
“Художник – барин, вы разве не знали?.. Что его левая пятка захочет…”
“Какие– то страшилки, какие– то бронзовые, медные каракатицы!.. Да разве это дети?.. Это монстры!.. Зачем нам опять глядеть на чудовищ?.. Чудовищ достаточно и в жизни. Вы подайте нам красоту, господа художники, а не помойку!..”
“Гениально. Судейкин, как всегда, гениален. Это шедевры. Через этих уродцев он так показал трагедию времени… оторопь берет… я без слез смотреть не могу… особенно вон на того, скрюченного, без пальцев на руках… если не ошибаюсь, такие дети рождаются у алкоголиков?..”
“Вся страна спилась, закололась наркотой и занюхалась, а мы– то с вами, дорогие мои, отчего ж такие здоровые да красивые?.. Или мы – цвет нации, а Гавриил показал – пепел?..”
“Чтобы оттенить красоту, требуется показать уродство. Горе лучше оттеняет счастье. Мир разделился, раскололся, неужели вы этого не понимаете?..”
“Мир сейчас, после взрывов в Нью– Йорке, после этих самолетов, что врезались в башни Торгового Центра, стал уже другой… Совсем другой…”
Народ жужжал. Народ возмущался и восхищался. Народ обсуждал и осуждал. Народ восторженно закатывал глаза и непонимающе пожимал плечами. Народ толпился вокруг небольшой скульптурной группы, выставленной в центре зала, – семи небольших бронзовых фигурок детей, в натуральную величину.
Семеро детей стояли поодиночке. Они смотрели в разные стороны. Никто из них не смотрел друг на друга. Они смотрели в глаза тем, кто к ним подходил. Медно блестевшие, будто потные, темные лица кричали: погляди на меня. Спаси меня.
Бронзовый мальчик тяжело волочил за собой раскоряченные, как у лягушки, ноги, исподлобный вгляд узеньких крысиных глазок обжигал ненавистью. Даун. Исхудалая девочка, с торчащими ребрами, с тазом высохшим, как хребет у воблы, сидела на постаменте, протягивая черпачком руку к взрослым живым людям: есть! Есть, Бога ради! Голод. Это вы, взрослые, придумали голод. Я его не придумала.
Беспалый мальчишка скалился, точно звереныш. Острые клыки его торчали по– вампирски. Бронзовый безногий мальчик, длинный, высокий, почти юноша, осторожно нес перед собой на перевязи раненую руку. Война. Его ранили на войне. Широко открытые бронзовые глаза кричали: это вы! Вы придумали войну! Не мы!
А этот?! Руки– плавники, ноги– ласты. Шлеп– шлеп – куда, к гибели? Раззявленный рот. Бронзовые слюни текут из углов рта по подбородку. В руке – пустой темный шприц. Наркоман. Это вы. Вы придумали наркотики. Вы продаете их нам. Вы сажаете нас на иглу и смеетесь, а потом поднимаете целое государство, его газеты, его больницы, его полицию на борьбу с наркотиками. Зачем вы это делаете?! Развлекаетесь?! Или развлекаете нас?!
Маленький карлик. Рахит. Кривые ножки ухватом. Он родился таким от матери, которая плохо ела, мало спала, пила водку, кололась наркотой, а когда родила его, умерла под забором, потому что ей негде было жить, она все время плакала, страшно ругалась, никогда не мылась и плохо пахла. А еще она травила свой плод, старалась убить его внутри себя. Не убила. Человечек все равно появился на свет. Кто виноват, что он родился?! Разве не вы, отец и мать?!
И последняя бронзовая фигура возвышалась над всеми уродцами. На бронзовое бревно, чтобы быть выше всех, залез невероятный урод. На его лицо невозможно было взглянуть. Оно пугало и будоражило. Рассеченное ножами и бритвами лицо все свело шрамами и контрактурами, и оно застыло, изуродованное, превратившись в адскую маску. Рот распялился до ушей. Выдернутые клещами ноздри дышали двумя черными ямами. Бронзовый ребенок хохотал. Он хохотал над всеми, кто глядел на него. Он хохотал над всеми, кто сделал его таким.
Это вы сделали его таким, люди. Он – нищий. Он просил у вас, люди, милостыню. Вы сделали его уродцем, чтобы он вызывал у вас жалость, чтобы вы давали ему больше денег, а он, наработавши мзду, насидевшись в метро, на вокзале, на улице под сырым навесом в дождь и непогоду, приносил бы эти деньги опять – вам. Вам, люди.
Урод притягивал и отталкивал. Публика, наткнувшись глазами на искореженное лицо, ахала, пыталась смеяться, как в театре, замолкала, приближалась. Судейкин достиг, чего хотел. “Дети – жертвы пороков взрослых” волновали зрителей, но возвышавшийся надо всеми уродец – потрясал. Видя это лицо, светские болтуны замолкали. Магнаты смущенно кашляли в кулак. Дамы отворачивались и закрывали холеные лица веерами. Политики краснели.
А Судейкин стоял неподалеку от изваянной им скульптурной группы и мило беседовал со своей приятельницей, блистательной Александрой Воннегут, по его приглашению прилетевшей на вернисаж из Парижа. Спасибо тебе, Сашуля, что прилетела. Я тронут. Ах, ну что ты, Гаврик, какие пустяки!.. Это я потрясена. Не ври, ты видывала мои виды. Ты же видела у меня в мастерской в Нью– Йорке Рею– Кибелу. Вот это скульптура. Это – замысел. А это… так. Просто я должен был отделаться от них, они меня замучили, я их везде, все время видел. Да и заказ этот мы обговаривали с Петушковым. Этих бронзовых деток хотят поставить на Красной площади. Чтобы – вечный укор. Чтобы никому неповадно было. И ты думаешь, дорогой, что твои статуи будут уроком для грядущих поколений?.. Ты слишком хорошо думаешь о людях, золотой мой, мой гений…
Публика жужжала, как жужжит по весне проснувшийся улей. VIP– персон прибывало. Здесь можно было увидеть и эстрадных див, и известных актеров; прошла, качаясь, будто пьяная, на высоченных каблуках, поправляя маленькой, высохшей птичьей лапкой искусственные фиалки на шляпке, знаменитая прежде поэтесса; розовощекий магнат, скандально прославившийся во время приватизации и дележа государственного имущества между богатыми олигархами, тряся тремя подбородками, переглядывался с лысым, будто настоящий скинхед, мэром большого города, все время вытиравшим то ладонью, то платком потеющую блестящую лысину и улыбавшимся, словно он получил в подарок самолет. На лестнице появилась, в окружении свиты и дюжих мрачных телохранителей, знаменитая актриса, недавно прославившаяся в роли трансвестита – актера Пако, ставшего натурщицей Амандой Лир, в грандиозном фильме о Сальвадоре Дали, снятом скандальным режиссером Брошкиным, – Ирина Громова; ее темные волосы с лиловым отливом свободно падали на голую спину, спускаясь до самого крестца, широко стоящие, как у египетской статуи, сумеречно– синие глаза равнодушно, даже ненавидяще, озирали публику; на бронзовые фигуры Судейкина она едва взглянула, процедила сквозь зубы: “Дрянь какая”. Повернулась, пошла, блестя в вырезе платья белой спиной; телохранители и свита поклонников, папарацци и начинающих актерок и актерчиков побежала, семеня, следом.
И вот на лестнице показалась пара, о которой, шушукая, пожимая плечами, возмущаясь, восхищаясь, давно уже судачил весь высший столичный свет.
По лестнице в зал вернисажа поднимались Ефим Елагин и Цэцэг Мухраева.
Ефим поминутно оглядывался. Видно было, что он боится. Чего? Кого? Никто не знал. О шантаже знали только Цэцэг и отец. И отец и сын были достаточно умны, чтобы сообразить, как защититься. Возможно, дело было не в двойной или тройной охране. Штука была в том, как выйти на тех, кто стоял за шантажистами, и уничтожить – или, по крайней мере, припугнуть – их. Цэцэг была сама безмятежность. У нее был вид сытой и красивой самки, довольной собой и своим окружением. Общество удивлялось, не видя ее вместе с мужем, а только под руку с именитым любовником; ну и что? Она стояла уже на той ступени общественной лестницы, когда любые суды и пересуды стекали с нее, как с гуся вода. Она была в белом платье, одно ее смуглое плечо было обнажено, к другому была приколота большая живая алая роза.
VIP– пара подошла к бронзовым детям. Остановилась. Цэцэг слега поморщилась. Повернула румяное, надменное раскосое лицо к любовнику.
– Фу, какой ужас, – выдохнула она. Закусила губу, чтобы не рассмеяться. – Гляди, какой замечательный урод на этом бронзовом пеньке! Как, по– твоему, что он символизирует?
– Предпочитаю об этом не думать. – Ефим пожал плечами, рассматривая бронзовые фигурки. – Гавриил уже в том статусе, когда художник делает что хочет. Вот мы с тобой – мы же делаем что хотим, верно?..
– Верно. Еще как делаем. – Алый лук губ Цэцэг искривился. Она не сводила глаз со смеющегося бронзового уродца. – Нет, Фима, все равно страшно. Не хочу. Не хочу бояться. Не хочу испытывать неприятные эмоции. Я люблю в жизни приятное. Я, знаешь, в свое время, – помедлила: говорить или нет?.. как отнесется к ее словам?.. – много всего неприятного испытала. И больше не хочу. Не хо– чу! Здесь шампанское дают или нет?.. Ага, в том зале – фуршет, да?..
В анфиладе залов проглядывался зал с накрытым белоснежной скатертью столом, уставленным презентационными яствами. Цэцэг недвусмысленно облизнулась, подмигнула Ефиму и отвернулась от скульптурной группы.
– Идем?..
Она кивнула на маячащий в перспективе пиршественный зал. Продела руку Елагину под локоть. Он дернулся, быстро повернулся.
– Что ты?.. Что ты трясешься?.. Кого ты там увидел?.. Киллера?..
– Не знаю. Мне показалось.
– Что – показалось?
– Ничего.
– Считаешь, на тебя будут охотиться здесь? – Она пожала плечами. – На закрытом правительственном вернисаже? Где вход строго по пропускам? Где все люди сосчитаны, как скот, по головам?
– Где угодно. Я знаю законы охоты. Я сам охотник. Не будем об этом. Ты права, надо расслабиться. О, Иван Петрович, дорогой, и вы здесь!.. Какими судьбами?.. А, вы с Филом?.. Рад, рад, очень рад, дорогой господин Доусон! Судя по вашим довольным лицам, господа, ваши совместные дела успешно продвигаются?..
Владельцы нефтяных компаний. Акционеры авиаконцернов. Учредители новых престижных банков. Промышленная и финансовая элита незаметно, но плотно переслаивала яркое, броское цветное тесто актеров, режиссеров, музыкантов, знаменитой артистической богемы. Елагин стрелял глазами. И эти, эти, те, кто следит за ними за всеми, тоже должны быть здесь.
Как же без них.
“Интересно, есть ли сегодня здесь мои люди, внедренные в ИХ среду? Должны быть. Я не просил, не приказывал, не связывался ни с кем, но есть те, кто великолепно делает это за меня. Я могу быть в безопасности. Я охраняем. Я слишком персона грата, чтобы стать нон грата в одночасье. Цэцэг замечательно владеет собой. Она не даст сто очков вперед. Ну да, женщины часто оказывались в опасности и смелее, и бестрепетней мужиков. Я мужик или нет?! Ты мужик, Ефим, хватит, угомонись, иди глотни шампанского. А лучше – коньяка”.
Они прошествовали анфиладами к белому столу. Петушков, отирая пот с лысины, весело приветствовал их обоих. Мистер Доусон, нефтяной магнат из Оклахомы, предложил ему обратить особое внимание на скважины на русском севере: “Там у вас, уважаемый, особенно на Кольском полуострове и на Ямале, непочатый край подземных драгоценностей, начиная от “черного золота”… и заканчивая, между прочим, отличным камешками!” Доусон разбойничьи подмигнул ему. Елагин понял: знает про месторождения алмазов под Архангельском. Его опередили; некая канадская компания заключила с архангелогородцами, с Иваном Скобелевым и с банком “Тэра” очень выгодный долгосрочный контракт на разработку месторождений и продажу добытых алмазов бельгийской знаменитейшей фирме “Де Бирн”. Тут можно было бы много поиметь, и даже увиливая от уплаты налогов государству; он сэкономил бы миллионы, сотни миллионов долларов… что теперь говорить. Под струю вина вовремя подставляют стакан.
Банк “Тэра” имел связи с Парижским клубом. Международный валютный фонд “Тэру” опекал, давал ей всяческие льготы. В чем тут было дело? А, наплевать. Он узнает потом. Сперва – шампанское. Мыльный напиток, конечно, напиток баб… дам, экскьюз ми. Но в голову ударяет. Пусть мне ударит в голову. Пусть я забуду на минуту, что на меня кто– то смотрит из толпы.
Кто– то уродливый, страшный, смотрит на меня из толпы – и хохочет.
Цэцэг стукнула хрустальным бокалом о его бокал. Притронулась рукой в прозрачной белой перчатке к лацкану его смокинга.
– Прекрати. Я повелеваю!
– Слушаюсь, дочь Чингисхана. – Он заставил себя рассмеяться, ответно стукнул бокалом о ее, чуть наклоненный, и вместе с тонким рассыпчатым звоном из бокала Цэцэг выплеснулось шампанское и брызнуло на светлый смокинг Ефима.
– О, извини…
– Это же хорошая примета, – через силу, растягивая губы, как резиновые, улыбнулся он. – У вас же, монголов, если капля вина выльется из сосуда, это значит… подношение богам, да?..
– Да. – Она отпила шампанское; он выпил все, до дна. – Боги всегда довольны жертвоприношением.
– А сейчас?
– Что сейчас?
– Сейчас, сегодня, боги довольны жертвами, которые приносят им глупые люди?
Цэцэг отвернулась и небрежно поставила бокал на поднос, подставленный услужливо согнувшимся, вовремя подбежавшим лакеем. Она ничего не ответила Елагину.
Вернисаж жужжал. Вчерашние люмпены нагло играли в аристократию. Настоящие аристократы тонко улыбались. Новые русские смотрели фертом, победоносно. Понаторевшие в денежных битвах олигархи играли в скромняг. Актеры и художники выцепляли глазом в толпе богачей будущих спонсоров, покровителей, меценатов, заказчиков, покупателей. Ловили их на крючок собственной славы. На живца суперпроектов. На золотую блесну собственных женщин. Мужчина стоял в стороне, попивал шампанское – женщина, во всеоружии красоты, шла по минному полю переговоров, соблазнов, большой политики, подписывая договоры взглядами, ставя печати ослепительными перстнями на холеных пальцах, накрашенными несмывающейся помадой, смеющимися губами.
“Что бы мы делали без женщин. Что бы я делал без Цэцэг. Что? Жил бы. Делал бы дела. Неужели я уже привязался к ней? Неужели я уведу ее от мужа и женю на себе? Нет, она мне не нужна. Мне нужна свобода. Мне нужно делать то, что я делаю”.
Он подошел к Судейкину, мило беседовавшему с этой, рослой блондинкой, кажется, представительницей банка “Тэра”, русской из Парижа. Почтительно наклонил голову.
– Рад приветствовать художника такого ранга. Гавриил, вы превзошли себя. Я, откровенно говоря, от вас такого не ожидал. Вы делали это в Америке и потом везли сюда… или?..
– Здесь. Я работал здесь. – Высокий человек в черном берете, с крестообразным шрамом через всю щеку, с улыбкой неожиданно белозубой, обезоруживающей, посмотрел на Елагина сверху вниз. – Петушков предоставил мне замечательную мастерскую в Москве. Я доволен. В Нью– Йорке я делал другие вещи. Статуи людей– кузнечиков, людей– птиц. Такие сказочные герои, знаете… фантастика.
– Люди– кузнечики, – Елагин снова вздрогнул, обернулся, – вам не кажется, что все мы действительно кузнечики, прыгающие туда– сюда по планете?
– Не кажется. – Улыбка мгновенно стерлась с лица Судейкина. Он повернулся к Ефиму здоровой щекой. – Мы не кузнечики. Мы, разумеется, люди.
– И созданы по образу и подобию Божию? – Ефим кивнул на детей– уродов.
– Да, созданы. И сами изменяем Создателю. И будем, возможно, наказаны. Как будут наказаны дети этих детей… если они родятся. Ваше здоровье, господин Елагин!
Звон бокалов резанул уши. Судейкин пил коньяк. Лакей налил в бокал Ефима тоже коньяку. Ну вот, так– то лучше, чем эта шипучка.
Эта русокудрая парижская стерва улыбнулась ему обворожительно. От выпитого коньяка все поплыло перед глазами. “Ого, я пьянею быстро, как старый алкоголик”. Он подцепил вилкой себе на тарелку куски красной рыбы, ветчины, положил белых грибов в сметане из металлического судка. Закусил. Снова вскинул глаза. Снова ему показалось. Пора уходить.
Он невежливо отвернулся от Судейкина, от белокурой русской парижанки, делающей ему недвусмысленные глазки, и пошел по залу вдоль стола – искать Цэцэг. Стоящие у стола ели, пили, улыбались, щебетали. Он отошел и увидел, что люди и впрямь, как жуки или кузнечики, со всех сторон обсели стол, чуть не прыгают на него, хватают лапками еду и питье, стрекочут, распускают крылышки. “Люди не насекомые, Ефим. Ты бредишь. Люди – это люди. Тебе надо выспаться. Хоть один раз в месяц – хорошо выспаться. И не с женщиной, а одному”.
Он подумал: усну, и приснится этот, с жуткой корявой улыбкой, с изрезанным бритвой лицом. Он подошел к Цэцэг, взял ее под локоть.
Они уходили с вернисажа. Они удалялись. Покидали праздник в его разгаре. Когда он сходил по мраморной лестнице под руку с сияющей, румяной Цэцэг, довольной вернисажем, общением, выпивкой и шведским столом, он внезапно, ни с того ни с сего, подумал о ее прошлом: а ведь я не знаю ее прошлого, ничего не знаю, кроме ее работы в “Фудзи”, кто она, что она, откуда? В чьих руках она побывала, кто ее мучил, кто ее шлифовал? В какие переделки она попадала?.. У девочки было наверняка темное прошлое. “Ну и что, это же тебя не должно волновать. У нее слишком прозрачное настоящее”. Какие– то слухи… какая– то невнятица. Он знал, что у нее взрослый сын, музыкант, пианист, она родила его в шестнадцать лет… смелая.
Рука Цэцэг скользила по мраморным перилам. Алмазный перстень от Де Бирн был надет поверх тонкой перчатки, слепил глаза игрой длинных разноцветных лучей. И тут вдруг им, идущим, под ноги откуда– то сверху, ему показалось – с потолка, из– под люстры, с небес, слетел конверт. “Сам, что ли, слетел? – Он остановился, придержал за локоть Цэцэг. – Никто же ниоткуда ничего не бросал”. Хотел наклониться – лакей опередил его, лакеев на вернисаже было понатыкано всюду, как изюма в булке. Осклабившись, протянул. Ефим взял конверт будто отмороженными пальцами. Вскрыл. Развернул. Из конверта вывалилась, медленно спланировала на пол фотография.
Фотография лежала у его ног.
ЕГО ФОТОГРАФИЯ.
Он. Он сам. Только – лысый.
Или – обритый налысо?
И взгляд – тяжелый, как гиря. И черная рубаха.
И черный крест на рукаве.
Цэцэг покосилась через плечо. Лакей снова, как ванька– встанька, наклонился и поднял фотоографию, протянув ее Ефиму. Люди рядом с ними переставали бормотать светские глупости, останавливались на ступенях лестницы, с любопытством смотрели на них.
Цэцэг все так же глядела через плечо, надменно. Ни одна жилка на ее лице не дрогнула. Восточное самообладание, ты великолепно. Черт побери, у них и бабы – Будды.
В конверте – ни записки. Ни письма. Ни подписи.
Только его собственное лицо. Страшное, голое.
Военное лицо. Лицо палача.
Музыка, пугая, внезапно ударила, как хлыстом, сзади. Оркестр, на презентацию пригласили струнный оркестр знаменитой Светланы Бекетовой, он и забыл. Музыка захлестывала их, обрушивалась на них горячим водопадом, потом – ледяными струями минора, потом снова плясала вокруг них мажорный канкан. Он положил свою фотографию в карман. Продолжение следует, Ефим Георгиевич. И именно такое. В подобном шантаже есть вкус, ты не находишь?! Музыка гремела и издевалась над ними. Он схватил за руку Цэцэг – слишком крепко, ей стало больно, она, кривясь, вырвала руку, пошла одна по лестнице вниз, подбирая платье, все быстрее, быстрее. Музыка, задирая хвост, неслась следом, настигала. Он сбежал вслед за нею, уже ничего не видя, не слыша. В зале уроды Судейкина, несчастные дети алкоголиков, преступников, наркоманов, облученных, скалились в бронзе, изгалялись, корчились, плакали, адски хохотали, горбились на корточках в жалкой мольбе: пощади.
… … …
– Ада, ты почему не спишь? Третий час ночи. Что ты делаешь?
– Ох, Жорочка… – Она выползла из– за стола в длинной, волочащейся по полу ночной рубахе, стянула ворот рубахи на груди, тончайшие лионские кружева торчали из– под сухих прокуренных пальцев. – Прости. Засиделась. Задумалась… – Она напрасно пыталась заслонить собой, широким кружевным рукавом ночной сорочки бумаги и фотографии, разбросанные по столу. – Я сейчас лягу… Не ворчи…
– Я не ворчу. – Он шагнул к ней. Властно отодвинул ее. Обозрел заваленный старыми бумагами стол. – Опять ковыряешься в прошлом, жена? Не советую. Мы с тобой не в том возрасте, чтобы копошиться скальпелем в старых язвах. Или они тебе покоя не дают?
Ариадна Филипповна устало махнула рукой. Ее высохшее, все еще красивое, гордое лицо с точеным, будто мраморным, профилем покраснело, в неярком свете настольной лампы выявились все мелкие, будто письмена на пергаменте, морщины. Она тяжело, прерывисто, будто после плача, вздохнула.
– Не могу. Не могу!..
– Что – не можешь?.. Расстаться со всем этим?.. – Он поддел пальцами ворох бумаг. – Сжечь? Хочешь, я сожгу? Человечек так носится всегда со своим прошедшим, забывая, что надо смотреть вперед…
– Мне поздно смотреть вперед, Жора. – Голос Ариадны Филипповны дрогнул. – Я сейчас могу смотреть только назад. Скажи, это преступление? Я имею право на свое прошлое?
Она старалась, чтобы голос ее не дрожал. У нее не получилось.
Он крикнул: и голос гулко отдался в углах погруженной в полумрак, богато обставленной огромной спальни:
– Не имеешь! Не имеешь! Не имеешь!
Ариадна Филипповна отшатнулась, сверкнула глазами. Он попятился. Эта красивая старуха все же, как и раньше, имела над ним власть.
– Меня пугать, Жора, – сказала она неожиданно изменившимся, хриплым, ставшим наглым, подзаборным голосом, – все равно что деньги на ветер пускать. Ты же ведь не привык, дорогой, пускать деньги на ветер? – Ее лицо внезапно по– блатному перекосилось кривой, нагловатой ухмылкой, вставные зубы, блестя, вылезли вперед, светлые, серо– голубые прозрачные глаза в кругах обвислых черепашьих складок старой кожи вонзились в Георгия Марковича, как два копья – навылет. – Ты же так любишь свои денежки… – Она сплюнула, словно между зубов у нее была дыра, замаскированная фиксой. – Фраер…
Он все пятился к двери. Она стояла перед ним в ночной сорочке, кружева мели паркет. Его лицо побелело. Ему показалось – она сейчас схватит, сдернет со стола тяжелую хрустальную вазу и запустит в него с размаху.
– Ну, ну… Ада, не дури, успокойся… Я понимаю, Фимка тебя взвинтил… Но ты не должна… Не надо… Слышишь, не надо…
– Уйди. Уйди, падла, – отчетливо, сухо проговорила она, подняла руку и закрыла кружевным рукавом изморщенное лицо, не желая видеть и говорить.
Он спешил, бежал, он очень торопился, он быстро захлопнул дверцу “Феррари” и влетел в подъезд, где уже выставил, ничтоже сумняшеся, двух охранников вместо одного, чтобы, в случае чего… – о, он очень спешил, сегодня из Америки прилетал страшно важный человек, он должен был немедленно, сию минуту переговорить с ним и срочно встретиться, а при шофере, в машине, говорить не хотел, зачем ему были лишние уши; встреча была архиважной, он нее зависели его положение в слоеном пироге сложного западного мира, ищущего пути выхода, как из компьютерной игры, из новой реальности, и его деньги в его российских банках. Игра стоила свеч, и он действительно очень спешил. Задыхаясь, кивнув быкам– бодигардам, он, плюнув на лифт, пробежал вверх по лестнице, торопясь к себе, – и тут под его ногами что– то блеснуло. У, противные дамочки, подумал он весело, шастают, роняют драгоценности, ну да, элитный дом, к кому– то в гости приходила дорогая проститутка или наследная княжна, бежала, торопилась, так же, как он сейчас, потеряла… Он наклонился и быстро подхватил с пола вещицу. Черт, черт! Какая прелесть! Какая– нибудь богатая растяпа обронила, теперь вся тонет в слезах… А может, это подарок небес, и его надлежит повесить туда, где висят у его прикольного папаши кучи женских украшений – в его Ювелирную Комнату, у них в доме была и такая?.. Уютная комнатка, между прочим, по стенам – на коврах, на соломках, на черном бархате, на розовом атласе – бабьи бирюльки, браслеты, броши, подвески, ожерелья… Золотые цепочки, громадные бирюзовые, агатовые перстни… Откуда они? Он никогда не задумывался. Ну, увлекается отец ерундой, и пусть увлекается.
Открывая дверь, свой новейшей конструкции финский замок– невидимку, включая свет, сбрасывая сапоги и дубленку, он вертел в руках безделку – золотой браслет. Золотая змея с изумрудными глазами. Золото с ярким красным оттенком, будто из скифского кургана. Недурно… а может, вообще антиквариат?.. А может, музейная вещь, египетская, эпохи Нового Царства… или китайская, эпохи Тан или Цинь?..
– Тра– ля– ля– ля, ля– ля… Тан– тан, цинь– цинь…
Он остановился, рассматривая браслет под яркой люстрой, и побелел.
Женщина. Давняя женщина.
Он вытер пот со лба. Положил золотую змею на крышку белого рояля в гостиной. Отошел к книжному шкафу. Прислонился к стеклам стеллажей. Закрыл глаза. Открыл. Золотая змейка на белой крышке рояля глядела веселыми зелеными глазами, изгибалась кокетливо.
Он вспомнил. Женщина. Давняя убитая женщина. Убитая… им?!..
Он сам ей дарил золотую змею.
Он сам ее убил.
“Нет, ты не убивал ее. Ты только пытался подговорить ее. Вы же так были влюблены. Вы же, два идиота, были как Тристан и Изольда. Вы не могли расстаться. А расстаться надо было. Юные остолопы. Вы захотели уйти из жизни вместе. Нет, врешь, ты, сволочь, это ты все придумал сам, сам, и ты подбил ее, ты ее охмурил, ты расписывал ей, как это будет прекрасно – умереть в один час, в один сладкий миг. Ты шептал ей на ухо: ну дорогая, ну не бойся, пойми, это будет лучший выход, мы же не можем убить твоего мужа, так давай уйдем сами, это же так просто, мы выпьем яд, я найду хороший, безболезненно действующий яд, нам с тобой не будет больно, мы просто уснем, вот увидишь. Ты бормотал: я люблю тебя! – а сам, сам ты знал, что хочешь жить, что будешь жить. Тебе надо было, чтобы она ушла. Она… Дина… Дина Вольфензон… да, хороша была… Ты помнишь. Ты все помнишь. Ты даже помнишь, где ты покупал эту бирюльку. Да, в ювелирном антикварном салоне, в антикварной галерее “Геллерт” на Крымском валу. И Дина так радовалась тогда. Тан– тан, цинь– цинь”. Идиот, вернее, зверский хитрец, ты тогда уже умел обманывать женщин. Ты разыграл все как по нотам. Когда это было? Ага, в те времена, когда ты познакомился с Цэцэг. Давненько. Да нет, не так уж и давно. Что такое шесть лет, семь лет, восемь, десять лет? Да, вы были два юных созданья, обоим по восемнадцать. Ты был молодой, да ранний. Отец вышколил тебя. Ты прекрасно знал уже, что к чему в этом лучшем из миров. А, да, она еще призналась тебе тогда… черт, да, это было… И ты предложил ей убраться на тот свет еще и поэтому… Поэтому…”
Дина Вольфензон, маленькая пышноволосая евреечка, выкрест, носившая православный золотой крестик – странный крестик, с бирюзой, – сказала ему тогда, что ждет от него ребенка. “Так сделай же аборт!” – крикнул он вне себя. Нет, нет, замотала она головой, что ты, уже четыре месяца, пятый… Она, казалось, радовалась их ребенку. Ему же шел девятнадцатый год, и он должен был поехать учиться за границу, и отец его уже с пеленок приучил к мысли: ты – наследник состояния, и ты должен его приумножить. Любыми средствами. Сметая все на своем пути. Сметая лучших друзей, любимых, деловых партнеров, сметая родную мать и родного отца, если НАДО БУДЕТ.
“Убьем себя вдвоем!” Ах, как это звучит. Любовь и смерть рядом, шептал он ей на ухо, ну, решайся, давай же, завтра… Яд ему принес надежный человек. Он позвонил по телефону, что дал ему отец. Отец все понял без слов. Убрать с дороги так убрать. Мало ли способов. А то не отцепится. Испортит мальчику карьеру. “У меня есть такая крутая тетка, сын, она чего только не добудет тебе из лекарств и химикатов. Гексоген добудет, если надо. И Кремль взорвет. И Рокфеллера отравит… или Теда Тернера. Да кого хочешь, впрочем. Я ей позвоню… и ты будешь спасен”. В назначенный день от “крутой тетки” явился курьер. Он не видел его. В дверь позвонили, глухой сдавленный голос за дверью сказал: “То, что вы просили, в почтовом ящике”. Когда шаги на лестнице утихли, он открыл дверь, спустился этажом ниже и вынул из ящика пакет. Бедная Дина так глядела на две рюмки, стоявших рядом! Они были оба голые, простыни, после бурной последней любви, сбились в комок. “За тебя… бессмертная…” Они чокнулись, поднесли рюмки к губам. В Дининых глазах можно было утонуть. Они оба выпили. В рюмке Дины была лошадиная доза порошка. В его рюмке была вода. Ловкость рук, маэстро, и никакого мошенства.
Потом в спальню вошел отец. На нем не было лица. “Уйди, Ефим, быстро. И не приходи. Долго не приходи. Сюда будет нельзя входить”. Когда он, бледный как простыня, трясясь, продевал руки в рукава пиджака, одевался, выходил из спальни, он увидел в гостиной незнакомых людей. Они выглядели очень аккуратно, были одеты скромно, со вкусом, – мужчина и женщина, оба молодые, чуть постарше его. У мужчины в руках был черный кубический чемоданчик, похожий на сундучок. У ног женщины стоял такой же чемоданчик, другой, более плоский, классический кейс, лежал на столе, за которым они всей семьей обедали. Его затошнило, он еле добежал до туалета. Умывшись, вышел на улицу, побрел куда глаза глядят.
Он шатался по Москве допоздна. Вернулся домой к вечеру. В спальне все было прибрано, кровать застлана новыми, только что купленными покрывалами. Ефим, раздувая ноздри, еще чувствовал запах магазина – краски, оберточной бумаги. Он, не раздеваясь, рухнул на кровать, на новый зеленый китайский шелк, на вышитые ядовито– алые розы.
… … …
– Ростислав, ты неправ. Ты уперся рогом только в военные действия. Это в корне неверно. Берешь пример с террористов? Другого не придумал? На другое у тебя фантазии не хватает?
Баскаков стоял лицом к окну. Его спина была неподвижней камня.
– Не хватает, Дионисий. – Голос проскрипел как наждак. – Я тупой. Я знаю только одно. Выход бывает всегда только один. Или – тупик. Я не хочу умереть в тупике. И чтобы мои кости… и кости моего народа… сглотали эти черные гиены. Эти шакалы. Ты, философ! Ты– то сам, книжный червь, знаешь, сколько у нас в стране сейчас сатанистов?.. Не знаешь?.. Тогда помалкивай. Я – знаю, сколько в одном московском ковене сатанистов. И старых, и малых.
– А они, – Васильчиков сглотнул слюну, – они считают сатанистами – нас…
– Это их дело. Главное, чтобы народ видел в нас освободителей. Спасителей, если хочешь. И есть лишь один выход, запомни это, Дионисий. Война. Другого не дано. Как ни рыпайся. Эти… дьяволы… тоже понимают это. Еще как понимают, не беспокойся! И тоже готовятся.
– Да какое, к черту! – Денис Васильчиков судорожно, раздраженно сжал пальцы, разжал, будто искал горло, что хотел задушить. – Готовятся! Они готовятся сбежать в свои Испании, Америки… на свои Канары!..
– Канары не безразмерные. Америка, после террористского нападения, ужесточила въездной контроль. Все усложнилось, старик. Все уже не так просто. Убежище себе можно купить, это правда. Но от войны уже не убежишь. Я знаю, что такое война. Я в Чечне ее нюхал. Я знаю, что ты мне хочешь сказать. – Он дернул плечом под выцветшей гимнастеркой. – Что времена демаршей и вооруженных представлений в Москве и иных городах любимой родины прошли. Согласен. У нас, старик, между прочим, есть скины.
– Скины неуправляемые! – крикнул Васильчиков, морщась.
– Неуправляемые?! Ого– го! Еще как управляемые! Скины – это сила! Жесткая иерархия, централизация, четкие команды, великая идея, подкормка деньгами… И вектор, вектор движения, нацеленный даже не в будущее – в настоящее! Дурак ты, хоть и философ! Деготь умней тебя! Деготь – он сразу понял, что к чему!
– Я не философ, – тяжело сказал Денис Васильчиков, опускаясь на колченогий, скрипнувший под его тяжестью стул, рассеянно перебирая четки черного гладкого камня с серебряной свастикой вместо креста, лежащие на столе. – Я просто русский человек. С мозгами. Мозги у меня работают, это правда. А Деготь – профессионал. Профессионалы ведут. Я – комментирую.
Баскаков повернулся от окна, тоже подошел к столу. Вцепился крепкими грубыми пальцами в спинку стула.
– Деготь тоже комментатор, – жестко, прищурясь, проскрипел он. – Толкователь Юнгера, Эволы, Генона, Крайслера. В отличие от тебя, дилетант, он хорошо смыслит в геополитике. Ты– то соображаешь, что на земле настала эпоха религиозных войн?! Наш знак, великий Кельтский Крест – гигантское коромысло между Европой, Азией и Америкой! Мы подомнем под себя арабский полумесяц! Мусульмане обделаются! В штаны накладут! Силу борет только сила, запомни это!
– Глупый, – тихо, устало бросил Васильчиков, перебирая черные четки. – Деготь умнее меня, да, но и умнее тебя, как видно. Это Деготь первый сказал о том, что под знаком Черного Креста, следуя великой примордиальной традиции, можно объединить ислам, буддистов и православие?.. Он?.. Помнишь, когда это было?..
На лицо Баскакова, со шрамом через всю щеку, будто бы лег непрозрачный черный платок.
– Помню. Как не помнить.
– Да, тогда, на слете в Иркутске. Когда У– 2 уже выдвигался в главы Азиатского Движения. Жаль, что У– 2 оказался простым, банальным бандитом и его попросту замочили в перестрелке. Он мог бы далеко пойти.
– А пошел Хайдер.
– Правильно. Потому что у Хайдера голова на плечах.
– У твоего обожаемого Дегтя есть только одно “но”. Он всюду носится с идеей романтической Зимней Войны. Мне это надоело. Война будет очень реалистической. Жесткой и жестокой. И настоящей, в отличие от красивых наворотов Дегтя. Вечной религиозной войны, запомни это, не будет. Будет нормальная война – за передел мира. Мир давно переделали? Необходимо заняться новым переделом.
– Думаешь, он будет последним? Как бы не так!
Четки со стуком упали на стол.
– Думаю, не последним. Но, по крайней мере, тем, который сделаем мы. И будущее – за молодыми. За теми, кто умен, силен, хитер, сообразителен, подобран, поджар, как хищный зверь. Мы– то с тобой уже поистрепались, старик.
– Ты?.. Поистрепался?.. – Васильчиков повернул голову и окинул взглядом Баскакова с ног до головы. – Ты силен бродяга. Ты, в свои тридцать пять?.. Ты, правая рука Хайдера!..
Баскаков нагнул голову. Сейчас, набычась, глядя исподлобья, он внезапно показался Васильчикову настоящим зверем – диким волком, затравленным, окруженным охотниками, в кольце трепещущих на ледяном зимнем ветру красных флажков.
– Да. Я его правая рука. – Слова капали тяжело, как капли черной смолы. – И моя опора – молодежь. Вы все недооцениваете скинхедов. Из них можно сделать такой живой таран, который пробьет огромную брешь в безупречно гладкой стене, возведенной вокруг их черного государства.
ПРОВАЛ
Вот эта забегаловка… Сюда, скорей… А то уж очень замерз, продрог, пальцы от холода крючит…
О– о, настоящее тепло. Я отвык от настоящего тепла. Я отвык…
А к чему ты привык, Нострадамий?..
То– то и оно. Ни к чему ты не привык. Ты живешь в мире – ты живешь над миром. Вне мира. На миру.
Ах, вы спросили, что я буду пить?.. Да, милая девушка, что– нибудь буду. И деньги у меня есть, е– е– есть, не сомневайтесь. Вот!.. Мало?.. Так в заднем кармане завалялись… еще… вот…
На рюмочку наскреб?.. Ну вот и славно…
Сладкое. Горячее. Дивное. Волшебное. И чуть горькое. И больно сердцу. Закрыть глаза. Задремать в тепле. Увидеть видения.
Мне суждено их видеть до смерти. Но ведь я не умру. Я, Нострадамий, не умру никогда. Я знаю это. И вы, вы все тоже это знаете.
Я вижу снег. Много снега. Поля снега. Белые поля. Белые скатерти, белые покрывала. Они устилают черную землю. И я лечу над белыми снегами, я – черный ворон. Я поджал лапки к брюху. Хорошо быть птицей, видеть все сверху. Я вижу новую войну, вон она, там, я различаю серые дымы, скелетные руины, железных стрекоз, снующих над развалинами; мне кажется, я даже слышу крики. Вопли тех, кто умирает.
Я, Мишель де Нотр– Дам, по матери мессир де Сен– Реми, предсказавший смерть Генриха Второго на турнире от удара копья, вонзившемуся ему в прорезь шлема, в забрало, прямо в глаз, в мозг; я, де Нотр– Дам, предвидевший переселение гугенотов в Новый Свет, казнь короля Людовика, так избаловавшего свою жену, что она принимала ванны из крестьянских сладких сливок, а на парик себе, вместо украшения, сажала живого тропического попугая, привязывая его лапки к золотой диадеме, – я, Мишель де Нотр– Дам, врач, превосходный доктор, вылечивший от чумы невероятное количество жителей Прованса, ибо те, кто пил мои пилюли, мною разработанные, все спаслись, а те, кто не принимал их, умерли страшной смертью от черных бубонов, рассыпанных по всему телу… я, великий пророк Нострадамий, написавший владыкам мира сего: “Прислушайтесь ко мне, ибо вы умрете, как все, потому что все –преходяще!” – я провижу, Я ВИЖУ ЭТУ ВОЙНУ, я ее слышу и осязаю, а меня никто не слышит, никто не понимает, не хочет понимать, все смеются надо мной, потому что я для всех – сумасшедший, сброд, голь перекатная, бормотун, приблудная собака, нищета, уличный фигляр; я нигде не живу – и живу везде, я катаюсь по миру, как грязный мяч, я бомж, и в метро меня гоняют блюстители порядка, и на вокзале меня бьют в бок резиновыми дубинками, выгоняя на снег, на мороз, и на бульварной скамейке, где я присяду на минутку, чтобы соснуть хоть полчаса, меня грубым площадным смехом будоражит присевшая на миг шлюха со своим замызганным клиентом, чтобы распить бутылку пива или вина, и она толкает меня острым носком сапога в ногу, пинает, чтобы я ушел, провалился, растворился, сгинул в ночи.
И я иду в ночь – и там ВИЖУ.
Я вижу когорты лысых людей. Лысые мужчины. Парни. Их много. Они все одеты в черное. Они идут, бегут, как волки, летят как саранча. На белые поля набрасывается черный ковер. Поверх черного ковра – белые кегли лысых голов. Над лысыми головами летят самолеты. Из стальных брюх самолетов падают черные капли бомб. Черные капли падают на черный ковер. Серые цветы взрывов закрывают шевелящееся море гладких бритых голов. Бритоголовые гибнут. Это неважно. Они гибнут, потому что им так назначил Вождь. Там, далеко, перед ними, в мареве, где чернота опять переходит в мерцающую мертвую белизну, – там он. Их Вождь. Он ведет их на смерть и победу. И они идут за ним, как во все века солдаты шли за Вождем.
На горизонте я вижу Город. Каменные стрелы домов целятся в небо. Руины скалятся, белеют глазницы домов. Город уже разбомблен. Черный живой ковер неуклонно катится туда, к развалинам. Черные маки покроют разбитые дома, усеют вывороченные камни тротуаров, рассыплются по берегам широкой Реки. Черные маки с белыми лысыми пестиками укоренятся и прорастут здесь. И это будет их Город. И они восторжествуют. Они отпразднуют победу. Но они не будут знать, что миг спустя с иной Стороны Света, ниоткуда, прилетит новая чума и скосит под корень их всех, молодых и бритых, улыбающихся и взбрасывающих руку в древнем и страшном приветственном жесте, без остатка. Черные бубоны покроют их молодые тела. И они будут валяться у стен разрушенного Города, скрежеща зубами, и проклинать своего Вождя, пославшего их на последнюю великую Войну.
Я, великий Нострадамий, вижу это.
…Ах, еще десять рублей?!.. Извиняюсь, девушка… Есть, милочка, есть… где– то тут… за подкладкой были… завалились… сейчас выужу золотую рыбку… Ага, поймал!.. И целый полтинник, надо же!.. Счастье мое, тогда не в службу, а в дружбу, – принеси еще стаканчик, а?.. На все!..
… … …
Ангелина Сытина сидела в кресле, положив ногу на ногу.
Лия Цхакая стояла перед ней.
В кресле сидела царица.
Перед нею стояла рабыня.
Каково ощущать себя царицей, Ангелина?
Ей нравилось это ощущение. Она испытывала одновременно радость, гордость, любопытство и чувство сытости, несмотря на то, что еще не насытилась: добыча стояла перед ней навытяжку, еще не связанная по рукам и ногам, еще без волчьей деревяшки в зубах, но уже дрожащая, хоть и с горделиво вздернутой обритой головенкой. Кого ты обманешь, гордячка? Грузинские стражи порядка все рассчитали верно, направив тебя сюда. Россия – все равно Империя, как ни крути. Здесь, внутри Империи, хорошо поставлено дело с выявлением всяческих беспорядков. Особенно сейчас. Как расплодились эти бритые! Сладу нет с ними. И этот сизый грузинский голубок – туда же. Или тут все гораздо сложнее? Зачем сюда, к ним, именно к ней, к Ангелине Сытиной, направили эту девочку? Или она действительно так опасна? Или власти перегнули палку? Или все не так просто?
Ангелина поправила темно– рыжую, блеснувшую алой медью прядь, заправила ее за ухо. Ее кошачьи глаза вспыхнули, погасли. Она повернула голову, заоконный тусклый предвечерний свет насквозь пронзил изумрудную серьгу в мочке, она качнулась и заиграла ярко– травянистым, фосфорно– зеленым. Лия следила за ней настороженно. Ангелина поймала пристальный взгляд пациентки. Лия смущенно пригладила обеими руками, как пацан, бритую голову.
– Куришь? – Ангелина, не вставая с кресла, лениво потянулась, цапнула со стола пачку сигарет.
– Нет.
– Врешь. – Ангелина выбила сигарету из пачки. Изогнув губы в усмешке, не отрывая взгляда от девочки, прикурила от огня зажигалки. – Врешь и не краснеешь. В своих компаниях, небось, смолила как паровоз?
– Я не паровоз. Я не хочу с вами курить.
– А если травку? – Ангелина уже откровенно смеялась. Лия отвернулась к стене. Смотрела тупо, отрешенно. Молчала.
“Крепкий орех. Такой же крепкий, как Архипка. Но я и эту расколю. Какой бесценный материал мне подкидывают для диссертации! А все же жизнь повернула. Какой– то мировой руль стронули с места и резко развернули на сто восемьдесят. – Она усмехнулась своим мыслям. – А потом окажется, что на все триста шестьдесят, и мы пришли к тому, от чего попрыгали прочь – к разбитому корыту”.
– Девочка, – нежнейшим, проникновеннейшим голосом сказала Ангелина. Дым обволакивал ее точеное, холодное, холеное лицо. – Девочка, давай начистоту. Здесь тебя не съедят, если ты окажешься умницей. Мне хотелось бы верить в это. Лия… Лия. Древнее имя. Красивое имя. – Она втянула в себя дым. Выпустила из ноздрей, как сивка– бурка. – Вокруг тебя, Лия, за твою малюсенькую жизнь уже покрутилось столько людей! А?.. Что молчишь?.. Журналисты, папарацци, власти, партийные боссы, эти сволочи “Neue Rechte”, что сейчас везде воду мутят… Ты не так проста, как кажешься. На кого ты работала?..
Лия не успела вдохнуть тишину паузы. Ангелина не дала ей опомниться. Закричала, как будто оглушительно залаяла овчарка, сорвавшаяся с цепи:
– На кого ты работала?!
Грузинка обернулась лицом к ней. У, философка. Ученица этого, как его, чудака, прелестного лысого мудреца Мамардашвили. Мамардашвили был лыс, как скинхед. Может быть, он и был первый скин, кто знает. Опаснейшей бомбой всегда была мысль. О, она, Ангелина Сытина, выявит таинственную природу вечной агрессии. Познает ее секрет, разлитый повсюду именно сейчас. Давно не было войны?! Да, давно не было войны. Это правда.
– На кого! Ты! Работала!
Лия смотрела ей прямо в глаза. Не опускала взгляда. Из безучастной и тупенькой внезапно сделалась дерзкой, вызывающей, в наглой усмешке обнажились, блеснули зубы.
– Это допрос?
Надменна, насмешлива. Почти как она сама.
Сытина не выдержала. Отшвырнула ногой кресло, вставая. Вынула сигарету изо рта, зажала в пальцах. Шаг вперед. Еще шаг. Как хорошо иногда терять самообладание. Размахнувшись, Ангелина ударила глядящую на нее во все глаза девочку ладонью по лицу.
– Это? Допрос. И от твоих толковых ответов, кролик мой, зависит, как ни странно, твоя судьба. Ты ведь веришь в судьбу? Или философы не верят? С кем ты была связана в Тбилиси? Какие тайные материалы и кому передавала? И по чьему приказу, главное, по чьему приказу?
Молчание застыло между двумя женщинами странной белой пеленой. Так застывает на морозе растопленный бараний жир. Отчего– то перед Ангелиной, как живой, встал во весь рост Архип Косов, его койка, скрипящая ночью под ними двоими. “Ты нахалка, Ангелина, ты сумасшедшая, ты нимфоманка. Или ты думаешь, что главному врачу такой больницы все дозволено, как Родиону Раскольникову?! Нет, ты ничего не думаешь. Тебе просто понравился мальчик, и ты взяла его, голенького, тепленького, со всеми потрохами. Уйди, Архипка. Не береди душу. Ты лежишь в своей палате, ну и лежи. Я занимаюсь этой девицей. Это серьезнее, чем кажется на первый взгляд”.
– Мы все равно возьмем верх, – прошептала эта упрямая философка с бритой, похожей на голую пятку головой. – Вы нас не остановите. Никто.
ПРОВАЛ
Отвечай!
Не отвечу.
Отвечай!
Не отвечу. Мне нечего вам говорить.
Ты все равно расскажешь нам все! Вы не просто так били на рынке людей! Вы не просто так убиваете! Вы убиваете кого– то, кого вам приказали убить. Вы уничтожаете целенаправленно и злонамеренно. Кто вы такие, отвечай?! Кто?!
Я ничего не скажу вам. Можете меня запытать. Я знаю пророчество.
Что ты мелешь, щенок?! Какое пророчество?!
Такое. Великое. Оно звучит у меня в голове. Вы пронзили меня током, и оно стало звучать у меня в голове.
Говори! Говори, что звучит у тебя в голове!
А… Да… Вот оно…
Грабеж и разбои кровавою, дикою бурей
Семь раз по морям и по суше страдальной пройдут.
И всем белокожим – жить под невольничьей хмурью,
А все с черной кожей владыке корону несут.
И вот загремели над Градом воздушные битвы,
В Столице вихрь с корнем деревья рвет…
Храм пуст, как сосуд. И нету уст для молитвы.
Народ мой, обманут, на паперти пьяную песню поет.
Пьяную песню, вы слышите! Пьяную песню…
Да ты сам пьяный, парень. Он пьян! Прекратите допрос! Уведите его в палату!
Я пьян от боли. Я пьян от любви.
Уведите его!
Дайте мне красный апельсин. Дайте мне Красную Луну. Вон она, я вижу ее в окне. Сейчас зима, а Луна красная, как летом. Она залита кровью. Моей кровью. Я там родился, на Луне. У меня не было матери. Я ее забыл. Луна – моя мать.
Кто– нибудь из твоего окружения, пащенок, был каким– нибудь макаром связан с террористами?! Отвечай!
Я сам главный террорист. Я выйду отсюда и перебью вас всех. Они там, на Востоке, думают, что только у них разработана и отлажена сеть террористов. Наступило время не явной, но тайной войны. Начнется Зимняя Война, я обещаю это вам. Я говорю это вам. Это единственное, что я вам могу сказать. Апельсин. Луна. Красные губы. Почему у той, что приходит ко мне по ночам, красные губы?!
Дайте мне! Дайте! Дайте мне ее! И я запущу в нее зубы, и я откушу кусок… красный сок… льется по подбородку…
Уведите его! Уведите!
… … …
В дверь просунулась веселая рожа. Ноздри, как у зверька, расширились и глубоко вдохнули, втянули воздух, в котором перемешались ароматы варящегося, булькающего на плите глинтвейна, курева, жареной картошки, молодого пота, пышущего из молодых подмышек, из– под черных рубах с закатанными до локтей рукавами и из– под тельняшек, клея “Момент” – на полу была разложена огромная самодельная афиша, и к ней приклеивали огромный, самодельный же, раскрашенный черной тушью картонный Кельтский Крест.
– Эй, пацаны! Скины! Ну че, все готово? Или вы опять тормозите?
– А тебе че надо, чтобы было готово? – Рослый, широкий в плечах, мощный как шкаф парень поднялся с полу, с корточек, и угрожающе двинулся к веселой роже, торчащей в дверном проеме. – А сам не хочешь ручки приложить, Зубр? Пальчики? А также башку? Или слабо?
– Не, че ты, Люкс, че ты, че ты… Хочу! Не тронь! – Зубр шутливо вздернул руки и показался в двери весь – похудее, чем рослый и массивный Люкс, но не менее широкий в плечах, такая же косая сажень. – И даже приволок кое– что! Фюрер будет доволен.
– А Фюрер че, сюда, што ль, явится?.. Много ж нам чести…
– Не– а, мы ему сами все принесем… на блюдечке!..
– С каемочкой из маленьких черных свастичек, да?..
– Не без этого…
– Блюдечко разрисовал?.. вали сюда…
– Держи карман шире, Люкс!.. Брызни глинтвейну!..
– Облизнешься и утрешься, Зубрила…
В огромной пустой, без мебели, комнате с грязными, в потеках, давно небеленными, не обклеенными обоями, обшарпанными стенами, – что было тут когда– то?.. контора?.. учреждение?.. офис?.. или, может, кто– то тут жил, обрастал хозяйством, вдвигал сюда человечьи коробки, шкафы, тумбы, иные ящики для хранения одежды и утвари, а потом люди умерли или уехали отсюда, а их обстановку разломали на щепки, сожгли в печах в лютые холода?.. – никто не знал… – толклись и бормотали, хохотали и ругались, готовили еду и мастерили: жили. Здесь собирались бритые скины, пили водку, писали свои песни, готовили корявые, неуклюжие тексты воззваний, шили флаги с черными крестами, учились бороться, дрались и возились, слушали новые кассеты с записями “Реванша” (“во дает Таракан!”) и “Герцеговины флор” (“ну, нынче чуваки что– то не в форме, что– то сдали немного они, пора на Канары, отдохнуть пора корешам”), приводили сюда девиц и раскладывали их прямо на полу, на двух черных тонких физкультурных матах, что притащены были сюда из школы напротив; сам дом, раньше жилой, в котором находилась комната, где не только собирались бритоголовые, но и обитали, жили два бродячих скина – Лемур, с глазами огромными, как у совы, приехавший из Красноярска, и Старый Пес, поименованный так из– за странного, прикольного лица, сильно напоминающего собачью печальную морду, – да мало ли чем тут занимались они! Самое забавное, что никто из скинов не знал, не помнил, как и когда появилась у них эта комната; кто за нее платил; и никто и не помышлял, что у них могут ее отобрать, или, еще хлеще, выгнать их всех отсюда. Они жгли свет, варили на старой электрической плитке еду, жарили в необъятной старой сковороде, найденной на свалке, вечную картошку, что в мешках с рынка приволакивали Лемур и Алекс Люкс, и в ус не дули. Время остановилось. Фюрер их опекал. Фюрер иной раз с царского плеча кидал им деньгу. А еще был Уродец. Чек. У Чека всегда водились бабки. За Чеком всегда стояла живая сила. Чек и сам был – сила, и его боялись. Боялись все, кроме Зубра. У Зубра с Чеком была война.
– Этот… страшный… приходил?..
Зубр подмигнул Алексу Люксу, шагнул через порог. Окинул придирчивым взглядом плакат с размахнувшимся по всему бумажному полю Кельтским Крестом.
– Недурно. Куда поволокем?
– На Щипок. Привесим на стену этого… как его… ну, институт там. Студентов куча. Пусть бегут мимо, читают.
– Жопы они все, твои студенты. Они ничего не читают. Они спят на лекциях.
Спят, чтобы в армию не идти.
– Наших половина в армии побывала.
– А я вот не был. И закосить, между прочим, желаю.
– А Чек вот был. И даже воевал.
– В какой там, блин, армии! Знаешь ты все!.. – Зубр аж задохнулся от возмущения. – Знаешь, где Уродец воевал? Вместе с боевиками бился, на Кавказе дрянном, на стороне чечнюков, против нас, блин! Против нас, русских, понял?! Да и сам– то он – еще проверить надо, русский какой!
Дверь распахнулась. Люкс, поддев носком массивного черного “гриндерса” лежащую на полу свежезакрашенную афишу, повернулся к вошедшему.
– Легок на помине, Чек, – насмешливо сказал он. – Классно, будешь богат и счастлив! Весь в шоколаде будешь скоро, блин! Щас только о тебе говорили!
– Я слышал, – беззвучно сказал Чек, делая шаг по направлению к Зубру. – Я все слышал. Иди сюда, дрянь. Я желаю поговорить с тобой. Без слов, сука, но от души.
Зубр не заметил, когда Чек, перекосив в ярости и без того страшное, искореженное, все изрезанное лицо, сделал молниеносный выпад. Они сцепились, впились друг в друга, обхватили друг друга руками и ногами, как два черных паука, и повалились на пол, и покатились – прямо под ноги другим скинам, что копошились в огромной комнате, хозяйничали, переворачивали ножом картошку на сковородке, сидели, скрестив ноги, на матах, слушая горланящую группу “Аргентум”: “Хальт! Хальт! Твой голос – альт! Хальт! Хальт! Два пальца об… асфальт!..”
– Два пальца об асфальт – это классно придумано, – задумчиво проронил Алекс Люкс, поводя под мокрой от пота черной рубашкой широкими, налитыми плечами, наблюдая, прищурясь, как Чек и Зубр катаются по полу и молотят друг друга. – Эй, друганы, только не до крови! Только не до крови! Ну до чего на кровь натасканы, прямо сладу нет!
Чек уже раскровянил широкоскулую рожу Зубра. Зубр был рыж и дюж, веснушки усеивали его нос и щеки. Размалеванные, обритые скин– девицы сходили по Зубру с ума.
– Я покажу тебе, ты, секс– символ сраный, – выбормотал Чек, слизывая кровь с уродливой, вывернутой, будто заячьей, губы, – я покажу тебе – “против нас, на стороне чечнюков”. Сука! Если тебе к поясу привяжут гранаты, связку гранат, и швыряют тебя, гогоча и матерясь, под танк, а танк прет на тебя недуром, грохочет, а ты бежишь на него… и тебе надо успеть, пока ты бежишь, отвязать гранаты от пояса и бросить их, и откатиться кубарем в сторону, и отползти, и убежать, житуху свою спасти, а бросать, сука, гранаты некуда, кроме как в этот танк, на тебя ползущий… ты, сука! Ты понимаешь это, нет! – Чек прижал тяжело дышащего, натужно сопящего Зубра животом к полу. Хрипя, ненавидяще смотрел в его веснушчатое лицо. – Понимаешь?!
– По– ни– ма…ю– у– у– у!.. Больно, пусти…
– Нет, ты не понимаешь, сука! – Зубр с ужасом глядел в нависшее над ним страшное, искаженное бешенством лицо, не вынес, зажмурился. – Ты не понимаешь! Ты не понимаешь, когда ты из– под танка, тобой взорванного, вылез, чудом остался жив, а чечнюки ржут как кони, тебя в охапку берут, тащат к себе в землянки, в домишки, что близ линии огня торчат – голые стены, мазанки, только от пуль и скрыться, зимой не печи, ни черта, холодрыга, только мангал горячий и спасал, они, собаки, мясо все время жарили, – вот тебя в такую хибару затащат, а там, блин, человек пятьдесят уже набилось, мангал горит, угли тлеют, мясо на шампурах жарится – какое, к чертям, мясо?!.. ну, догадайся?!.. а никто не знает, хоть башку на отсеченье, человечина или свинина, а они все уже перепились, все пьяные, им все равно… и меня выталкивают в круг, в пустое пространство: ты, пацан, танцуй! Станцуй нам танец, ты, кривой!.. ты же отлично танцуешь… Станцуй нам наш, кавказский!.. а мы тебе мясца подкинем… А у меня от голода, слышишь ли ты, сука, слюни текут прямо по подбородку… И я – танцую… Я – танцую, ты, сука, понял это?! Нет?! Еще скажи мне, что я – с ними – против – нас – сражался! Еще крякни, утка рыжая!
Чек размахнулся, чтобы ударить еще, и Зубр дернулся всем телом, выкатил глаза из орбит, заверещал:
– Не тронь, ты!.. Глаз выбьешь!.. зверь…
Чек опомнился. Сполз с распростертого на полу тела. Встал. Отер сведенное судорогой, страшное лицо ладонью, будто смывая грязь бешенства, гнева. Отвернулся. Скины притихли. Настала полная тишина. В тишине было слышно, как шипит на сковороде, пригорает картошка.
– Не буду. Все. Ты и так все понял. – Чек обернулся к притихшим, присмиревшим, наблюдавшим побоище, как драку диких зверей в цирке или американский триллер по телевизору, молчащим скинам. – Друганы. Все слишком серьезно. Все далеко зашло. Фюрер предлагает нам приготовиться.
Молчание повисело еще минуту, две. Потом от стены, с черного мата, там, где, приткнутый плотно к стене, стоял старый магнитофон– двухкассетник, из которого то лилась, то гавкала и лаяла, то взрывалась и надвигалась черной цунами резкая, дикая музыка, раздался хриплый голос:
– К чему приготовиться– то, Чек?
Спрашивал лысый молодой раскосый скинхед по прозвищу Композитор. Его имя в миру было Осип Фарада. Он доучился в Консерватории до третьего курса и был с треском выгнан ректором, как он с гордостью говорил всем, “за политику”, а на самом деле – за постоянные пропуски лекций и иных занятий. Музыкант он был талантливый, даже в органном классе занимался. Ректор потом пожалел, что вытурил его: “А может быть, он был гений!” Его песни пел сам Таракан. Он, сын русской проститутки и японца– бизнесмена, солист панк– группы “Коготь”, чудом остался в живых после разгрома группировки бандита Йорка. Композитор повсюду возил с собой гитару, не расставался с ней. Вот и сейчас она лежала, как деревянная нагая пышнобедрая девчонка, там, за ним, сзади, за его спиной.
– К Хрустальной ночи, – был ответ.
Чек делал непредставимое. Он гладил волосы и плечи обнаженной Дарьи. Слепая девчонка сидела, не шевелясь, на кровати; она обнажилась по его просьбе. Он сказал ей тихо, внятно: “Я трахать тебя не буду. Ты, в натуре, беззащитная, как мохнатка. Я просто хочу видеть твое тело. И немного потрогать его”. Слепая усмехнулась: потрогать? Знаем мы эти троганья. Но разделась в одно мгновенье, быстро, беспрекословно, будто бы он был хозяин, а она была рабыня.
Она уже сказала ему, что спала с попом– расстригой, с отцом Амвросием. Что она – девушка Амвросия, уж так вышло, так получилось. И что она совсем не хочет быть его девушкой. В комнате, которую снимал за копейку Чек у вечно пьяной старухи Пелагеи Власьевны во дворах на Большой Никитской, в старом мрачном, похожем на слона доме, было темно, глаз выколи. Глубокая ночь давила книзу черным камнем. Чек понимал: эту послушную слепенькую девушку имели все, кому не лень. Он ничего не знал о ней, кроме того, что она раздавала из корзины, сидя на сейшне великого Таракана, свет. Светильники и свечки. “Береженого Бог бережет, подумала монахиня, надевая на свечку презерватив”, – вспомнил Чек старый анекдот, и его рука вздрогнула на слишком, как слоновая кость, гладком плече слепой Дарьи.
Он потрогал плечо. Потом грудь. Она не застонала, не выгнулась вперед, не раздвинула ноги, не истомно заохала, как сделала бы всякая другая кошелка на ее месте. Она сидела неподвижно, как изваяние. Как статуя ихних каменных ли, бронзовых ли Будд в тех, чужих, пропахших сандалом храмах. Ему казалось – он гладил холодную бронзу. Нет, кожа была теплая, но такая гладкая, до того гладкая!.. У людей такой быть не могло. Ванны из молока принимает девка, что ли?.. или – из крови?.. “Из крови младенцев, твою мать”, – снова весело, хулигански подумал он, и улыбка защекотала ему губы.
– Эй, Дашка, слышь, – Чек подался к ней ближе, его лицо нависло над ней. Какое счестье, что она слепа и никогда не увидит, какой он урод. – Ты, что ли, фригидка?.. Или ты – на игле?.. Что ты сидишь как зомби, туда тебя так?.. А?..
Он шептал тихо, сбивчиво, отчего– то стесняясь. – Ну хоть кожей дрогни, что ли…
Он отнял руку. Вгляделся в ее лицо. Оно показалось ему в темноте круглой старинной медной монетой с полупрофилем древней восточной царицы.
– Я с нарками не вожусь, – тихо ответила Дарья, и во всем недвижном существе дрогнули, раскрылись только губы. Руки бессильно висели вдоль тела. Скрещенные колени торчали в стороны. От ее черных курчавых волос внизу живота пряно пахло морской солью и черемухой. – Я боюсь иглы. Мне предлагали. Не раз. Меня пытались уколоть насильно. Я отгрызла тому, кто хотел сделать это, палец.
– Палец отгрызла, вот это класс, ну ты даешь! – восхищенным шепотом выдохнул Чек и еще придвинул лицо к слепой телке. – А как ты к нам попала, а?.. Тебя этот… ну, твой… святой отец, что ли, к нам в Бункер приволок?.. Ты ж сама прийти не могла, по определению…
Смоляные волосы Дарьи внезапно вывалились из заколотого шпильками пучка, черными лианами заструились вниз по плечам, по груди, как живые. Чек очень ее хотел, он сознавал это. Его живой нож готов был вспороть ширинку. И все же он не делал резких движений. Он сам замер. Будто замерз. Его рука словно бы обрела отдельный разум. Действовала помимо него. Сама протянулась. Сама коснулась внутренней поверхности смуглого тонкого бедра. Сама скользнула вниз, глубже, нащупала влажные исподние кудри, пальцы поласкали, потом, дрожа, раздвинули чуть вывернутые кнаружи губы. У Дарьи вокруг женской расселины было все аккуратно побрито. “У, монголка, должно быть, это у них обычай такой… бреется, как блядь”. Чек всунул в горячую, мокрую тьму палец. Тяжело дышал, глядел на неподвижное женское лицо из– под опущенных век. Она чуть сжала ноги. Он наклонился и прижался губами к ее колену.
– До чего я… Ну поцелуй меня… Ну же…
Бесстрастное, недвижное лицо во тьме, будто лик Луны, плыло над ним, глядело вперед и вдаль, будто перед нею была не обшарпанная стена убогой меблирашки, а раскинувшаяся до горизонта, дикая ночная степь, и россыпи звезд над головой вместо трещиноватого потолка с засиженной мухами люстрой. Он задержал дыхание. Он мог бы запросто схватить ее за шею, изломать, скрутить, вонзиться в нее с размаху, как в добычу, и, может быть, ей бы это понравилось, степнячке. Почему он не делал этого? Что его останавливало? Он бы не мог это объяснить связно.
Вдруг Дарья обняла бедрами его руку, вздрагивавшую уже внутри нее, и стала отклоняться, заваливаться назад. Легла на постель навзничь, и Чек мог видеть ее лицо с приоткрытым ртом, блестящую в заоконном лунном свете подковку зубов, темные соски, странный, распахавший ее впалый живот надвое, безобразный шрам. Шрам на миг отрезвил его, испугал. Но – только на миг. Отчего это у нее?.. Кто– то поигрался пером? Неудачная операция?.. А, все равно. Она лежала перед ним, под ним, и соблазн был слишком велик. Он налег безобразными, искривленными губищами на вздрагивающий нежный рот. Его язык вплыл в ее покорно раскрывшийся ротик, и кровь темной волной затопила разум, мозг. Он весь обратился в то, что рвало, разрывало штаны там, внизу, между судорожно сведенными в струну ногами. Он стал рвать на себе джинсы, стаскивать их – неумело, нервно, одной рукой. Покрыл быстрыми, бешеными поцелуями ее лицо. Лицо – статуи?!
– Почему ты такая… послушная, Дашка… Почему ты… как мертвая…
Он застонал – она прикусила зубами кончик его языка. Он не понял, не помнил, когда уже не его, а ее руки стали нетерпеливо рвать ремень, “молнию” на джинсах. Его дубинка истекала соком, а девка все возилась, так ее и перетак! И все сильнее, все оглушительнее, как два барабана, бились о ребра сердца. Чеку казалось – он слышит грохот ее сердца.
Живой нож, выскользнув из матерчатых ножен, вырвавшись на волю из тюрьмы, ткнулся Дарье в губы. Чек уже стоял над ней, лежащей на кровати, на раздвинутых коленях, шептал: я хочу, чтобы он потрогал твои губы, чтобы он поцеловал тебя так, как целовал тебя в губы – я… Когда она умело, лаская и ритмично сжимая нежными, как лепестки, пальчиками его раскалившийся штык, взяла его в рот, посасывая нежно, как ребенок сосет леденец, он, закидываясь над ней на кровати на вытянутых руках, запрокидывая голову к потолку, понял: ему без этого рта, без этих ручек, без этих пальчиков, без покорно закрытых, как у спящего Будды, глаз – не жить.
Он еле успел вынуть себя из ее рта и всадить быстро, безжалостно, как нож – по рукоять, в ее увлажнившуюся гладкую расщелину. Два биения вверх– вниз, две судороги. И все было кончено. Крик, сотрясший комнатенку и всю старушечью рухлядь в ней. Нежный, тихий женский стон, втекший из губ в губы.
Он еще содрогался, лежа на ней, придавливая ее к старому матрацу своим жилистым, железным жгучим телом. Кончено… Конец… Начало…
“Это только начало”, – подумал он отчего– то со страхом. Начало – чего?..
Девка, это же просто девка, кошелка, телка, Чек…
Жидкое горячее олово жизни медленно, как смерть, перетекало из тела в тело.
– Дашка, – его хрип обжег ей искусанные, исцелованные им губы. – Дашка, эй, слышишь, скажи… А ты… Ты знаешь такого хмыря – по имени…
– Зачем, – ее шепот обвивает, обволакивает его. Ее ноги обнимают его, сплетаются у него над голой поясницей. Его штаны, что он не успел до конца сбросить с себя, смешно, идиотски болтаются на его щиколотках. – Зачем ты говоришь мне о всякой ерунде?.. о каком– то имени… Кто… что… не знаю…
– …по имени Ефим Елагин?.. Ну, крутой богач… Его вся Москва в лицо знает…
– Почему ты, – она задыхалась, лежал под ним, но, как и подобает рабыне, не выпрастывалась из– под него, не перечила ему, – почему ты спрашиваешь меня о каком– то человеке, которого я не…
Она внезапно замолчала. Он хорошо видел в темноте, как ее смуглое лицо смертельно побледнело. Он же не был слепой – он все видел.
Он еще теснее прижал ее своим телом к кровати. Он не выходил из нее, чувствуя, как живой нож опять наливается горячей сталью. Стал двигаться в ней, сначала тихо, потом все упорнее, все резче начал вдвигаться в нее, снова теряя голову от того, что там, внутри, она опять сжала его всеми узкими мышцами, она вся там, в красной тьме, была маленькая и тесная, все у нее, как у девочки, было узко и сладко, он любил таких, он всегда любил спать с молоденькими девочками. Она отвернула голову. Ее щека коснулась жесткого старого одеяла.
– Ты – да! – шепотом крикнул он. – Не нет, а да! Ты знаешь его! Ты знаешь Ефима Елагина!
Они опять раскачивались в едином мучительном ритме. Старая кровать скрипела. Пружины пели. На сей раз Чек понял – все будет сладко, мучительно и долго, и поэтому не спешил. Он хотел помучить ее собою, огромным и настойчивым, втискивающимся в нее так, что больно было ее голому лобку, всласть. Раздавить ее. Подчинить ее совсем, без остатка.
И чтобы она, его рабыня уже до конца, его, а не какого– то сучары Амвросия, все рассказала ему.
Мир тесен. Его посылают на дело. Он – орудие в чужих руках. Это ведь он на самом деле – раб. Это у него на самом деле – Хозяин.
– Ты… знаешь… да– а– а– а!..
Они сливались, срастались в неудержимом содроганье оба. Наконец– то он разбудил ее, спящую раскосую статую. Обливаясь потом, распластавшись на ней, в полной тишине – только свистело в каморе хриплое дыхание их обоих – он не услышал, скорее почуял:
– Ефим… Ефим Елагин… Если это он – то это он… Он, может быть…
Он сполз с нее, выдернул себя, дымящегося, из нее, упал на кровать, раскинув ноги и руки. Он понимал – он больше не кинет эту слепую раскосую курицу.
– Говори! Я… – Горло у него перехватило. – Если что – я тебя не выдам…
– Моя подруга, – тихо прошелестела Дарья, глядя вверх, в потолок. – У меня была подруга. Динка. Прелесть. Дикая собака Динка, прелесть. – Она подняла руку, во тьме рука белела, как белая длинная рыба. Она отерла ладонью пот со лба. – Я училась в Москве рисовать…и еще училась на актрису. А Динка кончила школу и нигде не училась. Она влюбилась. Без памяти. И забеременела… Она сказала мне, что забеременела… Это было еще до того, как моего режиссера убили… И я так обрадовалась, кричала: Динка, рожай! Это же так отлично, родить ребеночка… А она говорила: как Ефим скажет… Его тоже звали Ефим… И тоже – Елагин… А потом…
– Что было – потом?..
Чек почувствовал, как его голос сел, обратился в мерзкий сип.
– А потом… – Он видел, как ей трудно говорить. Пот стекал по ее щекам. Любовный пот. Или это были уже слезы? – А потом он ее убил. Она все говорила мне: я так люблю его, что я готова умереть с ним вместе!.. как Изольда с Тристаном, как Ромео с Джульеттой…
– А кто это такие – эти твои чуваки, ну, этот фраер Тристан, и эта… как ее… Зольда?.. На мине, что ли, в горах подорвались?..
– Какой ты глупый. – Она прерывисто дышала, и он понял: по– настоящему плачет! – Это любовники. Они жили раньше… умерли давно… еще до нас с тобой. До всех нас.
– Как он ее убил?.. За что?..
Его голос растаял во тьме.
Она глубоко вздохнула. Отерла висок от струящихся слез тыльной стороной ладони.
– Он обманул ее. Она мне сказала: мы решили оба умереть, я хочу умереть вместе с ним, если уж нам нельзя быть вместе! Я кричала, отговаривала ее… кричала: дура, он тебя обманет!.. А Динка пошла… И – не вернулась… А он… Он – остался жив… Остался жить… Сволочь… Своло– о– о– очь!
Внезапный крик, острый как нож, вспорол ночное темное пространство. Чек подумал: хорошо бы бабка Пелагея пьяная в дым была, не напугалась бы, не заколотила бы в дверь клюкой, отломанной ножкой стула. Он положил ладонь ей на губы. Дарья укусила его руку.
– Кусай, кусай, – пробормотал он, как бормотали бы собаке, – только, прошу тебя, не ори… Я все понял… Все…
Ни черта он не понял.
Какая– то девушка. Какой– то ребенок. Нерожденный, правда. Какое– то стародавнее убийство. Этот хлыщ, этот светский лев и владыка безумных денег, наложивший лапу на кучу концернов в России и за рубежом – он – убийца? Ну, примочил он какую– то никому неведомую Динку. Ну и что? Он, Чек, многих примочил. И что, теперь из– за этого хныкать, так? Вольному – воля… Этот Ефим, небось, после той несчастной девицы – ой как много народцу на тот свет отправил… Ой как много, немерено, человечков заказал… И киллерам, небось, щедро платил, не жмотился…
Нет. Ни пса не состыковалось. Голова скрипела и лязгала, шестеренки мыслей наползали друг на дружку. Зачем Хозяину было так томительно, так изощренно, так издевательски преследовать его, этого Ефима, царька московского? Зачем Хозяин так жестко, жестоко рубил воздух рукой: “Не убивать! Его – не убивать! Его – истязать! Пока не взмолится. Пока не почувствует, что его – загнали…” Он, Чек, в роли собаки, загоняющей волка, очень мило.
Голая слепая девушка рядом с ним, по имени Дарья, беззвучно плакала, раскосыми неподвижными глазами глядя в потолок.
– Мама, посмотри. Нет, ты посмотри только!
Ариадна Филипповна, подняв очки с толстыми плюсовыми стеклами на лоб, на гладко зачесанные седые пряди, оторвавшись от вязанья крючком – она терпеливо вывязывала из белых ниток себе на темное платье кружевной замысловатый, похожий на гигантскую снежинку воротник, – подслеповато прищурилась:
– Ну что там еще у тебя?.. Очередной номер своего дурацкого “Премьера” или этого банного “Пентхауза” приволок?.. Как вы любите все сейчас, я погляжу, голые телеса, попки, письки… Ох, Фима, страсть я не люблю смотреть на всех этих твоих красоток и красавцев… В “Караване историй”, вон, публикация стоит уже восемь тысяч долларов!.. ну куда это годится…
Отец, Георгий Маркович, дородный, с серебряными висками, с собачьими брылами под румяными, несмотря на обвислость, щеками, отдыхал, как и подобает банкиру, магнату, боссу, в роскошном мягком кресле, обитом, черт побери, не этим треклятым кожзаменителем, а натуральной тончайшей телячьей кожей – такую кожу, выделанную особым образом, можно смело пускать на простынки, не то что на обивку диванов и кресел. Он вскинул голову на ворчание жены. Ефим сидел за столом, перед ним в фарфоровой чашке – только что купленный у антиквара сервиз, настоящий Гарднер – дымился его любимый чай с бергамотом и с апельсиновой коркой, привезенный папочкой из Парижа “Сэр Липтон – колонист”, стояло блюдо с темными отборными финиками – финики он тоже очень любил, – а еще блюдечко с очищенными раковыми шейками – мамочка Адочка сама очищала, своими тонкими высохшими пальчиками, заботливая, наша мамочка – лучшая мамочка в мире, сынок, ты не находишь?..
Ефим, похоже, не собирался пить чай. Ни раковые шейки, ни бутерброды с икрой, столь же заботливо приготовленные и мерцающие на серебряном подносе – настоящий Филиппепи, только что из Флоренции! – ни торт, ни финики его не привлекали. Он, любитель поесть, попить, в заводи своей безумно– напряженной жизни, патриархального чаю с батюшкой и с матушкой, сейчас сидел за столом сам не свой, будто выпил горькую отраву, а не рюмку отличного, двадцатилетней выдержки французского коньяка вместе с отцом, для пищеварения, перед ужином.
– Мама, нет, ну ты взгляни только… Умоляю… взгляни… не поленись…
– Да я уже гляжу, – Ариадна Филипповна поджала тонкие губы, беря из рук Ефима фотографию и вглядываясь в снимок. Она еще не различала сфотографированного лица и фигуры в тусклом, медово– приглушенном свете вечернего бра, да и перед глазами мельтешили еще белые кружки, петли, лепестки и завитушки, поэтому все еще недовольным тоном произнесла:
– Голый тут кто– то, что ли?.. не вижу…
Когда она рассмотрела, поднеся фотографию поближе к глазам, и подняла лицо к Ефиму – Ефим поразился. На сухих тонких аристократических губах матери играла усмешка.
– Где ж это тебя, Фимочка, так изумительно нарядили? – протянула она удивленно– радостно. “Так, она воспринимает все это как веселый маскарад. Она не понимает, что это не я. Она думает, что это я”. – На каком таком празднике?.. И тебе не страшно цеплять на руку эту гадость… эту нечисть, свастику эту?.. Мы, поколение ваших отцов– матерей, против нее боролись… а вы, видишь ли, играетесь в нее!.. Ах, Фимка, Фимка… ну зачем тебе эти детские забавы… оставь их этим… бритоголовым… как их… скинхедам?..
Ефим поднял от чашки к чаем навстречу матери тяжелые, будто налитые расплавленным железом, глаза.
– Это не я, мама. – Ариадна Филипповна не узнала его голоса. – Ты пойми, что это не я. Осознай это. Я тебе говорю: это – не – я.
Отец перегнулся через стол. Прищурился. Издали разглядел фотографию. Зычно захохотал. Ефим с ужасом слышал, слушал его хохот.
– Черт знает что и сбоку бантик! – Георгий Елагин весь аж колыхался от смеха. – Умереть мне на месте! Ты! Да ведь это же ты, Фимка! Ну не актер же театра Сатиры, в конце концов! Или ты считаешь, что под тебя, дорогой мой, взяли и загримировали шоумена Сашу Гордона?! Где это ты, родимый мой, так чудовищно надрался, что тебя взяли, переодели и щелкнули, на потеху массам?! Ведь тебя сейчас, не ровен час, посредством этого снимочка так чудесно пропозиционируют, что хоть стой, хоть падай! – Елагин– старший прекратил смеяться. Отдышался. – Или тебя не пугает перспектива политического скандала? Или, милый мой, – Георгий Маркович подозрительно окинул безмолвного сына пристальным, рентгеновски– прощупывающим взглядом, – ты сцепиально на эту авантюру пошел? Но зачем тебе, такому разумному, такому, – он снова перевел дух, – рациональному, такому… подкованному как блоха, черт побери, во всех этих нынешних щекотливых партийных вопросах!.. зачем тебе, скажи ты мне, такая дешевка? Такая бодяга? Где, если не секрет, ты этак снялся? Может, забрел на “Мосфильм” ненароком… а?
Молчание растеклось по гостиной, как мед из хрустальной вазочки. Чай остывал. Ариадна Филипповна держала в руках вязанье, как белый флаг.
– Я говорю вам, что это не я. Это человек, как две капли воды похожий на меня, ясно?
Он говорил как глухим. Как умственно отсталым. Втолковывал. Слог за слогом. Букву за буквой.
– Это. Не. Я…
Елагин– старший дернулся всем телом. Искривил улыбку. Погладил кончиками пальцев серебрящийся висок.
– Брось врать… Это ты… Что я, тебя не узнаю?.. Твое выражение лица… Твои глаза… Морщинка между бровей, вертикальная, вот она… И родинка – вот! Вот! Адочка, посмотри, ну разве ж это не родинка нашего дурака Фимки, которого вся страна считает…
Кем вся страна считает Ефима, он не успел узнать из замолкших уст отца. Ариадна Филипповна перегнулась через подлокотник кресла. Выхватила из рук у мужа фотографию. Впилась в нее глазами. Под искусно наложенными на морщинистые щеки румянами было видно, как она побледнела. Провела по фотографии рукой, рукавом.
– Родинки тут никакой нет. Это была всего лишь черная шерстинка, я ее стряхнула, – сказала Ариадна Филипповна мертвым, бесцветным голосом. – Родинку можно нарисовать снова. Можно замазать тональным кремом. Можно намалевать на лице сто родинок. Но ведь перебитый нос ни за что не сделаешь. Ни за что. Ни за что.
Дрожащей рукой она вернула фотографию мужу. Указала сухими пальцами, цепко держащими костяной крючок, на перебитый – это ясно было видно на большой, хорошей портретной фотографии – свернутый набок нос. Парню, столь безумно похожему на него, видно, нос перебили в драке.
– И потом, подбородок. У Фимки раздвоенный подбородок. У этого – гладкий.
Голос Ады был ровен, тускл и тих, будто бы она, держа в руках тяжелый равновесный брус, шла по тонкому канату над пропастью.
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ. ЗЮЙД
“Я так хочу быть с тобой…”
Вячеслав Бутусов
…Он, как одержимый, делал эскизы. Такой заказ, разумеется, на дороге не валяется. Такой сумасшедший заказ!.. Такой монументальный заказ… Ну все, теперь он прославится. Тебе что, славы мало, старик?.. Ну ты, Тинторетто недорезанный, Рублев ты недоделанный… Микеланджело недобитый. Работай.
Работай! Еще эскиз! Бумага летит прочь. Не нравится! Порвать в клочья! А этот – хорош. Накладывай краску. Крепче держи карандаш. Художник, рисуй!
Одиннадцатая заповедь. Боюсь, я скоро не буду рисовать. Страх отнимет у меня силу.
Да нет, брось дрейфить, старик, заказ есть заказ, да еще какой – роспись храма в Иерусалиме. Не каждый мазила получает от судьбы такой заказ!
Он боялся. Он дико, как древние люди боялись леших, кикимор и чертей, боялся своих заказчиков. Так боятся дьявола во плоти.
“Какие же они дьяволы, дурень, они ж за твою Россию. За мою?! Международная мафия это, как все и вся. Пусть Россией не прикрываются. А тебе– то, старик, какое дело?! Тебе заплатят твои деньги, и гуляй, казак! Гуляй, все схвачено, за все заплачено! Или тебе еще что– то нужно?! Шматок вдохновенья, не правда ли?!”
Позвонили ребята– напарники, с кем он восстанавливал фрески в храме Христа Спасителя: “Эй, Витас, куда пропал? То ли зазнался шибко, то ли рассчитался уже?.. Что не являешься висеть в своей люльке?..” Он отшутился: болею, мол. “Знаем, знаем, как ты там болеешь! – заржал в трубку смешливый верзила Валя Любимов, которого все звали просто Валя Усатый. – Сколько баб там рядом с тобой в постельке болеет?.. Две?.. Три?.. Помни, браток, Бог троицу любит!..” Он отодвинул трубку от уха. Ему был неприятен чужой смех. Над ним – смеялись?.. “Отвали, Валя. У меня срочный заказ. Сижу работаю. И даже водку не пью, представь себе”.
Бабы, на удивленье, не звонили. Как вымерли все. Ах, великий и неподражаемый сексуальный художник Витас Сафонов, тебя, никак, все покинули. Временно? Хорошо бы навсегда. Тогда бы я, без бабьих виноградных гроздей, на меня навешанных, глядишь, и стал бы действительно великим художником.
Штрих. Еще штрих. Еще цветное пятно. К черту!
Он отшвырнул начатый лист с эскизом росписи. Телефон молчал. За окном его мастерской снова разлилась чернильная темень. А в Израиле уже тепло, уже апельсины зреют. Да там стреляют, стреляют опять, проклятье, стреляют всегда. Горячая точка планеты, так, кажется, идиотски привесили ярлык к этой земле?! А где она не горячая, старик? В Антарктиде?
Он ждал звонка только одной бабы. Эту женщину он ждал всегда.
Ангелина, позвони. Ангелина, Геля, сука. Я нарисую для тебя огромную красную Луну. Это будет нимб Бога твоего, попранного, распятого. И тебя, Ангелина, я изображу у ног Его там, в соборе, который подрядился расписывать, гори все синим пламенем.
Он, роняя по дороге бутылки со скипидаром и банки с разведенной краской, тумбы и подиумы, коробки с початыми и целыми тюбиками, ринулся к мольберту. Чистый холст. У него на мольберте всегда стоял чистый холст. Он схватил палитру, подцепил кистью жирный кус красной краски, ляпнул на девственную белизну холста. Как дефлорация, зло и весело подумал он, как красное женское чрево. Как это японцы называли женское лоно?.. Красный Пион?.. Рубиновый Грот?.. Как ни назови, все одно бесповоротно туда тянет. Все мы, мужики, хотим туда, в лоно, откуда нас исторгли когда– то, вернуться. Таков закон.
Он будто спятил. Кисть плясала по холсту, сама делала свое дело. Он мог работать с закрытыми глазами. Из– под кисти появлялось нечто страшное. Он работал на подсознании, освобождаясь от комплексов – так Ангелина его учила. Он лишь следовал ее наставлениям. “Когда тебе будет плохо, когда тебя будут осаждать немотивированные страхи, преследовать дикие видения – освободись от них. Дай себе волю. Не думай ни о чем, только дай себе выход. Выпусти свой страх, свою черноту из себя наружу. Кричи. Рви одежду. Бейся, катайся по полу, не бойся, это вовсе не постыдно. Подойди к мольберту и наноси на холст удары кистью, как если бы это был живой человек. У китайцев, для разрядки, есть ватная кукла, которую они бьют, лупят почем зря. Бей свой холст, терзай его. Ты не маньяк. Тебе не нужно убивать живого человека. Убивай черную краску. Убивай ее красной краской. Яркой красной краской”. Господи, как же он хорошо, просто наизусть, помнил все, что она ему говорила, внушала.
Какой она все– таки классный психиатр. Ей не стыдно за свое искусство брать такие большие деньги. Вон в Америке у каждого – свой личный психолог, психоневролог, все толпами бегут к психиатрам, потому что встает бешеный выбор: или ты назавтра сдохнешь от стресса или депрессии, или…
Или. Или. Он как безумный швырял краску на холст. Черное небо. Вот она, черная поверхность его фрески. Он сделает там так, в Иерусалиме. И вот Он, Бог, идет босой по облакам. Но Он – невидим. Его никто не видит. Видят только нимб, красный огромный нимб над Его незримым затылком. Луна. Она уже взошла на ночной небосвод. Южная, громадная, иерусалимская Луна. Красный апельсин. Красная раскаленная на древних угольях сковорода. Кого на тебе зажарят, Луна?! Кого принесут в жертву?! Древние любили свежее мясо. А мы?! Мы – любим?!
Когда внезапно зазвонил брошенный на диван сотовый, его резко шатнуло назад, и он чуть не упал через валявшийся на полу открытый этюдник. Красные потеки стекали вниз по холсту, расчерчивали мрак. Он схватил трубку. Весь покрылся потом, с ног до головы.
– Але! Але! Сафонов слушает!
Когда он услышал голос в трубке, он чуть не потерял сознание.
– Ангел мой, – только и смогли прошептать губы.
Она была одна.
Она наконец– то была одна.
Как хорошо жить одной, одной в роскошной, ухоженной квартире, и тебе никто не мешает, не мельтешит под ногами, и ты испытываешь полное счастье – оттого, что владеешь своим временем, оттого, что идешь в ванную босыми ногами по мягкому ворсистому, как весенний луг, ковру, что накладываешь на лицо дорогие кремы, направляешь на лицо душ, и еще струю – туда, в низ живота, и – чуть раздвинуть ноги, чтобы приятно пощекотать себя ласковой теплой водой. Ляжки раздвинуты. Принимай поцелуи природы. Легкие поцелуи воды. Они чище и слаще мужских. Все мужики – козлы, и ото всех них плохо пахнет.
Ангелина жила одна. Все ее время, включая и ее больничное, рабочее, принадлежало ей. А уж у себя дома она чувствовала себя полновластной хозяйкой, веселой барыней. Дочь училась в Сорбонне, после того как прошла курс наук в Америке, в Гарварде; дочь усиленно хотела остаться за границей, да вот беда – никто не брал ее замуж, а ей, видно, хотелось, у всех девушек одно желанье на уме. Ангелина особенно и не огорчалась: дура девка, молоденькая идиотка, куда в ярмо хочет шею совать, еще наживется!.. – а втайне рада была, что взрослая дочь торчит далеко, отсюда не видно, не надоедает ей. Она, тиранша и стерва по натуре, любила быть, жить одна. Распорядок дня у Ангелины был жесткий. Вставала она по будильнику каждый день, и в воскресенье, в шесть утра, зимой – затемно. Выпивала, как царица Екатерина Великая, две чашки крепкого, двойного кофе без сахара – и садилась за компьютер. Ей всегда не хватало времени, и она смеялась, выпивая свой вечный кофе: о, почему в сутках не сорок восемь часов!
Ведь еще ко всему прочему, кроме спецбольницы и диссертации, она еще была и психолог– практик.
Психотерапевт у целого созвездия богатых, ну просто очень богатых людей Москвы.
У нее, у Ангелины Сытиной, доход был выше дохода хорошего столичного адвоката.
Что она, при таком– то положении и доходе, делает в этой своей дерьмовой больнице, черт?.. Вылавливает материал. Вот – выловила.
Губы, намазанные розово– малиновой, с перламутром, помадой, изогнулись насмешливо. Она рассеянно, глядя в окно, за которым зимнее солнце заливало асфальт и редких утренних прохожих, постучала пальцем по крышке “ноутбука”, и длинный, хищно загнутый ноготь, как кастаньеты, зацокал: цок– цок. Как ее каблуки. Она всегда носила туфли на высоких каблуках. Шла по коридору своей занюханной пыточной больнички как царица.
Она наконец допишет диссертацию, и они с Евдокией слетают во Францию, в Камарг, поглядят на великолепных камаргских лошадей, а то и покатаются на них, и она, и ее Дуська прекрасные наездницы, позагорают, полюбуются на цветущий миндаль, а потом рванут на юг, к морю, в Ниццу, в Тулон… А может, взять недельный отпуск – удрать из опостылевшей больницы на целую неделю! – и махнуть в Святую Землю? Там сейчас ее старый друг, ее бывший пациент какой– то храм будет расписывать. Они созванивались недели две назад, он ей сам сказал. Ах, Витас, Витас, бедный Витас. Какая невообразимая куча секс– комплексов была у бедняги! Ну и намучилась она с ним! Он, художник с талантишком маленьким, но юрким и подвижным, как мышиный хвостик, умудрился сделать из дерьма конфетку, прогреметь, воссиять, стать столь же известным, как знаменитый Судейкин, но только его известность держалась на скандале – на его скандальных эротических полотнах, на попках и письках, что он писал, как проклятый, все время, днем и ночью, бесконечно – он писал и писал, сходя с ума, голых баб, страшных, окровавленных, стонущих или дико смеющихся, с множеством грудей и вагин, с раззявленными в сладострастном крике ярко– алыми хищными ртами… Он обратился к ней инкогнито. “Вылечите меня, умоляю вас! Облегчите мою участь! Я не знаю, куда мне спрятаться от них! От этого кошмара! Они преследуют меня… они нависают надо мной ночью, кричат надо мной, хотят меня пожрать, избить… уничтожить!.. Я заплачу любые деньги!” Ей пришлось немало повозиться с живописцем. Она вылечила его. Она переспала с ним ночь, но не стала его любовницей, хотя он был бы не прочь. Она сделала проще и жесточе. Она, не даваясь ему, ускользая от него и из– под него, привыкшего, приученного к тому, что все женщины без исключения под него ложатся с восторгом и визгом, влюбила его в себя безумно. Он писал ее портреты по памяти; он писал ей страстные, сумасшедшие письма. Ей это льстило. Я – источник твоего вдохновения, что может быть почетней, я – муза, смеялась она! Ее улыбка напоминала ему оскал тигрицы. Его длинные романтические волосы напоминали ей гриву льва. “Прелестный мальчик, – подумала она о нем благосклонно, – сумел так разрекламировать себя, что заказы сыплются ему не в горсть, а в пригоршню”. Скорей всего, Витас уже вылетел туда, в Иерусалим. Он обещал прислать открыточку или звякнуть оттуда, из отеля. Он звал ее туда – что ж, может, именно туда она и полетит.
Но этот юный идиот в ее больнице, этот скинхед, этот…
Она закрыла глаза.
Вцепилась пальцами в крышку “ноутбука”.
Перед глазами отчего– то встал огромный, огненный, охваченный пламенем крест.
Улыбка тронула ее губы. Она прошептала:
– Те… Те, кого мы убили… Те, кого мы убили ради того, чтобы другие – жили… Вы – где?.. На этом кресте?.. Четыре стороны света… Четыре руки у креста… Четыре… Свастика – тоже четыре, только – ноги… Она бежит… Бегу и я… Куда?.. Что ты забыла в той палате, где лежит этот пацаненок?.. Что с тобой?.. С твоим сердцем?.. Неужели ты приклеилась к нему хоть полосочкой своей кожи?.. Если это так, тогда ты – дура… Ты, Ангелина, круглая дура… Берегись… Борись… Он для тебя должен остаться только лакомой конфеткой… Только – сладким цукатом… Помни, сладким цукатом!.. Ам – и съела…
Она рассеянно и брезгливо, будто сырую рыбу, взяла со стола сотовый телефон и набрала номер Сафонова.
– Это я, – сказала она весело. – Привет. Ты еще не улетел в свой Иерусалим?
Тишина. Ничего, кроме тишины. Потом далеко, в ином пространстве, послышалось тихое: “Ангел мой”. “Хм, я для него все еще муза. И все еще вожделенная, у, сексуальный маньяк”, – насмешливо скривила она перламутровые губы.
… … …
– Это ты подбросила мне фотографию, паскуда! Ты! Ты! Ты!
– Я не паскуда. – Цэцэг резко обернулась к Ефиму от зеркала, перед которым прихорашивалась, чтобы ехать на ипподром. Она ехала не на скачки, не играть, не ставить на самую быстроногую лошадку, не испытывать судьбу – она ехала сама скакать на лошади, лошади были ее невероятной, ее самой большой страстью после денег и мужчин. – Паскуда тот, кто может так говорить своей женщине. Впрочем, Фима, я отнюдь не твоя женщина. У меня, дорогой, все– таки, как– никак, своя жизнь, свой дом, свой муж, – она подчеркнула это “муж”, – свои планы, свои пристрастия. И попрошу…
– Я – одно из твоих пристрастий, да?! – Елагин яростно рванул ее за руку от зеркала. Сорвал у нее с головы кокетливую жокейскую шапочку. – Брось, Цэцэг! Хватит игрушек! Фотография вывалилась из твоей сумки, я видел! И потом, я спрашивал Леру Холодец, она как раз стояла там, рядом с нами, на лестнице, и она подтвердила – из твоей!
– Подтвердила? – Цэцэг заправила черные змеи волос за уши. Заколола в пучок на затылке, держа длинные, будто японские, шпильки в зубах. Процедила сквозь зажатые в зубах шпильки: – Из моей? Точно? Или как будто? Как сказала тебе Лера Холодец?
Она была так спокойна, так железно– невозмутима, что Ефим содрогнулся. “Вот Чингисханша”, – растерянно пронеслось в голове.
– Как будто…
Цэцэг вколола в волосы последнюю шпильку.
– Вот это больше похоже на правду. Подслеповатая кротиха Холодец могла увидеть, а могла не увидеть. Знаешь, какая у нее близорукость, на минуточку? Минус восемь. А она, дура, не носит ни очки, ни линзы.
– Цэцэг, – он схватил ее за локоть, приблизил ее к себе, такую горделиво– надменную, такую озорно– мальчишескую в костюме для верховой езды, – Цэцэг, прошу тебя… Если ты что– то задумала плохое – скажи… Это же настоящий шантаж, я же понимаю. Мать увидела тут, на фотографии, перебитый нос. Я – не вижу. Никакого перебитого носа. Это я, вылитый, собственной персоной. И что? Кому это нужно? Кому нужен я – в таком виде? Смешно… глупо. – Он перевел дух. – Это точно не твоя глупая шутка?
Цэцэг вырвала локоть. Глянула на золотые часики на запястье.
– Конечно, не моя. Хочешь со мной – поехали. Шофер заждался. Мы опоздаем.
– Хочу. – Он извинительно погладил ее по локтю, что так яростно сжимал полсекунды назад. – Ты сегодня с шофером?.. Не сама?..
– Когда я веду машину, я жутко устаю. В центре сейчас такие пробки. А мне надо быть на ипподроме резвой и полной сил. Сакура так безошибочно чувствует мою усталость. И начинает нервничать, брыкаться. А я люблю, чтобы у меня с лошадью было все о’кей. Контакт без сучка без задоринки.
Когда они оба, одевшись, подошли к двери ее квартиры, пахнущей лавандой, сиренью и персиками – Цэцэг любила цветочные ароматы, всюду разбрызгивала дорогие духи, – он внезапно опять остановил ее, вцепившись ей в плечо. Приблизил губы к ее уху. Зашептал жарко, настойчиво:
– Ты знаешь, кто это? Кто это мог сделать? Кто это… сделал?.. Знаешь! Знаешь, не ври! Скажи! Скажи мне…
Она усмешливо глянула на него, отпирая замок. Щеки ее лоснились, розовели. Жемчужные зубы смеялись. Узкие глаза резали его двумя черными лезвиями вдоль и поперек.
– Знаешь, как эти, бритоголовые, говорят сейчас?.. Ты достал меня, мне кирдык, все, кореш, давай без базара.
Смеясь, она подставила ему румяные губы для примирительного поцелуя.
… … …
“Расскажи мне все”.
“Я расскажу тебе все. Если ты хочешь, я расскажу тебе все”.
Ночь. Тьма. Его палата. Соседи по палате спят. Солдат не спит. Он смотрит в потолок. Он вспоминает бои? Он видит виденья наяву? Он молится? Федя Шапкин храпит громко, на всю палату. Ленька Суслик дрыгает ногой во сне, что– то бормочет. Что, если кто– нибудь из них все– таки не спит? Почему она по ночам приходит к нему сюда, а не берет его с собой в пустую ординаторскую, в свой кабинет? Боится? Чего? Подглядывания? Огласки? Скандала? Она не робкого десятка. Она смелая. Очень смелая. Она слишком смелая и слишком жестокая. Зачем она приказала вчера снова повести Лию Цхакая на ЭШТ?
У Лии отросли волосы. Как быстро отрастают волосы у женщин! А его снова велели побрить. Санитар Тихон, дюжий амбал, брил его старой, верно, тридцатых годов, машинкой так грубо, что ему казалось – Тихон снимает с него скальп.
Ночь. Луна в окне. Их любовь. Да, это любовь, он уже понимает, что это любовь, и от этого уже не отвертишься. Кто был у него до сих пор? Девчонки– молокососки? Наглые обпившиеся и обкурившиеся, татуированные с ног до головы девицы из Бункера? Случайные шлюшки с бульваров? Он еще не знал Женщины. Судьба дала ему прямо в руки Женщину и сказала: бери. Владей. Держи, покуда руки не обожжешь. А обожжешь – так не кричи, не вопи на весь свет.
Ночь и Луна, и Луна слегка розовеет, наливается кровью небес. Она цвета йода. Когда– нибудь, в далеком будущем, схожем с далекой древностью, она станет цвета Ангелининых волос. “Ангел, Ангел”, – шепчет он, они оба лежат на полу палаты, прямо на голом полу, без матраца, без простыни, без ничего, и его нога закинута на ее обнаженный бок, и ребра вдавливаются, как раскаленные прутья, в ее мягко– упругую высокую грудь, и пальцы мнут, как скульптор – глину, ее тонкую сильную, с играющими мышцами под кожей, талию. “Никогда не зови меня так”, – шепчет она ему в губы. Он со стоном приникает к ней, он изливается в нее, он изламывается в великой, бесконечной судороге счастья, и она, не отнимая губ от его рта, еле внятно шепчет снова: “Расскажи мне все”.
И он рассказывает ей все.
Он рассказывает ей все о движении. О том, кто они такие здесь, в России, и в мире. Neue Rechte – Новые Правые, так теперь называются они, и их совсем не надо путать со зверем Гитлером, со зверем Пол Потом, со зверем Чаушеску, со зверем Пиночетом, – а впрочем, мы сами сделали Гитлера зверем, а он был, кроме политика и военачальника, еще и мыслитель, кто ж виноват, что его мысли взошли на неудобренной как следует почве, взошли криво– косо, не так, как надо? “А вы сделаете так, как надо?..” Мы сделаем так, как надо. Иначе все погибнет. Мир движется к концу, к гибели в Огне, это еще и в Апокалипсисе сказано, и Нострадамус предсказал… “Ты знаешь, кто написал Апокалипсис? Ты читал его? Ты знаешь, кто такой Нострадамус?..” Нет, смутился он, нет, я не знаю, кто такой Нострадамус. Я только верю тому, что говорит Хайдер. “Кто такой Хайдер?” Хайдер – это Фюрер. Это наш Вождь. Он великий. Он знает Путь.
И он все рассказал ей про Путь.
Все, что знал.
И про то, какие силы они уже собрали под свои знамена.
И про то, что Хайдер хочет всерьез побороться за власть.
Она, держа его в объятьях, слушала его. Как она умела слушать! Потом грубо оттолкнула, вырвалась из– под него, отерла потный живот руками, застегнула на груди, на животе халат.
– Ты халат запачкала, – тихо сказал Архип, дотрагиваясь до снежно– белой, накрахмаленной ткани. – Ты…
– Не бери в голову. Отстирается. – Ангелина легко ударила его по руке, стряхивая с себя его руку, как паука, скорпиона. – Тише! Говори тише. Мне кажется, Суслик проснулся.
– Ангелина, – сказал он беззвучно, приблизив к ней лицо, следя в темноте за скользящим, убегающим взглядом ее широко расставленных кошачьих глаз. – Я тебе… я тебе все, как на духу… Но ты же не агент… Ты же не агент, да?.. Ты же – не сдашь меня… Наше движение в России запрещено. Мы – закрытое общество. Мы…
– Веди меня туда.
От неожиданности он опустился на корточки, так, на корточках, сидел перед ней, выпрямившейся во весь рост, расчесывающей темно– красные, гладкие волосы. Она уложила волосы в пучок, заправила под белую врачебную шапочку.
– Что?.. Что… ты сказала?..
– Веди меня туда. К своим. Я хочу вас всех видеть!
– Тише, тише, тише…
Она тоже опустилась перед ним на корточки. Он изумленно глядел на нее, на ее лицо, ставшее внезапно не тигрино– хищным, а озорным, как у подзаборной девчонки.
– Я хочу вас всех видеть, – повторила она твердо, вполголоса.
– Как? – У него задрожали руки. – Я же здесь… меня же отсюда не выпустят!.. Я – пленник…
– Пленник? – Сидя на корточках, она опустила руки ему на плечи, и ее ладони, казалось, прожгли его больничную пижаму. – Это твой миф. Его придумали для тебя те, кто стоит на пирамиде выше тебя. Стань выше их.
– Как?!..
– Я тебе помогу. – Ее глаза опять заблестели зелено, фосфорически. Хищно раздулись ноздри. – Я выну тебя из больницы на вечер. Никто не заметит. Только на вечер, слышишь. Я дам тебе телефон. На остаток этой ночи. Созвонись… с кем надо. Лишнего не болтай. Скажи: “Я приду к вам вместе с верным человеком, меня отпускают, но мне надо вернуться”. Если ты помнишь телефонные номера, конечно.
Архип почувствовал, как горло перехватило, как душащая петля захватила шею и поволокла вбок. Он рванул воротник пижамы, потную майку на груди.
– Ангелина… а ты не шутишь?!
– Шучу. Конечно, шучу. А мы с тобой, мальчик, вместе пошутим над теми, кто владеет нами. Держи телефон. Завтра утром, рано, до обхода, я принесу тебе твою одежку. Я сама ее почистила. И твои “гриндерсы” тоже. Все твое скиновское добро лежит у меня в шкафу.
Она вытащила из кармана халата телефонную трубку. Кинула Архипу, как в цирке. Он неуклюже поймал на лету, чуть не выронив ее, чуть не разбив об пол. Она повернулась и пошла вон из палаты – босиком, чтобы не цокать каблучками. Свои модельные туфельки она держала в руке. Кажется, она что– то тихо напевала, еле слышно.
Он тупо глядел ей вслед.
“Бесценный материал, бесценный, воистину бесценный. Я должна туда попасть. Должна. Должна. Только не обманывай себя, что это все тебе нужно, волчица, для твоей диссертации! Это просто нужно тебе. Тебе самой. Как воздух. Как ветер. Как жизнь. Как живой острый штык этого бедного мальчика. Как эта зловещая Луна в окне”.
… … …
Ахалтекинская белая лошадь нетерпеливо переминалась с ноги на ногу перед одетой в жокейский черный костюм Цэцэг. Монголка успокоительно оглаживала ее по спине, по потной грациозно выгнутой холке.
– Ну– ну, Сакура, не играй, детка, не волнуйся… Я с тобой… Сейчас поскачем…
Цэцэг любила быструю скачку. Круг за кругом она делала по ипподрому, низко пригнувшись к холке лошади, крепко сжав бедрами и лодыжками горячее, ходящее ходуном лошадиное тело. Ефим в это время, как и подобает настоящему мужчине, отнюдь не сидел в рядах амфитеатра, а скакал рядом с ней. Вот и сейчас он, на коне по кличке Боинг, гарцевал рядом.
– Не копошись, Цэцэг! Давай живей! И поскачем! Время, время…
– У тебя все рассчитано по секундам… жмот!
Как подброшенная пружиной, она вспрыгнула в седло. Сидела в нем, как влитая. Елагин понимал ее страсть к лошадям. Степная кровь искала выхода – и находила его. Бешеная скачка, пусть не в широких и вольных степях – на ипподроме, остро пахнущем опилками и конской мочой, вливала в нее свежесть, новые силы. После катания на лошади она хорошела, как после любви. Цэцэг и лошадь – о, это было одно. Женщина– кентавр. Женщина– Чингисхан. Да, такою вполне могла быть дочь Чингисхана. Такой раскосой… бешеной… выносливой… такой белозубо улыбающейся, хохочущей, оборачивая голову на скаку: попробуй догони!
– Догоняй! – крикнула она и ударила Сакуру пятками по бокам. Лошадь взяла с места стремительно, рысью, Цэцэг обняла ее за лоснящуюся шею. Ефим поскакал за ней. У Боинга был хороший аллюр. Уже через минуту кони шли вровень, голова к голове. Ефим, обернувшись, мог видеть лицо Цэцэг.
– Ты что– то побледнела! – крикнул он ей на скаку. – Даже скачка тебя не румянит! Плохо спишь ночи?
Цэцэг не отвечала. Сморщила короткий нос. Смотрела вперед. Ее глаза, сузившись до предела, превратились в черные кедровые иглы. Вдалеке от них, скачущих, на ипподромном поле, слышался грубый окрик жокея: “Где вальтрап?! Только что был здесь! Кто стибрил!”
– Эй, подруга! – Копыта стучали по дорожке ипподрома часто и глухо; так стучит сердце. – Хочешь загореть? Эй, слышишь меня!.. Полетим на юг?.. – Конь скакал по ним резво и весело, как бы играючи, он видел сверху, как шевелятся его уши, раздуваются ноздри, ловя воздух. – Завтра билеты возьму! Неделя счастья нам не повредит! Скажешь мужу… что летишь с подругой!.. на песочке поваляться, апельсинчиков пожрать…
Она обернулась, опять опередив его. Белые зубы сверкнули на смуглом лице. Сейчас она была похожа на мальчика.
– Я ему и всю правду могу сказать! Что я с тобой лечу! Куда?! В Египет?!.. На Лазурный берег?.. он мне опротивел, там одни “нью рашн” шатаются…
– Нет! К черту Лазурный берег! К черту Ниццу! Она мне и самому надоела как собака! В Иерусалим!
Лошади взрывали копытами песок, опилки. Пришпорив коня, Ефим снова догнал белошкурую Сакуру.
– О, в Иерусалим?.. – Цэцэг, пригнувшись к холке лошади, дышала тяжело, хватала ртом воздух. – Эк куда тебя потянуло! Ну да, это мысль… пока там очередной войны еврейско– арабской не грянуло…
“Моего коня зовут Боинг, – подумал он с внезапной злостью, – не могли лучше животину назвать”. На миг ему представились эти два несчастных небоскреба, каменные свечки Всемирного Торгового Центра в Нью– Йорке. Два “Боинга”, полные людей, врезались в них.
Почему ты об этом думаешь? Ты разве причастен к этому делу?
Ты причастен ко многому, Ефим Георгиевич. Не ври себе. Не закрывай сам себе глаза, уши и рот ладонями. Ты все видишь и слышишь. Если тебе выколют глаза и отрежут уши, думать– то ты не перестанешь все равно.
– Так я беру билеты?!
Лошади шли голова к голове. Далеко на поле безбожно матерился жокей. По затылку Цэцэг он понял: брать. Затылок лоснился, поблескивал благосклонно.
… … …
Он набрал телефонный номер, который он знал наизусть.
Он произнес в трубку слова, прямо под ее хищным, внимательно– насмешливым прищуром – единственные слова, что ему надлежало произнести Фюреру своему.
Он услышал в ответ то, что он должен был услышать.
Хайдер не удивился. Хайдер не ругался. Хайдер не кричал. Хайдер не молчал. Хайдер сказал четко, ясно, внятно: “Ты где? С кем? Хорошо, что жив. Приезжай. Сегодня как раз мы обсуждаем в Бункере возможность ближайших организованных выступлений. Время приходит. Отлично, что ты объявился. Когда тебя ждать? Ты будешь один?”
И он ответил так же четко, холодно и внятно: “Буду в семь. Не один. С верным человеком. Хайль!”
И Хайдер больше ни о чем не спросил его.
Он протянул мобильный телефон Ангелине. Она положила его не в карман халата – в сумочку. Сбросила халат, и ему смертельно захотелось сбросить, дальше сорвать, стащить с нее платье. Он судорожно сглотнул. Поймал ноздрями аромат пряных духов, исходивший от нее. Почему она душится арабскими духами, духами черномазых? Она должна душиться нашим, родным российским “Лесным ландышем”.
Она насмешливо смотрела на тупорылые черные кожаные морды его запыленных “гриндерсов”.
– Протри тряпкой, – услышал он далеко над собой ее надменно– ледяной голос, – тряпка в шкафу.
Он послушно исполнил, что она велела. Выпрямился. Ее длинные желтые рысьи глаза ударили его наотмашь, и он пошатнулся. А может, он покачнулся от слабости, он просто хотел есть, их тут так дерьмово кормили, в этой ее то ли тюряге, то ли больнице.
– Мы поедем в метро? – глупо спросил он.
– Мы поедем на машине, глупый щенок. На моей машине, – внятно, как недавно Фюрер, чеканя слоги, произнесла она. – Твой шеф не удивился тому, что ты жив?
– Нет.
– Молодец твой шеф.
– Фюрер.
– Молодец твой Фюрер. Я увижу его сегодня?
– Ты сегодня увидишь всех.
У него сильно забилось сердце. Всех. Она увидит всех. И он увидит всех. Он увидит всех, и Фюрера и Дегтя, и Баскакова и Паука. Он увидит Чека и Дашку. Фараду и Зубра. И всех скинов. И всех новых, кто влился в движение за это время. За то время, пока он телепался тут, в вонючей больничке, дергался под ударами электрошока. Клянусь Одином, Валхаллой, свастикой и святым Кельтским Крестом, он сегодня даст деру от нее. От Ангелины?! Да, от Ангелины. Он выпрыгнет из ее машины на ходу. Чтобы больше к ней, сюда, никогда не вернуться. И она никогда не узнает, где у них Бункер. Где у них Ставка. Где таится Хайдер – до поры до времени. До поры. Ишь, губу раскатала. Никогда…
Никогда?!
Холодный пот облил его спину. Он услышал над собой ее голос – опять будто издали:
– Что, подумал о том, как сбежишь от меня? Только не ври мне. Я вижу тебя насквозь.
Он выпрямился. Усилием воли прогнал туман перед глазами.
– Я хочу есть, – сказал он тихо. – Меня затошнит в твоей машине. Дай мне чего– нибудь пожевать. Чтобы я не свалился там… в Бункере.
Она пожала плечами. Вынула из сумочки пакет, развернула. На него опьяняюще пахнуло копченой осетриной, помидорами. Он смотрел на ее грудь в вырезе изящного, строгого темно– зеленого, как малахит, платья.
– Слюнки текут?
Он схватил бутерброд с осетриной. Вонзил в него зубы. На миг ему показалось – это он в нее вонзает зубы, в нее.
Они все были здесь. Как он и предполагал.
И романтический Деготь. И бешеный жестокий Баскаков. И Алекс Люкс. И Паук. И Хирург. И Васильчиков. И все его ребята. Фарада только вздрогнул, поглядев на него и на Ангелину рядом с ним, и его черные глаза сначала вспыхнули, потом резко потемнели. Сколько глаз, сколько разных глаз глядело на него! И никто не произнес ни слова. Говорили глаза. Глаза кричали ему: ты восстал из мертвых, Косов, значит, ты почти что Бог. Каждый человек может стать Богом. Нас так учил Хайдер. И все Фюреры на свете. Если ты восстал из мертвых – мы пойдем за тобой.
Глаза. Глаза. Десятки глаз. Сотни глаз. В Бункере было темно – Фюрер распорядился не жечь свет. Он тут был краденый, и тайный счетчик могли засечь на станции. Исключение делали только для концертов, когда надо было врубать на полную катушку аппаратуру. Глаза. Глаза. Что такое глаза? Глаза – это чертово зеркало души?! Ни черта. Глаза – это маска, надетая на душу. Это пальцы, которые тебя ощупывают. И ты сам хочешь зажмурить веки. Ничего не говорить. Молчать. Убежать от них.
Голубые глаза Хайдера. Чуть раскосые и сильно голубые. Как он ощупал его всего глазами! Будто раздел и обыскал. Вмиг. И ее – Ангелину – тоже. Над красивым декольте платья Фюрер обнаружил не лицо светской дамы или тупой простушки – лицо царицы. Что через миг– другой запросто обратится в морду тигрицы.
И это Хайдера устроило. Это Хайдеру понравилось. Архип видел это.
Что ж, на это он и рассчитывал. “Кошка – наша. Умеет по– нашему мяукать. Я же говорил…”
Его шатало от езды в машине. От запаха осетрины – он преследовал его. От запаха ее пряных противных африканских духов. Белая женщина не должна душиться духами черножопых. Это претит белой женщине. Истинная арийка…
Ему вспомнилось, как еще до побоища на рынке он с Зубром здесь, в Бункере, залез в Интернет и отправил письмо немецким скинхедам. Письмо было бодрое и доброе. “Здравствуйте, дорогие немецкие скинхеды! – старательно, высунув язык, набирал на компьютере Зубр. – Пишут вам ваши славянские братья– скинхеды. Мы тут у нас в Москве мочим всяких наглых чурок, ниггеров и жидов, и вы, наши дорогие братья, делайте там, в Германии, то же самое. Напишите, как вы живете? С братским приветом ваши братья– арийцы, славянские скинхеды”. Они и ответ из Германии выудили – и чуть было не расчувствовались, да немецкого оба не знали, пришлось Хайдера звать, он им текст ответа перевел, и они так и застыли перед монитором с разинутыми ртами. “Здравствуйте, русские скинхеды! Мы рады тому, что вы у вас, в вашей Москве, мочите всяких поганых ниггеров, чурок и жидов, но что это вы называете себя нашими братьями– арийцами?! Никакие вы не арийцы, а вы поганые грязные славяне и будущие наши рабы, вот вы кто! И мы, когда перебьем у нас всех наших черножопых, тут же подадимся к вам – бить вас, грязных русских свиней, чтобы и духу вашего не осталось на нашей чистой арийской планете. Пока. Ваши настоящие арийские скинхеды, Новые Правые”. Он, Архип, долго думал: как это могло быть? Мы – арийцы, вы – арийцы, они – не арийцы… Кто же – ариец? И кто же – чист? И кто же – настоящий? Он чуть голову себе не сломал. Свою бритую долыса голову. И бросил думать, почувствовав, что сходит с ума.
– Тишина, – медленно, тихо сказал Хайдер, взойдя на трибуну, возвышаясь над всеми, расставив ноги, уткнув кулаки в бока. Сегодня он был при полном параде – в черных штанах– галифе, в черной рубахе, и рукав рубахи был перехвачен белой повязкой с красным кругом, и в круге топорщился, топырил ноги черный священный Кельтский Крест. Знак священной смерти. Знак жизни, борющей самую последнюю, черную смерть.
И Хайдер крикнул страшно, и лицо его стало красным, как красный круг с черным крестом у него на рукаве:
– Тишина!
И наступила тишина.
Архип обводил всех глазами. Покосился на Ангелину. Он изумился ее лицу. Оно сияло.
Оно сияло счастьем. Ноздри раздувались, будто бы вбирали, впивали изысканнейший аромат, хотя тут, в Бункере, от скопленья молодых парней– жеребцов пахло конями. Глаза светились желтым, медовым светом, хищно, восторженно блестели. Он никогда не видел у нее такого лица даже в любви. Даже тогда, когда она, сидя на нем верхом, глядела маслеными тигриными глазами вдаль, вперед, в неведомую тьму.
– Я хочу сказать вам важное. Сроки исполняются! Скоро!
Ангелина смотрела в лицо Хайдеру не отрываясь. Архип смотрел на нее. Он никогда не видел ее такой. Какой? Он не мог бы объяснить себе. Воодушевленной? Взволнованной?
Он впервые видел ее такой царственной.
Выпрямленная, гордая спина. Пылающие золото– зеленым, фосфорическим светом, как у лесной хищницы, длинные глаза. Победная улыбка. Будто бы это она, а не Хайдер, стояла на трибуне, на возвышении на сцене Бункера. И это она, а не Хайдер, говорила речь.
– Солдаты! Час приходит. Для кого– то из нас он уже пробьет завтра. Уже – пробил.
Молчание сгустилось, повисло плотным занавесом между Фюрером и его бритоголовыми воинами. Ангелина оглянулась. Здесь были все, без исключения, бритоголовые. Она не удивилась, не испугалась. Скинхеды, она слышала о них, она знала их, она занималась ими. В своей больнице. В своей диссертации. А живьем – с этими придурками. С Косовым и с Цхакая. Кого привезут к ним в приемный покой завтра? Сплошь разрисованных черными узорами tattoo? Или тех, у кого спина изрезана на солдатские ремни?
Она снова уставилась на Хайдера. И снова Архип поразился горячему, царственному одушевлению ее закинутого вверх, к трибуне, разрумянившегося лица. Восторг голодного, которому дали роскошную, сытную еду.
– Час пробил, мои солдаты. На подготовку вам дается десять дней. Много это или мало? Вы всей жизнью заплатили за то, чтобы через десять кратких дней выступить в бой, о котором мечтали всю жизнь.
“Во класс, – услышала Ангелина рядом с собой восторженный шепот бритого долыса юнца. Юнец толкнул локтем в бок соседа, и тот ответил ему тем же. – Наконец– то! Фюрер брехать не станет. Выступаем, значит, чуешь, чем пахнет, а?!..” Она старалась не глядеть на Архипа. Пацан прожигает ее глазами насквозь, как бумагу – двумя сигаретами. Однако она не бумага. И ему не владеть ее интересом. Тот, кто стоял сейчас на трибуне и говорил, интересовал ее гораздо больше, чем гололобый амбициозный парень, на которого она клюнула, как щука – на золотую блесну, ведь он был молод, юн, силен, как бычок, он был почти девственный мужчина, и ей захотелось попробовать девственности, нерастраченной силы, свежатинки. Свежей сибирской осетринки ей захотелось. Накушалась, баба?! Что так пялишься на этого, скуластого, крепкоплечего, в черной рубахе, что маячит надо всеми на трибуне?!
Хайдер замолчал. Выждал паузу.
“Оратор”, – подумала она уважительно. Ее глаза искали его глаза, стрелявшие голубыми пронзительными искрами, как голубыми пулями, поверх бритых одинаковых голов.
И она добилась своего. Он увидел ее. Он заметил ее. Он, с его возвышения, впился глазами в ее лицо, хотя они с Косовым и стояли в отдалении, почти у входа в Бункер.
– Учтите, десять дней – это очень мало. И очень много, это как посмотреть. Мы должны будем подготовить оружие. Мы должны будем подготовить все для бегства, для ухода, ибо мне сейчас не нужны глупые герои, жертвующие собой во имя нашей великой идеи. Когда придет последняя битва – жертвуйте своими жизнями! Это наше право! Право и долг Священного Огня! Но сейчас вы должны выполнить абсолютно иную задачу. Вы догадываетесь, какую. Вы – догадались!
Молчание обнимало Фюрера, обступало со всех сторон. Бритоголовое воинство молчало. Молчал Косов, выпрямившись, вытянув шею, как гусь, вцепившись побелевшими пальцами в притолоку. Он старался слушать, что говорит с трибуны его Фюрер – и не слышал. Он глядел на Ангелину.
На Ангелину, глядящую неотрывно – на Фюрера.
– Мы через десять дней устраиваем черным, наводнившим нашу чистую и святую Столицу, новую Хрустальную ночь!
Похоже, все, собравшиеся тут, в Бункере, знали, что такое Хрустальная ночь.
Она тоже об этом знала.
Вздрогнула – оттого, что рука Архипа коснулась ее руки. Она отдернула руку, как от скорпиона. И он побелел.
– Хрустальная ночь… ведь это же… как Варфоломеевская…
– Вы же все этого хотели? – Ее шепот хлестнул его по лицу змеино– холодной болью. – Не трогай меня! Я слушаю твоего Вождя!
Он видел – Хайдер, говоря с трибуны свое воззвание, глядел только на нее. На Ангелину. И он сжимал кулаки. И его ногти вонзались в его ладони. И уж лучше бы сто, тысячу раз туда, на эти больничные пытки, на ЭШТ, к санитарам в лапы, под град идиотских успокоительных уколов, от которых ты пускаешь слюни и плачешь и смеешься вместе, чем глядеть на то, как Фюрер глядит на нее, а она – на него.
“Ингвар, Ингвар, Ингвар, ведь она моя женщина, ведь это моя женщина, ведь я люблю эту женщину, эту стерву, эту сволочь, эту холодную надменную кошку, Хайдер, ведь я всегда был так предан тебе, ведь я во всем слушался тебя, я смотрел тебе в рот, по одному жесту твоей вскинутой руки я готов был идти убивать, идти – умирать, ты же знаешь, я прошу тебя нашим Богом, нашим великим Одином, заклинаю тебя нашим черным Кельтским Крестом – не смотри, только не смотри на нее, она моя, она же моя, слышишь, ты…”
– Машины, на которых вы будете уезжать из Москвы, пройдут все кордоны, ибо на них будут сменены номера, а все посты до Смоленска, Тулы, Рязани и Владимира будут захвачены нашими людьми! Оружием вас обеспечат на днях! Я распорядился привести в действие все законсервированные до сих пор наши тайные склады боеприпасов. Вы, каждый из вас, получите достаточно оружия. Особо отличившиеся в наших прежних акциях и выступлениях получат самое лучшее оружие, новейшее! И холодное, и огнестрельное! Все машины со всеми вами, после того, как вы уйдете от погони и отъедете далеко от Москвы, повернут со всех направлений туда, где все мы опять встретимся – на закрытую военную базу севернее Котельнича, что принадлежит нам! Это место встречи… и, надеюсь, праздника первой победы! Мы возвращаем святой арийской земле – ее истинную, исконную чистоту, ее поруганную волю, ее убитую и искалеченную честь! Мужайтесь! Победите жалость в себе! Убейте врага! Очистите нашу святую землю от иноплеменной грязи и нечисти! Хайль!
– Хайль!
Лес рук вскинулся кверху в одном порыве. Вверх, косо, пронзая косым лучом руки пугающую полутьму Бункера. Она сама не поняла, как ее рука вскинулась, взлетела, пальцы вытянулись надо лбом, и вся она застыла в древнем обрядовом жесте, как статуя из белой стали. Хайдер с трибуны видел, как ее зубы обнажились в легкой хищной полуулыбке. И его губы тронула такая же торжествующая, победная полуулыбка, как у нее. Ей показалось – она смотрится в зеркало.
Сойти с трибуны. Подойти к этой красивой хищной женщине. Сдавить ее в мгновенных, страшных объятьях.
Архип не помнил себя. Когда все опустили руки, он все еще стоял с воздетой вверх, застывшей рукой. Смотрел прямо в лицо Хайдеру. Ангелина обернулась к нему, нажала на его руку рукой, как если бы она была рукой железного, пластмассового робота, опустила ее вниз.
– Не будь дураком. Все на тебя смотрят.
И правда, Зубр и Фарада, Люкс и угрюмый Баскаков, обернувшись, смотрели на него. Люкс, оскалившись, кинул ему:
– Эй, где пропадал, Бес? Без тебя тут скучновато было. Ниче, теперь– то уж повеселимся. Через десять дней…
Хайдер, тяжело ступая, сошел с трибуны. Ему выкрикивали из толпы: “Эй, Фюрер, а где собираемся?.. Фюрер, хайль, а где пушки получать будем?.. А машины где нас будут ждать?..” Он поднял руку перед лицом ладонью к ним, к скинхедам.
– Все распоряжения получите позднее! Мои люди вам все расскажут! Помните, вы – солдаты! Вы выполняете приказ! И больше ничего! И помните о том, что вы солдаты настоящей, священной войны! Такой войны, которой здесь никогда больше не будет!
Он, расталкивая кулаками, локтями кучкующихся вокруг него, обожаемого Вождя, скинхедов, от которых пахло вперемешку острым молодецким потом и дорогими парижскими дезодорантами, табаком и конской шкурой, не сводя глаз с Ангелины, подошел к ней. Она ждала этого. Не шевельнулась, с места не сошла, ждала, как к полу приклеенная. Откинула со лба красные гладкие волосы. Красный тяжелый пучок оттягивал ее голову назад. Со стороны казалось: она – в тяжелой красной короне.
“Конечно, он чувствует ее священность. Ее хищную древность. Ее сакрал. Как я не догадался раньше! Она – священная тетка, магическая тетка, священная древняя красношкурая корова, нет, колдовская рыжая рысь из древних лесов. Напрыгнет на плечи с высокой сосны – и – зубы тебе в загривок… Она меня загрызла… А теперь хочет – его… Боже, какой я дурак… Я – не понял! Я ничего не понял! Она – охотится! Она – огромная кошка! Она охотится за каждым, в ком течет и пылает свежая, бойцовская кровь… Она сама хочет крови… Зачем я ее сюда привел! Хрустальная ночь, какая такая ночь, зачем?!.. когда?!.. Хайдер, не гляди на нее так. Хайдер, я убью тебя!”
Архип сам не понимал, что с ним. Его кулаки налились чугунной чернотой. Если бы сейчас, сию минуту, при нем, на поясе, был бы револьвер – он, не раздумывая, с зачерненным, задымленным болью и ревностью разумом, выхватил бы его из кобуры и всю обойму выпустил бы в своего святого Фюрера.
А святой Фюрер не дремал. Он слишком близко подошел к Ангелине. Он взял ее за подбородок. Он поднял ее лицо повыше, еще выше, вот так, к тусклому свету, чтобы тщательнее, внимательней рассмотреть. Он разлепил губы. Углы его рта дрогнули, приподнялись в усмешке. Ему доставляло удовольствие смотреть на нее, видимо, не знающую, что такое смущение и стеснение – на нее, наглую, сильную, слишком красивую, слишком уверенную в себе.
– Наша?
Ангелина не стряхнула его руку со своего подбородка. “Держи меня так, за подбородок, держи. Гладь мою шею пальцем. Погладь мои губы. Видишь, какие они вкусные, сочные… гладкие… теплые. Ты хищен. Я хищна. Вдвоем, Вождь, мы составим хорошую пару. Ты никогда еще не видел таких, как я? А я – таких, как ты. Видишь, как все прекрасно получается? Знал бы ты, чем я занималась… занимаюсь! Да, вот так, твой палец очень горяч, веди им по подбородку, по моим губам, так, да…”
Хайдер, не сознавая, что делает, погладил ее пальцем по щеке, провел по полуоткрытым губам. Выпачкал палец в ее перламутрово– розовой помаде.
– Считайте – ваша.
Она сказала это тихо и внятно. Так, как если бы сказала: “Бери меня скорее, прямо здесь. В темном углу твоего вонючего Бункера”. Хайдер улыбнулся шире. Показал зубы. Она зеркально воспроизвела его широкую улыбку.
– Откуда вы? Вас привел Бес?
– Бес – это Косов?
– Ну да.
– Это я привела его.
– Вы же здесь впервые. Я вынужден вас проверить.
– В чем будет заключаться ваша проверка?
Их голоса доносились до Архипа как сквозь туманную пелену, как сквозь плотный занавес или через закрытую дверь, хотя он стоял рядом и стриг ушами. “Надо бы отойти. Отойти? Если я отойду – Хайдер заберет ее. Выведет отсюда вон, и они сядут в ее машину и поедут. А я? Она меня бросит? Я же ей нужен. Она же – со мной! Нет, навозный жук, она уже не с тобой. Ты разве не видишь – она уже с ним. С ним! Переживи! Зубами не скрипи! А то зубы сломаются. И ты не сможешь никому больше перегрызть горло. Я тебе, тебе горло перегрызу, ты, мой Фюрер!”
Хайдер приблизил скуластое, широкое лицо к лицу Ангелины. Они были одного роста. “Если она снимет сапоги на каблуках – она станет ниже меня”, – с радостью подумал он. Женщина всегда должна быть ниже мужчины. И ростом, и по сути. Женщина – явление второго, низшего порядка. Прав был Гитлер: киндер, кирхе, кухен. Дети, церковь, кухня. Это – для всех. А немногие? Избранные? Такие, как… вот эта?
– В том, что я вынужден буду вас подробно допросить. И изучить ваше досье. И проверить вас на детекторе лжи.
– Вы так хорошо оснащены? У вас даже есть детектор лжи?
Она сказала это так насмешливо и презрительно, будто бросила: “Вот как, в таком вертепе – и еще имеется детектор лжи, ну, супер”.
Он постучал себя по лбу. Она все еще глядела непонимающе.
– Мой детектор лжи, сударыня, здесь. Я слишком хорошо чую, когда мне врут, а когда говорят правду. Но для проверки мне нужно уединение.
Он уже откровенно смеялся. Засмеялась и она. С проворством и хитростью ловкой мастерицы она копировала, обезьянничала все его ухватки, его улыбки, смешки, мимику. Живое зеркало, старый как мир психологический прием, чтобы обезоружить противника, ввести его в замешательство, смутить.
– Уединение? Извольте. Сейчас?
– Да.
– Где?
“Боже мой, о чем они говорят? Об уединении? Почему они так резко, отрывисто бросают слова, словно больно, наотмашь, бьют словами друг друга? Зачем я привел ее сюда? Зачем она освободила меня сегодня, именно сегодня, из своей больничной тюряги, лишь на один только вечер? У меня больше не будет вечеров. Не будет ночей. Ночей – с ней. В той затхлой палате, под стоны Суслика, под храп Феди Шапкина, под тяжкие вздохи Солдата. Он увезет ее. Он увезет ее – навсегда?!”
– Здесь.
– Здесь есть комната, где можно уединиться?
– Есть.
– Прекрасно.
“Она сказала – “прекрасно”. Что – прекрасно? О чем они договорились? Я ничего не понимаю. Я давно не был на воле, и кровь стучит у меня в ушах. Я поел ее вшивых бутербродов с осетриной, и меня тошнит с рыбы. Он увезет ее навек, и я никогда не поеду с ней на Енисей. И мы никогда не поедим с ней настоящей, свежевыловленной осетрины, никогда не порыбалим в Бахте, в Ворогове. Никогда я не покатаю ее на староверской смоленой лодке. И на порогах мы не разобьемся о камни. И всей, всей жизни больше не будет. Что – прекрасно? Она – прекрасна?”
– Как же вы оставите Беса? Бросите? Вы ведь приехали с ним?
– Ничего. Подождет. Прикажите кому– нибудь последить за ним. Он мне нужен.
Хайдер сделал знак одному из своих черных лысых солдат. Из толпы выпростался длинноногий, как оглобля, парень. Архип его не знал. Он не видел, как парень, чуть враскачку, подошел к нему, замер у него за плечом. Зато он видел, как Ангелина повернулась к нему спиной. Тяжелый пучок ее волос тускло блеснул старой медью в тревожном полумраке. Тусклая лампа качалась, как на допросе, над головой. Скинхеды все были в черных рубахах. Им приказали: сегодня приходить в парадной форме. Казалось – весь Бункер полон кишащих черных тараканов.
Он видел слепыми, не своими, чужими глазами, как Ангелина, повернувшись, горделиво вскинув голову, стуча вечными каблучками по каменному полу Бункера, пошла за Хайдером. Он шел впереди, она – сзади. Она ступала Хайдеру след в след – так ступают другу другу в след волки в белом метельном поле.
ПРОВАЛ
Хрустальная ночь. Хрустальная ночь.
Это ведь о ней сказано мною, бедным Нострадамием:
Замрут в постелях своих одинокие люди,
А эта звезда, раскаленно– красна, над белым миром взойдет;
И на круглом, огромном, как небо, железном блюде
Новый Бог слуге– человеку хрустальный нож принесет.
И ножом тем хрустальным ночью морозной и звездной
Он один, верный Божий слуга, перережет всех,
Кто забыл о возмездии справедливом и грозном,
Кто святой погребальный плач обращал в оскорбительный смех.
А Божий ли он слуга? Может, у него совсем другой хозяин?!
Я вижу. Я вижу все, особенно ежели мне дадут хорошенько выпить. Я же отменный врач, и врачевал я отлично, и в Провансе и в Лангедоке, и в Лионе и в Сан– Реми, и в Питере и в Москве проклятой, видите, народ так и валит ко мне толпами: “Исцели! Исцели!” А я что, Господь Бог, что ли? Рюмочку налейте – за рюмочку и Господом Богом стану, дай перекрещусь, да простит мне Бог настоящий мое святотатство.
Они готовят Хрустальную ночь, я это вижу. Более того – знаю. Потому что они не выдерживают жить без святого. А святое все растоптано и на свалке давно сгнило. Храмы гудят колоколами, а что толку? Люди бегут по зимним улицам, вбегают в воронки метро, тают, исчезают под землей, снова выныривают из мрака и бегут, бегут – как на белой зимней фреске. И лица у них – нарисованные. И жизни у них – сгоревшие окурки.
Поэтому Хрустальная ночь обязательно должна быть. Боже, Боже, не надо ее! Не надо! Зачем так много крови!
Зачем вы все рисовали кровь, сумасшедшие художники… Зачем все смерти рисовали… Вот и дорисовались… А я – довиделся… Мои видения становятся правдой. И я не знаю сам, куда от нее деться, от моей правды. Она убьет меня самого, моя правда, погубит. Но я же вижу все, все – на тысячи лет вперед. Кто я такой? Может, я сам был хрустально заморожен много лет? Сидел, положив руки на колени, хрустальный скол с давней забытой, мертвой жизни, в черной пещере, высоко в горах? А потом земля повернулась вокруг своей оси, океаны сдвинулись, материки дали трещины, изнутри, из земного сердца, вырвался огонь, и я в своей пещере ожил, и из хрустального и застылого превратился в живого, теплого, нищего и страдающего? Дайте мне немного горячего вина, люди! Сварите мне глинтвейну! Напоите меня! Накормите! Я – пророк! Я пророчу вам – завтра, уже завтра будет страшная Хрустальная ночь в вашей, люди, напрочь спятившей стране!
Тесная, темная комната в Бункере. Его комната. У него, Хайдера, только у него есть от нее в кармане ключ.
Маленькая лампочка над дверью, двадцать пять свечей. Они еле различают лица друг друга. Голые стены. Голый каменный пол. Ни матраца, ни мата. Ни стола. Ни тряпки. Ни скамьи. Ни стула. Ничего. Где он собирается ее распинать? Или он даст ей пощечину за дерзость, пнет ее сапогом в живот, как собаку на снегу, и уйдет прочь, закрыв ее здесь надолго, на бесконечное черное время? А потом, когда она смирится, станет жалкой и покорной, – придет и возьмет. Ей стало жарко, она вспотела от этой невероятной, доставившей ей удовольствие мысли. Еще никто так не обращался с ней. Так обращалась с людьми только она.
Он закрыл железную дверь изнутри и сунул ключ в карман. И сделал шаг к медноволосой, со змеиной улыбкой, гордой женщине, глядевшей на него сверху вниз.
– Ну? – спросила она, вздернув голову повыше. – Сразу приступишь или повременишь?
Он усмехнулся.
– Мне кажется, ты сама этого хочешь. Но я способен наступить на горло собственной песне, если это надо будет.
– Надо – кому?
Они простреливали друг друга глазами. Ты непростая пташка. Ты непростой петушок. Гляди– гляди, не заглядись только. Уж не загляжусь. Черные очки надень! Нет, это ты закройся на всякий случай рукой, а то ослепнешь.
– Что тебе надо? Кто ты?
– Ты хвастался, что ты рентген. Вот и просвети меня.
– Журналистка?..
– Как пошло. Плохо же ты обо мне думаешь.
– Если ты из спецслужб, я застрелю тебя тут же, на месте.
Хайдер положил руку на оттопыренный карман черных галифе. Ангелина выше вздернула подбородок. Она шагнула к нему и подняла руку над низом его живота, едва касаясь ширинки. Он даже не успел отпрянуть.
– У тебя здесь слишком горячо, – насмешливо сказала она. – Я люблю мужчин, у которых здесь чувствуется пламя. И таких, что наставляют на женщину сразу и себя, и револьвер.
На миг она коснулась его ширинки ладонью. И вдруг крепко прижала руку, вцепилась, как кошка. И тут же руку отняла. И отшагнула назад. Доли секунды. Он разжал губы. Скулы его вспыхнули.
– Ты проститутка? Ты пришла сюда на ловлю?
– Все мы в этой стране проститутки и жиголо. Все мы проституируем как можем. – Насмешливая улыбка не сходила с ее лица. Улыбался и он. Она перевела взгляд на его вздувшуюся ширинку. – Разве ты не этим же занимаешься со своей лысой челядью?
– Еще раз назовешь моих солдат “лысой челядью”, я…
– Ты выстрелишь в меня? В меня, мальчик мой, уже стреляли. И, как видишь, промахивались.
– Ты что, гипнотизерша?
– Теплее. Уже теплее. Гипнозом я тоже владею. Одна из классических древних техник.
– Техник?..
– Все на свете есть техника, мой герой.
– Я не твой герой!
Он стоял перед ней, косая сажень в плечах, с жестким пронзительным взглядом, глаза голубые, как холодное северное небо, и странно, по– монгольски, стоящие косо, лицо римского тирана, гладко выбритое, с перчинкой безуминки в пульсирующих зрачках, широкие скулы, желваки ходят около ушей, перекатываются орехами; полные губы, усмешливо раздвинутые, а подбородок круглый и жесткий, твердый, будто мраморный, с вмятиной под нижней губой; и на щеках, над смеющимся ртом, – ямочки, как у ребенка. Мужское лицо, от которого навзничь падают женщины. Лицо конкистадора. Лицо голливудца. Лицо деспота. Лицо – Вождя.
Почему он белый, сивый даже, светлоглазый, а – раскосый, как какой– нибудь Чингисхан? В нем есть татарская кровь… казахская?.. Сибирь, скорей всего. Родимая Сибирь. Там такие фрукты вырастают. Такие вот крепкие кедровые шишки. Неплохой вождь у бритоголовых. Она так и знала, что скинами руководят сверху отнюдь не скины. А вполне здоровые, умные и хитрые взрослые дяди.
Римлянин. Герой. Деспот. Языческий бог. Беловолосый монгол. Это он установит новый русский порядок? Кто так жестоко перебил ему нос, в какой давней драке?
– Нет, ты мой герой, – жестко отчеканила она, будто приказывала ему. – И ты сам прекрасно знаешь, что ты герой. Не герой – не отдал бы приказа начать Хрустальную ночь. Ты любишь власть?
Он, держа руки на черном широком поясе, сделал шаг к ней. Она не двинулась с места. Раздула ноздри. Обоняла запах начищенной кожи черных сапог.
– Власть? Что ты понимаешь во власти?
– Я понимаю в ней все.
– Сильно сказано. Ты азартный игрок? У тебя много денег?
– У меня много денег. Но в азартные игры я не играю. А сейчас вот поняла, что хочу поиграть.
Еще шаг к ней. Можно рассмотреть начищенные медные пуговицы на рубашке. Какой на пуговицах рельеф? Ах, ну да, их крест. На заказ пуговички сделаны. В особой, тайной мастерской.
– И как же ты будешь играть, не зная правил игры?
– Правила расскажешь мне ты. Я понятливая.
Миг – и ее руки у него на шее. Его твердые губы – под ее губами.
Оторвавшись от него, отшагнув назад, улыбаясь, она сказала:
– Будто с быком целуешься.
– Это хорошо или плохо?
Он задыхался. У него темнело перед глазами.
– Это отлично. Бык и волк – мои любимые мужчины.
– Вот как. Я догадался. Ты зоофилка.
– Может быть. Я умею говорить со зверями. Владыки должны уметь говорить с подданными, с животными и со жрецами.
– Ты такая умная, что страшно.
– Ты тоже умен. – От поцелуя у нее горели губы. – Но без меня ты не добьешься, чего желаешь.
– А чего я желаю?
Она усмехнулась снова. Он сжал кулаки.
– Власти.
– Я желаю счастья святой Руси! – крикнул он.
Она снова сделала шаг к нему. Положила ладонь ему на губы.
– Не ври, – тихо, жестко сказала она, уставив на него огромные, длинные, как брюшки зеленых стрекоз, пугающе светящиеся глаза. – Не ври, я врач. Я психиатр. Я вижу и знаю и чувствую все. Даже больше того, что чувствуешь ты. Ты хочешь власти. Безграничной власти. И в тебе большая сила. И ты к этой власти пойдешь по головам. По трупам. Ты прикрываешься твоей идеей, но ты животное, ты зверь, и ты рожден быть владыкой. И я помогу тебе добиться власти.
Он оторвал ее руку от своих губ. Тяжело дышал. Смотрел на нее. Его лицо маячило, плыло вблизи от ее лица, как большая, во мраке, широкая золотая лодка.
– Ты? Ты – мне – поможешь? Что ты мелешь?
– Еще раз скажешь “мелешь” – я…
Он не успел схватить ее за запястье. Она с быстротой бегущей по стволу белки сунула руку ему в карман, выхватила револьвер и сейчас стояла с револьвером в руке, наставляя на него дуло. Она смеялась. “До чего отборные, белоснежные зубы”, – зло подумал он.
– Я знаю приемы. Я нападу первым. Ты не успеешь выстрелить.
Она не шевельнулась. Ее губы смеялись. Ее зубы блестели. Револьвер в руке не дрожал.
– Попробуй!
Он сделал выпад, но она опередила его. Повернувшись к нему спиной, она молниеносно наклонилась, подняла ногу и крепко, мощно ударила его пяткой в скулу. Потом, коротко и резко выдохнув: “Я– ах!” – отбежала на два шага, оттолкнулась ногой от каменного пола и высоко подпрыгнула, и обхватила Хайдера руками и ногами, сидя на нем верхом, как росомаха на таежной ели. Дуло уперлось Хайдеру в висок. Он попытался сбросить женщину с себя. Еще движенье, быстрое как молния – и ее пальцы с силой нажали две болевых точки на его затылке, на шее. Он взвыл. Он спрыгнула с него. Кинула на пол револьвер; он откатился вбок, к стене.
– Где ты училась кунг– фу?
Он смотрел на нее как на диковину. На говорящего павлина. На лошадь с золотой шкурой.
– Нигде.
– А точнее?
Он наступил ногой на револьвер. Ногой подтянул его к себе. Наклонился, поднял. Повертел в руках.
– Я же сказала тебе, я врач. Я должна все знать. И кунг– фу тоже.
– Ты лечишь бойцов кунг– фу?
– Бывает, и их.
– Ты хочешь… лечить меня? Я не нуждаюсь во враче. Я здоров.
Она, стуча каблуками по каменным плитам, подошла к нему вплотную. Стала рядом, лицо в лицо, обдавая его горячим, возбужденным дыханием. Ее возбуждение передалось ему –она слышала, как часто, беспокойно он задышал.
– Да, Сулла. Да, Калигула. Да, Нерон. Да, Иоанн Грозный. Да, майн Фюрер, ты здоров. Как бык. Как волк. Ты болен только одним. У тебя нет пока этой страны. Этой страны, что должна лечь к твоим ногам, чтобы ты, как всякий другой тиран и диктатор, мог делать с ней все что хочешь. Но я помогу тебе, мой Чингисхан. Я довольно много понимаю в этой науке.
Она положила ему обе руки на грудь. Слушала ладонями, как бурно, тяжело бьется его сердце.
Он взял ее руки в свои. Крепко, больно сжал. Потом прижал всю ее к себе, ощутив всем собой жар, под вечерним открытым платьем, ее цветущего роскошного, пахнущего яблоней тела.
– Чем? – спросил он ее губы в губы. Она провела кончиком языка по его крепким, чуть вывернутым кнаружи губам. Он сильнее притиснул ее к себе. – Чем ты поможешь мне?
Она наконец раскрыла губы. И он вошел в ее губы ртом, языком, зубами, всем собой, вбирая, пронзая, всасывая, вглатывая ее в себя, как волк пожирает и глотает добычу.
Когда он оторвался от нее, тусклая лампа над дверью насмешливо мигнула им раз, другой.
– Я уберу всех, кто будет мешать тебе, с твоего пути.
Пока он шел домой, он выкурил пачку сигарет.
Он решил пройтись от Бункера до дома пешком.
Ночные улицы любимого города располагали к размышлению. Слишком много сегодня произошло. Он решился на Хрустальную ночь. Ждать более было невозможно. Даже романтик Деготь стал обвинять его в бесхребетности и осторожничанье. А Баскаков – тот просто посылал его на все буквы. Соратники! Друзья! У него нет друзей. Нет и соратников. То, что он задумал, он сделал все сам. И всю подготовку пяти последних лет, когда приходилось уходить в такое глубокое подполье, которое и не снилось всем на свете движениям прежних времен, тоже продумал и осуществил он. Он разыскивал людей. Он сплачивал несоединимых. Он прекращал распри и ссоры. Он распределял обязанности и отдавал приказы. Он находил деньги на их великие дела, в конце концов. Немаленькие деньги!
И это по его, по его приказу в огромные группировки бритоголовых организовывалась слепая, тычущаяся юными щенячьими носами то туда, то сюда, бродящая бешеными соками молодежь юродивой страны.
Россия – юродивая?! Да, Россия – юродивая. А юродивым, чтобы они прозрели, надо выколоть глаза. Юродивым, чтобы они услышали, надо отрезать уши. Беда в том, что юродивые слышат не ушами, глядят не глазами и говорят не языком. У юродивых все происходит внутри них. У них внутреннее зрение и внутренний слух. Россия видит и слышит все – а сделать, умалишенная, ничего не может, ибо юродивые – бездельники. Им бы в мешке по дорогам слоняться, лицо к небу закидывать, срамные песни распевать.
Пространство и время надо перекроить. Если переделка мира уже осуществлена давным– давно – надо перекраивать старую ветошь, юродскую мешковину. И шить из нее, разорванной в клочья, кольчугу героя. Россия истосковалась по Герою. Она ждет Героя, молится Герою: приди! Как долго тебя не было! А ведь была война, и на войне – были герои. И все полегли. Спят курганы темные… Кровь и тело. Тело и кровь. Его любимый Fuhrer Адольф так и говорил: Boden und Blut, Blut und Boden. Давал же христианский Бог вкушать своим ученикам и всем, молящимся Ему, свое тело и свою кровь! Символ – мощное оружие. Знак – оружие колоссальной силы. Под знаком шестилучевого сапфира Соломона воевал Израиль. Под знаком креста века напролет воевали рыцари– крестоносцы. Под знаком пятиконечной красной звезды воевала, рожая героев одного за другим, его обращенная в большевизм страна, и в морях пролитой крови, цвета той звезды на тех буденновках и касках, рождалась и умирала эпоха. Под священным знаком “суувастик”…
Свастика. Коловрат. Коловрат над миром, священный коловрат. Сакральный Кельтский Крест. Не врет ли он, Хайдер, сам себе, вырвав из черного небытия Кельтский Крест и даря его России? Что морду воротишь, Россия?! Боишься?! Счастья своего не понимаешь, не видишь?!
Откуда ей видеть. Слепая. Юродивая.
А он сам – не юродивый?
Еще сигарету. Кончились! Ночной киоск. Горит в ночи, как горсть рубинов и сапфиров. По– новогоднему украшен. Зима, зима. Хрустальная ночь должна быть зимой. Все великие кровавые ночи должны были быть зимой. Ибо на снегу, на хрусталях и алмазах, ярче всего горит свежая соленая кровь.
Он достаточно изучил опыт тиранов истории. Но он – выкормыш абсолютно иной эпохи. Сейчас России не нужны ни цари, ни короли, ни князья, ни олигархи, ни коммунисты, ни демократы. России нужна железная рука тирана. Железная пята тирана. Но тирана не простого. Не параноика Сталина. Не сумасшедшего Нерона. Не наслажденца Ивана Грозного. Не дьявола– Петра с вытаращенными в гневе на жизнь зенками и поголовным бритьем боярских бород. А тирана образованного. Весьма образованного. И очень умного. Страшно умного. Почти – гениального. Самого – гениального на свете?
Только гений перевернет тебя, Россия. В очередной раз? В последний – раз.
После его правления – хоть потоп.
Мы и так живем внутри Потопа. Внутри Апокалипсиса. Это враки, что Апокалипсис обрушится, как черный водопад. Апокалипсис растянется на столетия. Ему важно вырвать Россию за волосы из ее юродского болота. Впрочем, юродивые ведь пророки? Пророки или нет?!
– Пачку “Петра Первого”, черные, крепкие. Спасибо. Сдачи не надо.
Он всегда курил только русские сигареты.
Да– а, что за баба сегодня притащилась к ним в Бункер! Классная баба. Загадочная баба. То– то Архипка так надолго провалился. Она с Косовым спала, это точно. Зачем она так жестоко– точно прочитала все, что творится в его душе? Она маг? Она чтица мыслей на расстоянии? Она говорит, что она врач. Поверим на слово. В каморке в Бункере у них ничего не было, хотя он слишком хотел ее. Так хотел, что галифе чуть не порвались. А она смеялась над ним. Ему понравилась ее жестокость. Он бы хотел, чтобы у него была такая подруга. Такая – жена?
Жена. Проклятье. О чем он думает перед Хрустальной ночью! О женитьбе!
Лучше подумай об оружии, вождь.
Из Германии ему тайно переправили много оружия. Оно – на тайных складах под Москвой. Он расплачивался за него разнообразными деньгами.
Жаль, что ему до сих пор не удалось оплатить хоть часть расходов деньгами этого… этого…
Он остановился под ночным, лилово горящим фонарем, чтобы прикурить от бьющегося на ветру огня зажигалки. Легкая метель стреляла острыми снеговыми иглами ему в склоненное над огнем лицо. Дым наполнил грудь. Он закрыл глаза и пошел вперед не глядя, с закрытыми глазами. Его черные сапоги впечатывались в чисто– белый, за ночь наметенный снег: ать– два, ать– два.
А отец? Что говорит ему отец? Отец же не выдаст его властям. Отец любит его. Старый лагерник Хатов знает, что делает его сын, но он уважает его дело. Или не уважает? Или – боится? Боится, что, если шевельнется, сын пристрелит отца, как собаку, как гадкую лагерную собаку овчарку?
Старый Анатолий Хатов, старый иркутянин, чахоточно– впалые щеки, впалая грудь, чуть раскосо прорезанные глаза, изработанные, почернелые руки, пальцы желтые, пропахшие табаком. Страна вдоволь покуражилась над тобой, твоими руками копая уран и валя сибирский лес. Ты возил сына туда, в Маклаково на Енисее. Чтобы показать ему свой лагерь. Свой дом, свой черный барак. Дом дорог любой, даже тот, где тебя бьют и где ты спишь на нарах. Мальчишка таращился на старые, побитые снегами и дождями вышки, на так и не убранную колючую проволоку, ничего не понимал. “Видишь, этот лагерь мертвый, – шептал ему отец, – он уже мертвый, он не оживет. Здесь перековывали людей, понимаешь?.. Перековывали – меня... как мечи – на орала…” Что такое орала, папа, спрашивал он, это когда сильно орут?.. Его отца посадили за то, что он когда– то в Иркутске организовал партию. Партию сопротивления режиму. В партии была одна молодежь. Кому они сопротивлялись? Кого хотели свергнуть с трона? Владыку? Сталина? “Мы хотели уничтожить того, кому вы теперь, дураки, поклоняетесь!” – грохотал отец в табачных, рьяных ночных, на кухне, спорах. Водка в бутылке убывала. Отец натужно, хрипло кашлял от табака. Отец, тебя не переспоришь, пойду– ка я спать, говорил он, зевал и шел спать. А отец оставался на кухне – курить, глядеть в черное окно, скрежетать зубами.
Когда он, десять лет назад, перебрался из Иркутска в Москву, он взял отца с собой. Подлечил в столице его застарелую чахотку. Отец ни с кем не срабатывался, не уживался, его отовсюду гнали, ни на ком он не сумел жениться. У него был только он. Игорь. “Что ты, идиотина, себя каким– то Ингваром именуешь! Мало вам, русским парням, русских имен!” – “Все мы, батя, викинги”, – шутил он, всовывая в зубы сигарету.
Сигарета. Что? Кончилась. Выкурена. Окурок прочь, в снег. Выбить из черной пачки еще. Идет по улице черный человек, в черной кожаной куртке, в черных галифе и в черных сапогах, голова его обрита, и курит он отчего– то белую – не черную – сигарету. А бьем ведь черных, подумалось ему, а почему сами– то в черное облачаемся? А потому, что черный – священный цвет. Свастика ведь тоже черная.
У него свастика на груди. Там, где сердце.
Ему ее вытатуировал Бес.
А он Бесу вытатуировал на плече черный Кельтский Крест.
Между прочим, больно выносить, когда делают татуировку. Зато тавро – на всю жизнь. Рисунок на теле – все равно, что рисунок созвездия на небе. Пахнет древностью. Ты же любишь все, что пахнет древностью. Ты любишь все, что пахнет ураганом, порохом и женщиной. И власть ты тоже любишь. Любит ли власть – тебя?
Север, Запад, Юг, Восток. Все четыре стороны света будут их. Будут – его.
Его – и ее?
Царю нужна царица. Жрецу – жрица. Вождю нужна жена.
Неужели она знает, кто его враги?
Держи ее вместо рентгена, Хайдер. Держи ее вместо лакмуса. Проверяй ею температуру – вместо градусника. Тебе же надоели случайные женщины. Все проституируют, смеется она. Перестань покупать шлюх на Тверской. Возьми лучше ее. Ее одну. Властную, жестокую. Красивую. У нее такие странные, красные волосы. Возьми ее в руки, как огонь, как несут факел. Раз и навсегда.
… … …
Отдых в Иерусалиме. Отдых на Святой Земле. Всего неделю.
Она удрала от Вождя. Подальше положишь – поближе возьмешь. Ничего с ним не случится, с могучим быком, пока принцесса смеется, катаясь по свету, с другим.
А Витас? Что такое Витас? Витас – это ее пациент. Мазила, скандалист, знаменитость, любитель коньяка и баб, так и не избавившийся, как она ни старалась, от своих комплексов. Комплекс, глупое слово. Страдание – слово гораздо более точное. Врач исцеляет? Освобождает от страданий? Врачу, исцелися сам. Она давала когда– то клятву Гиппократа. Торжественное словоблудие, отжившая традиция. Охмурение наивных юных мозгов свеженьких молоденьких врачишек. Ты помнишь слова этой клятвы, Ангелина? Еще бы не помнить. Ты только и делала, что нарушала эти священные заповеди. А не согрешишь – не покаешься, верно?
А этот? Салажонок?
А салажонка отвезли в его родимую палату. Под присмотром людей этого черного быка. И замкнули на замок. Из моей тюрьмы не так– то просто вырваться. Понюхал свободы, своих? Этот вечер ты запомнишь, больной Косов.
Никакой ты не больной. Слишком здоровый.
И Хайдер – тоже здоровый. Все вы пышете здоровьем. Всем вам силушку некуда девать.
– Витас! – Она отвернула голову, порыв жаркого суховейного ветра отдул красные волосы у нее со лба, кинул через щеку на затылок. – На что загляделся?! На евангельское облако?.. Еще насмотришься. Заказ заказом, а я поведу тебя туда…на Масличную гору!.. Не зевай, прыгай в повозку! У тебя такой вид… – Она усмехнулась. – Ты никогда не терял багаж в аэропорту?
Они стояли на летном поле аэропорта “Бен– Гурион”. Солнце белым гвоздем вбилось в зенит. Жара обнимала крепко, жгла плечи, щеки, затылки, горячо дышала в спины. Из холода и снегов они окунулись в яростное буйство жары. В Москве еще мели метели, а здесь уже снимали первый урожай апельсинов.
“На каком севере мы живем… Какие мы грустные… Как бы я хотела жить здесь, в жаре, под вечным солнцем, под выцветшим от жары небом… и есть, есть жадно, втягивать губами апельсин, его сок…”
– Терял. – Витас улыбнулся ей. Его длинные волосы тоже взметнул ветер. Он кокетливо, как женщина, тряхнул головой, поправил волосы рукой. – Конечно, терял! И на самолет опаздывал! И на поезд! Каждый когда– нибудь что– нибудь теряет, ангел мой, Ангелина. Ведь и ты теряла, не правда ли?
– Разумеется. Это намек на то, что мы потеряем наш багаж?..
Подъехала тележка для перевозки пассажиров, все ринулись в нее, внутрь, занимать места. Ангелина и Витас тесно прижались друг к другу. Витас вздрогнул от прикосновения ее бедра. Ангелина дернула плечом, покосилась, поморщилась. Солнце ударило ей в лицо, она прищурилась и стала на мгновение похожа на мужчину – на римского императора, на легионера, ведущего солдат в бой.
В той же тележке, спешащей по летному полю к зданию аэропорта, на задних сиденьях сидели, весело переговариваясь, Ефим Елагин и Цэцэг Мухраева. Неделя в Иерусалиме, всего неделя – и какая! Цэцэг давно хотела походить с ним по берегам Мертвого моря… Из этого моря с густо– синей, почти черной водой добывают какие– то, пес их разберет, полезные минералы – для красы бабьих мордочек… Смешивают их, делают из них кремы, глины, притирания… И его Цэцэг мажется этой гадостью?.. Нет, она молода, свежа, и без кремов хороша… Молода?.. А если – нет?.. А сколько ей лет?.. Никто не знает, она не говорит… Он не видел никогда ее паспорта… Паспорт, при наличии уймы денег, можно подделать запросто… Разве в паспорте дело?.. Женщине всегда столько лет, на сколько она себя чувствует… Нет, живот у нее упругий, упругая грудь, ни одной целлюлитной складочки на бедрах… Ну и что, сейчас сделают тебе укол разглаживающего геля – и ты снова девочка… И девственную плеву заново сошьют, если надо… Как смешно…
– Ха– ха– ха– ха! – Цэцэг хохотала, глядя на молоденьких монашков в черных подрясниках, чинно шествующих по летному полю от прилетевшего самолета к аэропорту. – Смотри, Фимка, какие прелестные! Обречь себя смолоду на ужас одиночества… безлюбья! Ну, да они все парни не промах! Они все все равно в своих монастырях занимаются черт– те чем… всеми грехами, от которых в молитвах избавленья просят!.. И мужеложством, и скотоложством… и безумным онанизмом!.. Ха, ха!..
– Тише, Цэцэг, что ты орешь на весь аэропорт…
– Хочу и ору! Любая религия, дорогой мой, это все равно профанация! Человек часто закрывается религией от ужаса жизни… если у него больше нечем закрыться…
– А чем он может закрыться?..
– Деньгами, телец мой золотой, денежками, конечно!.. У кого их нет, тот играет в религию!.. Так легче жить!..
– А вера?..
Тележку накренило на крутом повороте. Они уже подъезжали к входу в аэропорт.
– Вера? О, с верой сложнее…
– Ты вот веришь в своего Будду?.. Или ты…
– Да, ты угадал! Я хочу принять святое крещение здесь, на Святой Земле! – Она улыбалась, белозубая улыбка приподнимала холмики смуглых щек с ямочками, и непонятно было, смеется она или говорит серьезно. – И тогда– то уж я точно спасусь! И от всех грехов очищусь…
Когда Цэцэг обернулась на миг, ей в глаза ударил красный блеск отдутых ветром темно– рыжих волос женщины, сидящей впереди. Она сжала кулаки на коленях. Улыбка не сошла с ее лица. Ефим не заметил ничего.
Не впервой ты пишешь огромную фреску в огромном храме, художник. Может быть, ты не художник, а сапожник? Но если ты и ремесленник – сделай так, чтобы твоя ремеслуха понравилась заказчикам. Заказ надо выполнять хорошо. Даже очень хорошо. Даже отлично. Оплачивается только безупречная работа, ты же это давно знаешь.
Сафонов вскинул голову, еще раз обозревая оштукатуренные стены храма, которые ему предстояло закрасить. Неплохо сработали архитекторы! Собор Второго Пришествия, надо же, эк куда хватили. Ну да, времена горячие, модно думать о конце света. Кто только о нем не думал! И римляне, и эллины, и иудеи… И средневековые германцы… А русичи – думали?.. Или беспечно варили мед и брагу в праздник да возили в ладьях своих милых лад – пускать по реке горящие венки на Ивана Купалу?..
Да, красить тут не перекрасить. Заказчики привезли ему все краски, что он внес в список. Все лаки. Все олифы. Все разбавители. Кисти и шлейцы он взял из Москвы свои. И эскизы, естественно, тоже взял. Сразу, из головы, a la prima, без продуманной композиции, фреску пишут только дураки. Или – гении? Значит, он – уже не гений?
Он, закинув голову, поглядел на люльку, подвешенную к куполу, на толково возведенные леса. С таких лесов не загремишь вниз. Все путем. Витас наклонился над банками с красками, батареей стоявшими около его ног. Раздумчиво окунул широкую кисть в банку с ярко– красной краской. Хорошо он развел краплак скипидаром, в меру. Фиксация будет в самый раз.
Прищурясь, глядя на эскиз и не глядя на него, слепо следуя и наброску, и чутью, он, задрав руку с кроваво– алой кистью, повел по штукатурке слепяще– алую линию. На стене появлялась фигура. Первая фигура будущей фрески. “Ты ни с чего лучшего не придумал начать, парень, как с фигуры самого Христа. А что долго думать? Если Ему суждено прийти – Он придет. И встанет вот так… вот так. Я нарисую его не в облаках… не в небе. В небе пусть виснут страшные светила. На то им там и дано висеть. А Он – Он будет стоять вот так. На земле. Ибо на землю же Он придет, а не на Марс, в конце концов!”
Он махал и махал кистью. Пот тек по его вискам, по щекам. Снаружи было жарко. В храме тоже густо, как сметана в кувшине, стояла жара, кисла, бродила. Фигуры, набрасываемые красной кистью, вырастали на стенах, передвигались, ветер вздувал плащи, бестелесные руки взбрасывались вверх, лица пугались, молились, разъярялись, улыбались. Витас не заметил, как к нему подошли сзади.
– Здравствуйте, господин Сафонов. – На его плечо легла тяжелая рука, отпрянула. – Как работается?
Витас минуту глядел невидящими, непонимающими глазами. Натужно улыбнулся в ответ.
– Великолепно. – Он постарался придать голосу светскую вальяжность. – Лучше не придумать. Давненько я не писал с таким… м– м– м… вдохновением.
– Это видно. – Крепкий широкоплечий мужчина, одетый в черную рубаху с закатанными до локтей рукавами и черные джинсы от Валентино, кивнул на разрисованную белую стену. – Мы недаром позвали на эту работу вас. Вас устраивает гонорар?
Сафонов старался не смотреть на говорившего.
– Весьма.
– Ну вот и славно. Трудитесь. У вас, между прочим, не так много времени.
– А что? – Он сделал попытку пошутить. – Не успею до Второго Пришествия?
Мужчина в черной рубахе, прищурясь, оглядел его с ног до головы.
– Кто знает. Возможно, не успеете. Я бы хотел, чтобы все было закончено к обозначенному мной сроку.
“Мной, – подумал Витас смятенно, – а ведь ко мне приходили другие… и заказывали мне фреску другие. Не этот”. Он обвел глазами спутников мужчины в черной рубашке. Ни одно лицо не напомнило ему тех, кто ввалился к нему домой тогда, в Москве.
– Я постараюсь.
– И вот еще что. – Человек в черной рубахе говорил громко, на весь пустой гулкий храм, не стесняясь, и его низкий голос отдавался под сводами, создавая иллюзию пения или проповеди. – Мне нужно, чтобы вы изобразили на фреске неких конкретных людей. Группу людей. Да, да, не глядите так удивленно, живых людей. Фотографии вам будут предоставлены. Вы где остановились? В отеле “Шалом”?
– Да, в отеле “Шалом”. Номер тридцать пятый.
– Вам в номер сегодня вечером доставят фотографии. Вы художник, ваше дело, как вписать их в фреску.
Говоривший не заметил, как в это время в храм вошли двое, мужчина и женщина. Мужчина, почти голливудский красавец, косая сажень в плечах, подошел ближе, застриг ушами, слушая разговор. Женщина, сильно раскосая, румяная от жары, обеими ладонями отерла пот с лица, задрала голову, разглядывая сиротски пустые, белые стены, красный подмалевок фигур.
Витас наклонил голову.
– Когда вы будете в отеле?
– Я закончу работу после восьми вечера. Хотел бы искупаться в Иордане. Жара. Освежусь немного. Думаю, что к десяти я уже буду в номере.
Человек в черном повернулся, пошел к выходу из храма. Его спутники, молчаливые, одетые отнюдь не в черные рубахи – кто во что горазд, от футболок и шортов до модельных белоснежных рубашек от Армани, – стайкой, как гуси, потянулись вслед за ним. Ефим проводил их взглядом. Обернулся к Цэцэг.
– Дорогая, – шепнул он, сжал ее руку, и шепот гулко отдался под сводами. Он вздрогнул: какая акустика! – Дорогая моя, я что– то понял. Фотографию можно запросто подделать… сфабриковать на компьютере. Анимация черт знает что сейчас вытворяет… Я знаю, кто мне ее подбросил. Тот! Урод! Точно! Этот… что напал на меня тогда около моего дома… с мордой дракона!..
– А, ты опять об этом, о своем, – Цэцэг зевнула, прикрыв рот ладонью. – Когда ты перестанешь, Фима? Я прилетела с тобой сюда не для того, чтобы…
Ефим запустил руку за пазуху, зашарил, скривил лицо. Его твердый мраморный подбородок дрогнул. Он, ничего не отвечая Цэцэг, отирающей кружевным платком вспотевшие виски, сделал шаг к застывшему перед начатой фреской художнику.
– Вы знаменитый Витас, – сказал Ефим громко.
Витас вздрогнул и обернулся.
– С кем имею честь?..
– Ефим Елагин.
– О, о, – Сафонов разулыбался, шагнул к Ефиму, протянул руки, перепачканные краской, застеснялся. – О, простите, Ефим?..
– Георгиевич.
– Ефим Георгиевич, очень приятно! Наслышан. – Витас тряхнул обросшей головой. Глаза его заблестели. – В Иерусалим – отдохнуть?.. По делу?..
– Отдохнуть. – “Если и по делу – вряд ли скажет”, – подумал Витас. – Рад с вами познакомиться. Бывал на ваших вернисажах… наблюдал ваши полотна, наблюдал. – Витас глядел на черно– белую фотографию, которую Елагин держал в руке. – Витас, по батюшке?..
– Художники не имеют отчеств.
– О’кей. Витас, вот это лицо… взгляните… вы сможете… изобразить на вашей фреске?.. Я понимаю, конечно, я обнаглел до последней степени, но, понимаете, мне это важно, очень важно... я…
“Ты просто подслушал разговор. И поймал момент. Что ты хочешь от меня?”
Сафонов взял в руки фотографию. Вгляделся. Перевел изумленный взгляд на Ефима.
– Но это же… вы!
– Это не я. Я никогда не был бритоголовым. Никогда не носил пауков на рукаве.
– Но как похож! Да нет, это вы…
– Хорошо. – Елагин заметно занервничал. – Хорошо, пусть я! Вы можете – изобразить на вашей фреске – меня?
Витас отодвинул от глаз фото. Прищурился.
– Почему нет? – У него появились замашки знаменитости. Он выше задрал подбородок: мол, не таковских еще писали, и портреты чуть ли не по телефону заказывали, и с фотографий 3х4 работал, перенося личико умершего ребенка на могучую холстяру 200х200, все было, всякое бывало… – Могу. Конечно, могу! Микеланджело вон еще не то, не тех типов на своих фресках в Сикстинской капелле рисовал… как хотел, издевался над современниками… – Глаза Витаса скользнули, мазнули осторожной, хитрой колонковой кистью по лицу Ефима. – А позвольте вас спросить…
– Для чего мне это нужно? – невежливо перебил его Ефим. – Для того, чтобы те, кто за мной охотится, поняли: я вечен. Я бессмертен. Меня невозможно убить.
– За вами охотятся? – Витас испачканными в краплаке пальцами осторожно, как ядовитую змею, вытянул из кармана рабочей рубашки пачку “Кента”. – Кто же это?
– Я соблазнительная дичь. – Ефим криво улыбнулся, не отказался от предложенной сигареты. – Если бы я знал, кто охотник – я бы не заказывал вам свое изображение на фреске.
– Понимаю. – Они оба закурили. Дым вился под сводами, в полумраке храма белесыми призрачными струйками, будто бы дым сандаловых палочек, будто стебли иерусалимского дикого винограда. – Вы хотите вызвать огонь на себя?
– Возможно. Я сам не знаю, зачем я вас об этом прошу. Порыв души. Не откажите.
Витас, сквозь дым, пристально глянул на Елагина. Тот стоял прямо, бесстрашно глядя в лицо художнику. До чего красив, подумалось Сафонову, бык и тореро в одном существе! Раскосая женщина за спиной знаменитого магната блестела глазами, взглядом изучая знаменитого художника. Витасу показалось на миг – она глазами раздевает его. Через секунду, в полумраке, он узнал ее.
Мертвое море. Вот ты какое, гладкое, как синее зеркало, застывшее под жарким белесым небом Мертвое море.
Почему ты мертво? Почему в тебе – ни одной рыбы? Ни одной раковины? Ни одной водоросли, длинной, как жизнь?
Купол сизого дымного неба накрывает тебя. Ты – под куполом небесного храма. Тишина. Ты само не знаешь, что ты – мертво. Мертвый никогда не знает о смерти своей. Мы знаем все, только пока мы живы.
Они лежат на берегу. Сквозь смуглые длинные пальцы перетекает белый песок. Раскаленный песок обнимает голое тело. Они нашли место за валунами, где нет никого, где все мертво и пустынно и можно раздеться догола, и лежать голыми на солнце, и раздвигать ноги, и сдвигать бедра, и неистово вонзать себя друг в друга.
– А сюда, дорогая, доходил когда– нибудь твой Чингисхан?..
Песок скрипит на зубах. Тела облеплены песком. Искупаться в море нельзя – покроешься коркой соли. Будешь сдирать соленую горькую корку в отеле под душем, наслаждаться, подставляя грудь и лицо потокам воды.
– Доходил.
– Врешь!..
– Чингисхан был везде. Он был везде и всюду. И он еще будет. Придет новый завоеватель. Вождь. И завоюет все.
Он приближает к ней лицо, залепленное песком. Находит губами ее губы. Его рука скользит по ее животу, ниже, ниже. Она крепко сжимает ноги.
– Боишься песка?..
– Боюсь тебя. Идем лучше в море.
– Увидят!..
– Тем лучше. Слаще будет.
Они катятся по голышам, по кромке белого песка к мертво стоящей, черно– синей воде. Вкатываются в воду. Вода обжигает их солью. Они целуются солеными губами. Он нависает над ней, вонзает в нее себя, как древний воин вонзал в живую плоть копье.
Они смывали с себя песок и соль в отельном душе. Они снова любили друг друга – на широкой отельной кровати, на полу, на ковре. Он посадил ее на стол, она раздвинула ноги, он стоял перед ней, протыкая ее собой, она обнимала его ногами, стонала и смеялась. А потом уже не стонала, только закидывала голову, отворачивалась от него, только хрипела, понукая его, как коня, всаживая ногти ему в поясницу: скорее, скорее, еще.
Алая Луна висела над Иерусалимом. Где– то далеко текла мутнозеленая река по имени Иордан. Жара не спадала и ночью. Пыль на дорогах улеглась. Машины и автобусы шуршали, как железные жуки, по автострадам. В небе тяжко, печально гудели самолеты. Когда он, прижимая ее к себе, содрогался в невыносимом наслаждении, она, касаясь его груди мокрой щекой, спросила тихо: “Боишься, что тебя убьют?”
А за стеной, в соседнем номере, перед кроватью, где лежала нагая меднокосая женщина, стоял на коленях голый мужчина с длинными, как у женщины, волосами. Его волосы щекотали ей живот. Она улыбалась улыбкой сфинкса. На подушке горели в лунном свете изумрудные длинные серьги – она не сняла их на ночь. Длинноволосый, нагой худой мужчина, сгорбившись, целовал свисавшую с края кровати руку женщины. Он плакал. Он просил о чем– то. Она, улыбаясь, отвечала: у тебя была тысяча женщин, Витас, и ты ведь никого из них не любил, никого. Если ты полюбишь хоть кого– нибудь по– настоящему, хоть раз в жизни, тебя излечит это от многих страданий. Страдание излечивается страданием, ты разве об этом не знал? Разве нож хирурга причиняет радость? Сначала он причиняет боль, не так ли?
Алая Луна глядела в окно. В воздухе пахло войной. Здесь, на этой земле, называемой Святой, люди воевали всегда и уже привыкли к этому, притерпелись. Длинноволосый голый мужчина прекрасно слышал, как за стеной, в соседнем номере, ритмично скрипит кровать, вскрикивают от счастья люди в объятьях друг друга, и стонал от невозможности свершения, и сжимал длинные холодные пальцы женщины, как сжимают прутья тюремной решетки.
ПРОВАЛ
А ты? Ты– то что стоишь голяком на Красной, прекрасной площади, в метель – нагим перед храмом Василия Блаженного? Был такой пьянчужка, родня твоя дальняя, Порфирием его звали, так тот тоже нагишом ходил– шастал везде, все пропагандировал здоровый образ жизни: мол, ходи босиком по снегу, и ни разу не чихнешь. Ах, Боже ты мой! Вот ведь как все было: стоял ты, запахнувшись в зипун свой драный, а потом р– раз – и сбросил его, скинул на снег, и портки стащил, и пиджак долой, и рубаху сорвать, и… “Придурок! Придурок!..” – заорали мальчишки, засвистели в два пальца. Разделся ты до трусов, стоишь, метель сечет тебя, ты смеешься. Кричишь: бойня будет! Великая бойня! Перебьете вы друг друга, дураки!
И тут она идет.
И так впервые вы друг дружку увидели.
Она вылезла из машины около ГУМа. Норковая – или соболья?.. – шуба мазнула полой по заметенной снегом брусчатке. Солнце било ей в лицо. Она резко хлопнула дверцей такси. И ты, голый, ежащийся на ветру под крики детей: “Придурок!.. Придурок!..” – увидел ее во всей красе.
Она пошла, стуча по мостовой каблуками: цок– цок, цок– цок. Железом подбиты, что ли? Ты – за ней. В старых семейных трусах, черных, будто довоенных. Будто ты был теленок, а она вела тебя за кольцо в носу – куда? На убой? На зеленую лужайку, где – счастье?
– Эй!.. Дамочка!.. Дайте денежку!.. Не обеднеете… На шкалик… В рюмочную схожу…
Она обернулась. Ожгла тебя желтыми кошачьими глазами. Из– под драгоценной собольей шапки выбились, легли на воротник шубы густо– красные волосы.
– Пошел вон, голый попрошайка!
– Я не попрошайка! – крикнул ты гневно. – Я пророк!
– Что?!
Она остановилась. Засмеялась зло, обидно.
– Дай, дай…
– Еще всякий пьянчужка!..
Наткнулась глазами на твои глаза. Полезла в карман своей богатой шубы.
– Держи!
Доллар, зеленый доллар полетел по холодному ветру. Вихрилась метель, а в небесах сияло солнце. И ты поймал чужеземную бумажку, изловил в воздухе, как кот лапой – рыбку в реке.
Она отвернулась. Быстро пошла прочь от тебя. Полы шубы развевались за ее спиной. Из кармана у нее, когда она вынимала деньгу для тебя, для того, чтобы ты выпил вина в чепке, вывалился маленький квадратик бумаги. Ты наклонился, поднял. На квадратной картонке, отблескивающей перламутром, было написано золотыми буквами: “АНГЕЛИНА СЫТИНА. ПСИХИАТР”. И цифры – это чтобы по телефону звонить, значит.
– А я Алешка! – крикнул ты ей вдогонку, в спину. – Я Алешка Нострадамий! Мы с вами, дамочка, с одной буквы начинаемся! Не миновать нам встречи!
Ты сунул визитку в карман. Пчелы снега кусали тебя в голую грудь, за голые плечи. От метро “Площадь Революции” по направлению к тебе уже шли люди в форме, которые в этом веке назывались длинно и смешно – милиционеры.
И ты еще не знал, что она сегодня улетит на юг, в землю, где выжженные белые камни похожи на кости, где раньше, давно, казнили людей, прибивая их к деревянным крестам и перекладинам ржавыми гвоздями; ты глядел на ее визитку, как глядят на фотографию, улыбался беззубым ртом и с трудом разбирал буквы: ага, вот где она живет, я знаю теперь.
Они увидели друг друга в гостиничном буфете. Утром, за завтраком. Обе пары – Ангелина и Витас, Ефим и Цэцэг – решили, что завтракать в номере не будут. Наверняка в буфете есть горячий кофе, сливки, йогурты, какие– нибудь национальные еврейские медовики…
Они увидели друг друга все четверо. Стоя за стойкой бара, Витас радушно улыбнулся Ефиму, помахал рукой. Ангелина и Цэцэг переглянулись мгновенно и понимающе, быстрее молнии скользнули друг по другу их глаза и уперлись в чашки дымящегося кофе. И только Ефим, вскинув глаза на спутницу Витаса Сафонова, замер, застыл, слепо сунул в рот сигарету, забывая про свой кофе, про свой апельсиновый сок, про свой бутерброд, про свое свежее масло на расписном блюдце.
Он не знал ее. Она ослепила его.
Она не знала его. Но она его узнала.
Его знало полстраны – как она не могла узнать его?
А может быть, она знала его не только по газетам и журналам? Не только по мельканию в популярных телешоу?
Не только… Не только…
Витас, продолжая улыбаться, потянул Ангелину за руку.
– Ангел мой, познакомься. Это Ефим Елагин, собственной персоной!
Ангелина, с бокалом легкого розового вина в руке, сделала шаг от своего столика к столику Ефима.
– Очень приятно. Так приятно, вы даже представить себе не можете.
Цэцэг глядела на нее во все глаза. Ангелина стукнула своим бокалом о чашечку елагинского кофе. Рассмеялась. Незаметно наступила ногой под столом на ногу Цэцэг.
– Ангелина.
– Ефим.
Цэцэг смотрела на них обоих во все глаза.
Витас шебаршился, сновал туда– сюда, от стойки бара к столику, что– то съестное волок на подносе, что– то расставлял на столе, наливал, накладывал, восклицал: “За ваше здоровье!.. За ваше!..” Ефим не видел, не слышал ничего. Он не отрывал глаз от лица этой женщины. На миг ему показалось: она – чудовище. И у нее голова дракона. Только на миг. На него снова глядели, смеясь, ее длинные, пульсирующие, желто– болотные, кошачьи глаза.
– Вы надолго в Иерусалим?
– Пока тут не разразилась очередная война. Я люблю Святую Землю. У меня к ней свои пристрастия.
– И свои счеты?
Он остро глянул на нее, будто кольнул шилом. Углы его губ приподнялись. Он хотел что– то сказать – и не сказал.
И она что– то тоже хотела сказать – и не сказала.
Цэцэг смотрела на них обоих бесстрастными, узкими раскосыми глазами, прищурясь, с невозмутимой улыбкой.
“Зачем я так нравлюсь мужикам? Затем, что ты знаешь силу. Ты владеешь силой. Ты владеешь тайной. Твоя тайна – у тебя в руках. Может быть, это тайна мира. Тайной мира наверняка владеет женщина. Такие женщины, как ты. Ты – одна из допущенных. Чепуха! Я всю свою жизнь сделала сама. Я отваживалась на многое. На такое, на что простая смертная бабенка не отважится никогда. И, значит, я уже в круге избранных. И Ефим Елагин это понял. О, он понял это с первого взгляда. А Фюрер? Хайдер тоже понял. Это два сильных. Витас? Витас мой маленький больной ребенок. Я скручу его в бараний рог, если захочу. А… этот?.. Пацан?..
Про пацана не думай. Пацана – прихлопнула, как комара, и забыла. Он безвреден. Он тебе не насолит ничем. Он ввел тебя в тот мир, что ты изучаешь. Что пригоден тебе для твоей работы. Их мир – это твой хлеб. Агрессия в современном социуме! Как актуально! Ты же ловишь все нужное. Насущное. То, что беспокоит людей. Ты же врач. Ты же должна ловить флюиды страдания. И – излечивать?!
А может, ты должна читать приговоры?
И – казнить?!
Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Где ты поставишь свою запятую для этого, нового несчастного? Тебе нужен Елагин. Нужен! Так, как в свое время тебе был нужен его…”
Яркое, обжигающее солнце передвинулось по полу веранды, обвитой диким виноградом. Официантка, улыбаясь, несла на высоко воздетом над головой подносе вино, апельсины, смокву, финики.
– Меду не желаете? – спросила, наклонившись, официантка по– английски.
– Меду? Спасибо, нет. Принесите еще холодного вина.
Девушка, смуглая, с вишневым румянцем во всю щеку, горбоносая, как Суламифь, снова ослепительно улыбнулась и убежала на кухню. Ангелина поглядела на Ефима пронзительно своими кошачьими глазами. Он вернул ей взгляд, отбив его, как теннисный мяч.
– Вы говорите, вы врач?
– Да. Я врач. Практикующий психиатр.
О том, что она пишет диссертацию об агрессии, лучше было умолчать. Он наверняка улыбнется над этим занятием: степень ученая бабе нужна, зачем, когда она и так отличные деньги зарабатывает? Вязанье, вышиванье слов по белизне компьютерного дисплея…
– Это важно, – он сглотнул слюну. – Мне, видите ли, как раз не хватало в жизни… врача. Даже не врача, а…
– Исповедника? Я не духовник. Я не замещаю священника. Вы на Святой Земле, вот и идите в храм Гроба Господня, там вас примут и обласкают.
– Я не то хотел сказать. – Он повертел в руках ножку бокала. Черно– синее дамасское вино стояло в бокале черной кровью. – Видите ли, Ангелина, я попал в не совсем хорошую ситуацию. Шантаж не шантаж, но… Впрочем, это слишком похоже на шантаж. Из меня хотят выудить деньги, много денег, видимо, это так. И избрали нетрадиционные методы припугивания. Подсылают каких– то уродов, во сне приснится, заорешь благим матом. Подбрасывают фотографии, где я – это не я, а бритый молодчик, и со свастикой на рукаве. Но это я, понимаете, это я! Компромат колоссальный, если будет обнародовано… Вы же знаете, как у нас фабрикуются дела…
– Знаю. – Ангелина отщипнула от сухой веточки вяленую смокву, зажевала.
– И я, знаете… ну как бы это объяснить…
– Ничего объяснять не надо. – Она сверлила его желтыми глазами, жуя смокву. – Объясняют только в суде. Или на допросе. Я врач, я вижу все с ходу. Вам плохо? Вы испытываете дискомфорт? Вы боитесь? Вы боитесь, что вас убьют? Или, еще хуже, не убьют, а унизят – перед всем миром, что вам сейчас подвластен? Вы боитесь унижения больше, чем смерти?
– Да. Я боюсь. И смерти боюсь, – вырвалось у него с отчаянием, – и унижения. Вы сказали правду, иной раз лучше смерть, чем позор.
– Браво, вы настоящий мужчина. – Она откинулась на плетеную спинку стула, продолжая пронзать его глазами. – И вы надеетесь, что я вам помогу?
Она обняла, ощупала его взглядом. Он задергался под этим скользящим по нему, как холодная змея, быстрым, надменно– веселым и вместе с тем жгуче– манящим взглядом.
– Да. Я вижу, что вы опытны.
– Возможно, вы не ошиблись. Назначайте время.
Он непонимающе уставился на нее. Где– то рядом, внизу, под верандой, тек, журчал Иордан. Священная река Иордан, мутно– серо– зеленая, на солнце – желтая, как глаза этой тигрицы.
– Как?
– Время первого сеанса.
– Первого?..
– Если вы понятливый пациент – возможно, и последнего. Если у вас запущенный случай – что ж, поработаем.
Жужжала пчела. Ефим подумал: а Цэцэг? А что Цэцэг? Разве Цэцэг ему поможет? Вот кто вытащит его. Вот кто снимет с него ужас подспудной, подсознательной истерики. Вот кто подскажет ему, как быть, как поступить. Разве он такое дитя?! Может быть, и дитя. Весь его блеск не стоит гроша ломаного перед угрозой тьмы. Перед тьмой, что наваливается не слева, не справа, не снизу, не сверху – ниоткуда. И берет с собой в никуда.
– Завтра. – Ефим облизнул пересохшие, запекшиеся на солнце губы. Отхлебнул из бокала. – Завтра вечером, в десять. Где?
– У меня в номере.
– Но вы же… – Он хотел сказать: “Со спутником”, и не мог выговорить: “С любовником”.
– Витас будет завтра в храме работать всю ночь. У нас будет достаточно времени.
Неделя. Всего неделя здесь. Потом – Москва. А эти идиоты назначили Хрустальную ночь через десять дней. Он же погорит, великий Фюрер, хрусталь его разобьется вдребезги! Он оставил ей свой номер телефона, но она ни за что ему не позвонит. Пусть мужик пострадает. Он же все равно уже – ее. Вот в свою больницу она позвонила. Вроде все в порядке. Эта, строптивая грузинка, Цхакая, правда, отчебучила номер. Устроила там, в палатах, нечто вроде восстания. Свобода на баррикадах, твою мать! Ничего, она вернется и научит их с новой силой любить свободу. Перед ней сейчас открывается иной мир. Другой. Тот, которого она не знала раньше. Она видела– перевидела богачей, магнатов, олигархов, акул мирового бизнеса, мировой политики, мировой мафии. Она совершенно не знала мира, противостоящего тому, в котором она как сыр в масле каталась. И эта экзотика, эта новизна щекотала ей нервы.
Неделя. Всего неделя. Отдыхай, сволочь Ангелина. Отдыхай, рысь, красивая кошка. Дикие кошки спят в лесу, залезая на деревья. У тебя целых три дерева: Иерусалим, Витас и Ефим Елагин. А Цэцэг? А что Цэцэг? А Цэцэг молчит, рот на замок, зубы на крючок. Молчи, молчи, раскосая кукла. Если ты только вякнешь – от тебя мокрое место останется. Ты слишком много знаешь, Цэцэг, чтобы ты могла так просто уйти. Скрыться в тень. Во тьму.
Тьма – это ее дом. Это от века дом всех диких кошек.
Неделя, а сеанс гипноза с этим лощеным богатым сыном богатого отца – завтра.
При чем тут его отец?
Лицо приблизилось к зеркалу. Рука отерла ватой, смоченной в косметических сливках, уже загоревшее на южном солнце лицо. Глаза сказали ей золотой желтизной: прекрати думать о том, что ты оставила за спиной.
Он постучался не осторожно – четко, властно. Она подумала: так мог бы стучаться к ней в дверь Хайдер.
– Да! Войдите! Не заперто!
Он толкнул дверь и переступил порог.
И замер.
Он не ожидал увидеть ее в таком облачении.
Он ожидал всего чего угодно. Даже того, что она встретит его в белом халате.
Но он не ожидал увидеть ее в том, что было на ней.
Она была почти нагая.
На ней не было ничего, кроме повязки на бедрах, расшитой маленькими блестящими стекляшками, и большого тюрбана на голове, свернутого из ярко– розового шелка. Откуда она вытащила этот маскарадный наряд, подумал он рассерженно, на иерусалимском рынке, что ли, купила, – а глаза его, помимо воли, ощупывали ее шею, ее грудь, с коричневым ошейником загара чуть выше плеч, с позолоченной тяжелой гривной, лежащей над торчащими темно– коричневыми сосками. У него пересохло во рту. Он отшагнул назад.
– Мне кажется, Ангелина, я…
– Ошиблись номером? – Она усмехнулась. Повела в воздухе рукой, и он следил за ее рукой, за тем, как она плавно, медленно движется в полутьме комнаты. – Нет, вы не ошиблись, Ефим. Это я, и это мой номер. Тридцать шестой. Витас – рядом, в тридцать пятом. Проходите. Садитесь. Вот сюда, в кресло.
Не чуя ног под собой, Ефим опустился в кресло. Он не сводил глаз с ее медленно движущихся над ним, будто бы летающих, как большие птицы, белых рук. Что она делала ими? Он не мог бы объяснить. Постепенно в его голове начала звучать тихая музыка, будто кто– то перебирал, далеко– далеко, струны арфы. Ему захотелось закрыть глаза. Но он не мог их закрыть. Его одолевал соблазн – глядеть и глядеть на обнаженное, медленно двигающееся перед ним, красивое женское тело.
– Ваши руки теплые, горячие, – пел над ним нежный насмешливый голос. – Ваши руки и пальцы наливаются теплой, горячей кровью… Ваши ноги теплые, им становится все теплее, они будто ступают по горячему, раскаленному песку... Песок жжет, прожигает ваши ступни... Вам горячо... Горячо внутри… Горячо вашему сердцу… Оно горит, оно блаженствует…
Он ощущал все, что женский голос пел ему. Его тело медленно заливал приятный жар. Будто бы у него поднималась температура, и бредовый морок сладко, навек заволакивал сознание.
– Господи, как хорошо, – сказал он внезапно отяжелевшими, непослушными, будто распухшими губами, – подойдите ближе, я хочу положить руку вам на грудь…
Он попытался протянуть к ней руки. Руки ему не повиновались. Они стали чугунными, странно чужими, будто приделанные к плечам рельсы. Нагая женщина в блестящей набедренной повязке шагнула к нему сама. Ее пальцы заскользили у него перед глазами, и последнее, что он увидел перед тем, как окунуться в сладкую, довременную тьму, – это тонкая золотая цепочка, застегнутая у женщины над впалым, втянутым внутрь живота пупком.
– Ты спишь. Спишь. Спишь! Спать. Спать. Спать. Ты будешь спать долго и сладко. И во сне ты расскажешь мне все. Все. Все.
Какое отвратительное, слишком красивое лицо. Красивая морда. Он мнит себя владыкой мира. Недалеко яблочко от яблоньки упало. “Мне важно знать, знаешь ли ты, красивый собачонок, о том, чем занимался в свое время твой отец. Мне важно знать, осведомлен ли ты настолько, чтобы на мой след вышли. И взяли меня с поличным. Меня, безупречную, чистенькую меня”.
– Да, я все тебе расскажу.
“Ты смотри– ка, я ему “ты”, и он мне – “ты”. Сейчас он погружен в пространство, где он подвластен мне целиком. Как прекрасно, когда кто– то принадлежит тебе целиком! Ну, давай, мальчик, раскалывайся. Если только я что– нибудь заподозрю – можешь расписаться в своем небытии. Мне не нужны свидетели”.
– Ты ответишь мне всю правду.
– Всю правду, – монотонно произнес тот, кто сидел перед ней.
– Чем занимается твой отец?
– Мой отец занимается крупным бизнесом и банковским делом. – Голос загипнотизированного звучал тихо и покорно. Напоминал голос машины, робота. – Он владелец крупных издательских холдингов и трех киностудий. Совладелец двух больших банков. Мой отец один из самых богатых людей России.
– Ты знаешь, чем занимался твой отец, помимо своих официально разрешенных дел?
Молчание. Легкое потрескивание в воздухе мошкары, летящей на пламя светильника на стене. Мошкара гибнет. Человек тоже летит на огонь и гибнет. Закон природы.
– Нет.
– Если ты обманываешь меня, тебе сейчас станет плохо. Очень плохо. Так плохо, как тебе не было никогда в жизни.
Того, кто сидел перед ней в кресле, бессильно бросив руки на колени и закрыв глаза, внезапно начало корежить. Его ломало и выворачивало в корчах, он поднес руку ко рту. Распялил рот в беззвучном крике. Его сотрясли рвотные судороги, слюна потекла из угла его рта. Она взяла край набедренной повязки, вышитой стеклярусом, и брезгливо вытерла ему рот. Он стал хватать руками воздух, его пальцы крючило. Он стал вываливаться из кресла, падать на пол. Упал на колени. Пополз по полу на коленях к ней. Упал на пол, стал кататься по полу, подтянув колени к подбородку, как рожающая женщина, как младенец в утробе матери.
– Я– а– а– а!.. я– а– а– ах…
– Говори! Говори, знал ли ты, чем занимался твой отец недавно!
– Я– а– а– а… сними… сними боль… а– а– а– ах… убери…
– Я уберу боль тогда, когда ты скажешь мне правду!
Он подкатился к ней, к ее ногам, ухватился за ее голые щиколотки, вцепился в них больно, крепко, как птица когтями. Она ударила его пяткой в лицо. Он откинулся назад и, падая, ударился затылком о пол.
– Я… догадывался… я знаю… но не все… я… я тебе все расскажу!.. Умоляю… убери… убери смерть…
Она протянула над корчащимся телом руки. Усмешка изогнула ее губы.
– Тебе сейчас станет лучше. Видишь, тебе все лучше. Тебе уже совсем хорошо. Ты уже можешь говорить. Ты уже говоришь. Ты уже говоришь мне!
– Я… видел… как отец… приносил откуда– то драгоценности… женские кольца, браслеты… кулоны… всякие побрякушки… и прятал их в ящик стола… и еще – в сейф… в сейф в стене… Я думал… он покупает это по дешевке… у восточных торговцев… у египетских, у каирских дешевых ювелиров… а потом… потом я понял…
Снова молчание. Она пнула его босой ногой.
– Говори!
– Я понял… что это не от каирских ювелиров… Что он не покупает это у перекупщиков… или в ювелирном салоне на Новом Арбате… или в галерее “Schatz'i”… Что это ему достается иным способом…
“Знает. Знает, собака!”
– Каким? Говори!
Тишина. Витас придет поздно, под утро. Он сказал ей: сегодня работаю в храме всю ночь, прописываю фигуры центральной фрески. Она может работать с Елагиным всю ночь, до рассвета. Она должна знать правду. Тогда она спасет Цэцэг. Спасет этого старого дурака , его отца. А себя? И себя, разумеется. О себе она не забудет.
– Говори! А не то…
– Не надо! Не надо! Я скажу! Я…
– Что ты знаешь?!
– Отец… однажды напился пьяным… и обмолвился… проболтался… Он сказал, что это драгоценности убитых женщин… что он их будет хранить как память… И еще… что благодаря этим убитым… этим убитым женщинам, да!.. будут спасены жизни, много жизней, да, да… других людей… Что эти женщины… убитые… дадут жизнь другим, обреченным… и те, кто приговорен… заплатят за это очень, очень большие деньги…
– Он так сказал?! Георгий так сказал?!
– Да…
– Когда он говорил тебе все это, он был сильно пьян? Говори!
– Да… Он тогда был сильно пьян… Еле шевелил языком… Но я все, все запомнил… что он болтал…
– Где он тебе рассказывал это?!
– На даче… На нашей старой даче… На его старой даче… Я еще тогда не выстроил дворец в Архангельском… еще не перещеголял князей Юсуповых… Мы сидели у камина, пили водку, много водки… три бутылки “Алтайской”… отличная водка… и он плел мне все это…
– Ты веришь тому, что отец болтал тебе по пьяни?!
– Нет…
– Не ври мне! Тебе будет хуже!
– Да… Да! Да! Да!
– Хорошо. Отец называл тогда тебе какие– нибудь имена в разговоре? Только без лжи! За ложь я накажу страшно!
Молчание. Тяжелое, липкое как мед, тянущееся, капающее вниз крупными каплями молчание.
– Да… Называл.
– Тебе известны были эти имена?! Говори!
– Да… Да! Известны… Это…
– Говори!
Она коснулась рукой его лба. На ощупь его лоб был влажен и холоден как лед.
– Это… было одно имя…
– Что за имя?!
– Я… дело в том, что я… это имя… я…
– Говори! Говори имя! Быстро!
Она видела, как он с трудом разлепил губы. Как с натугой, страшно выдавил из себя это имя:
– Дина… Дина Вольфензон…
“Да, Возможно, да. Имя одной из тех девчонок, или бабенок, которых мы… Не припомню. Этого имени я не припомню, хотя я многих освидетельствовала и запомнила очень хорошо. И многих я сама погружала в состояние транса, чтобы им было легче перед тем, как… Чтобы они – не понимали… не поняли. Дина Вольфензон? Нет, эту – не помню. Вполне возможно, эту он СДЕЛАЛ без меня”.
– Еще! Еще имена! Быстро!
– Имена?.. Еще?..
Он так и валялся на полу у ее ног. Поднимал голову, как собачка. Поворачивал к ней, на ее голос слепое, незрячее лицо.
– Да! Еще имена! Имена, которые называл твой отец!
– Кажется… кажется, он называл еще одно женское имя… Александра… или Александрина?.. не помню… и мужское… кажется… Глазов?.. или – Глазков… Не помню… не помню… Я… ничего не помню!.. Я слепну… слепну… ослепительный свет… а– а– а– а!..
Он закрыл глаза ладонями и снова повалился на пол, как молящийся в храме. Снова покатился по полу кубарем, прочь от нее, к задернутому белой, как саван, занавеской отельному окну.
Она выводила его из состояния гипнотического транса долго. Это стоило ей усилий. Еще никогда у нее не было такого капризного, истеричного пациента. Когда он еще сидел в кресле – она заставила его сесть в кресло, когда он еще был под гипнозом: “Встань! Садись в кресло! Руки на колени!. Дыши ровно!” – она быстро сбросила с себя костюм Клеопатры, зашвырнула ногой под кровать. “Дешевый карнавал, но так было надо. Он даже не будет помнить, в чем я была. Эффект шокотерапии. Надо было поразить его в самое сердце. В самые яйца, точнее. Я все сделала верно. По крайней мере, я все узнала. Я узнала достаточно. Он безопасен. Пока. До поры”. Не сводя с него глаз, натягивая на себя белый махровый халат, она крикнула:
– На счет три вы ощутите свои руки и ноги, теплые, тяжелые! На счет четыре – приятное покалывание в пальцах! Ваши веки горячие, теплые, живые, вам хочется их поднять! На счет пять вы откроете глаза! Вы забудете, что с вами здесь было! Вы будете помнить только, как меня зовут! Вы избавитесь от страха перед теми, кто вас преследует! Раз!..
“Отличный халат. Подарок Витаса. Купил и подарил мне прямо здесь, в Иерусалиме. Галантен. Зачем я так издеваюсь над ним? Раздеваюсь догола и мучаю его? Классическое динамо, господа! Или – изощренная пытка?.. Ты гестаповка, Ангелина. Ты проводила допрос под гипнозом тоже классически”.
– Два!..
“Как у него дергаются ручки– ножки. Никто не поверит, что здесь, в иерусалимском отеле, я так потешаюсь над самим Ефимом Елагиным, первым магнатом страны, первым ее красавцем… У, стервец…”
– Три!
“А если он не все сказал?.. Если он – знает про тебя?.. Нет, не может быть. Ты провела глубокое погружение, по всем правилам. Ты четко и жестоко допрашивала его. Ты заставила его испытать сильную боль. Боль, насланная гипнозом, тяжелее переносится, чем реальная. Фантом муки всегда сильнее настоящей муки”.
– Четыре!
“Как дергаются его веки. Вот, вот, задергались. Классическое пробуждение. Но какой медленный выход. Я же ему три раза приказывала. И – ничего. Зубы сцеплены, дыхание тяжелое, прерывистое. Слабое сердце?.. Тогда мне повезло, что он не окочурился у меня тут, прямо в номере”.
– Пять!
Елагин открыл глаза.
Перед его глазами стояла женщина, запахнувшаяся в чисто– белый махровый халат, красивая, розовощекая, как после купания. До ключиц свисали зеленые серьги. Она стояла на гостиничном ковре босиком, и на одной ее щиколотке болтались позолоченные ножные браслеты – перисцелиды. Женщина, склонив голову к плечу, улыбаясь, смотрела на него.
– Ангелина, – сказал Ефим тихо, – Ангелина…
Он отер рукой пот со лба. Осмотрел себя.
– Почему у меня рубаха вся грязная?
“Потому что горничная плохо убиралась, а ты ползал по полу передо мной, как жук навозник. Но я этого тебе никогда не скажу”.
– Это неважно. Вы ведь хорошо себя чувствуете?
Он развел руками. Она ободряюще улыбнулась ему.
– Отлично. Лучше не придумаешь. Только большая слабость. Коленки дрожат. Видите, даже не могу встать из кресла.
– Ничего. Встанете. Не бойтесь, вставайте.
Она протянула ему руки. Он взял ее руки в свои. Она и оглянуться не успела, как оказалась в кресле, на его коленях, в его руках. И жадные мужские губы, привыкшие к сладостям легкой любви, уже ищут и находят, целуют и всасывают ее губы. “Насилие?! Кажется, да. Ты даже Хайдеру не позволила изнасиловать себя! Ты не даешься этой богеме, Сафонову! Ты дразнишь всех! Ты была только с тем мальчиком… потому, что так захотелось – тебе! А не им! А этот?! Да он обнаглел… да он…”
– Я ничего не боюсь, – прошептал он ей губы в губы. – Я и тебя не боюсь, доктор. Ты же сама приказала мне это. Это уже течет в моей крови. Страха нет.
Он взял ее тут же, в кресле, грубо задрав ей полу белого махрового халата. Сидя на нем верхом, задыхаясь, подскакивая – он поддерживал ее под мышки, насаживая на себя, – она подумала: что, если сейчас откроется дверь, и войдет Витас. У Витаса от моего номера есть ключи. Он сам сделал дубликаты.
Цэцэг до утра царапала подушку на отельной кровати.
Цэцэг до утра каталась по кровати, от края до края.
На ее лице больше не застывала невозмутимая улыбка Будды. Она безбожно материлась. Она, разъяренная, задыхалась. Она понимала: одно ее неверное движение, один ее неверный шаг – и она погубит не только их обеих, себя и Ангелину, но и частокол теней за их плечами. Эти тени – живые люди. Если ей удастся выжить – родня тех, кого она выдаст, найдет ее, выследит ее, уберет ее. Это ясно как день. Так зачем же она катается по кровати, как припадочная, грызет подушку, бормочет несвязные ругательства?!
Потому что она знает: он там, с ней.
Он – Ефим – там, с ней, с Ангелиной. И ничего уже не поправить. И ничего уже не понять. На грех они полетели сюда, в Иерусалим! Хоть бы война тут опять разразилась, что ли! И неистовый араб подстрелил ее, раскосую дуру, из– за угла, приняв за еврейку!
Ты должна терпеть, говорила она себе, ты должна терпеть. Ты должна помнить то, чего помнить не надо. Деньги на земле даются в руки людям по– разному. Добываются разными способами. Ты еще не забыла тот способ, что связал тебя с Ангелиной Сытиной крепко– накрепко? Ну вот и помни на здоровье. И дай Ефиму полную свободу. Он же знал о твоих любовниках. Знай теперь и ты о его любовницах.
– Все кто угодно, только не Ангелина, – прошептала Цэцэг в подушку. Уткнулась лбом в спинку кровати. Соскочила на пол. Подбежала к окну. Густо– алая, как апельсин, Луна заглядывала в комнату. Полнолуние, скоро Луна пойдет на ущерб. А что в Москве?.. А в Москве снег и холод, морось и метель по ночам. Февраль идет, и март наступает. Сумасшедший март, сумасшедшее солнце. Я боюсь Луны, я люблю Солнце. Я дочь кровей Чингиса, я люблю выжженную, жаркую степь и огромное, в полнеба, Солнце над ней. Я не люблю Мертвое море. Я не люблю мертвую Святую Землю. Какую страшную фреску малюет на стене вновь возведенного собора этот Витас Сафонов! Уж лучше бы малевал своих жутких голых баб с обвислыми грудями и жирными задами. Это не задницы, это “фанни”, вот как надо говорить, учили ее знакомые художники. Есть жанр натюрморта, есть пейзаж, а есть “фанни”. Эта чертова Луна похожа на половинку розовой поросячьей фанни. Проклятье. Уже пять утра, а Ефима нет как нет! И ведь придет и скажет: я гулял, я был на Масличной горе, прости меня, я должен был побыть один.
Они и правда были на Масличной горе.
Они и правда провели ночь в тех местах, где Христос молил Бога, Отца своего: “Отведи от Меня чашу сию”, – после того, как в отеле между ними случилось то, что должно было случиться у них в Москве с Хайдером и не случилось лишь по ее вздорному капризу. Все верно. Она была распалена Хайдером – она отдалась Елагину. Все уравновесилось на чаше весов природы.
Они пришли глубокой ночью на Масличную гору, и гуляли по Гефсиманскому саду, и сидели под маслинами, и снова обнимались и целовались. Они были отнюдь не сентиментальные школьники. Просто была весна, и кровь играла. Они оба взяли тайм– аут у Бога. Бог умер за них – почему бы им не повеселиться там, где Его казнили? Казнить нельзя помиловать. После того, как они пообнимались на Масличной горе, Ангелина, отстранясь от Ефима, пристально поглядев на него своими зверьими глазами, сказала: “А теперь пойдем на Голгофу”.
И они вправду пришли на Лысую гору; туда, где стоял сейчас храм Гроба Господня; и попали прямо на раннюю службу, ведь и небо начало уже бледнеть, розоветь, наливаться призрачным светом; и, притихнув, они оба вошли в храм – и переглянулись: каждый подумал об одном и том же, о том, что вот сегодня, сейчас они принадлежали друг другу, и вот входят в храм, и это – вроде как венчание.
“Ты же случайный, случайный мужик у меня, хоть ты и Елагин, у меня сто таких мужиков было и еще тысяча будет”, – говорила себе Ангелина, исподлобья косясь на Ефима. Красивое, широкоскулое, мощной лепки, бледно– золотое в свете храмовых свечек, лицо Ефима показалось ей золотой маской.
И с кого– то, неведомого – или ведомого? – ей, эта маска была снята.
Маска, я тебя знаю. Маска, на кого ты похожа?! Маска, маска, чур меня, чур. У тебя, Елагин, абсолютно стереотипное лицо. Ты похож на всех – и ни на кого в отдельности. Ты голливудский истукан. Ты золотой мальчик с обложки. Ты киношный красавчик. У тебя было в детстве прозвище Красавчик, я знаю.
Они подошли к иконе Спасителя. Ефим, закинув голову, медленно, торжественно перекрестился. Ангелина поднесла щепоть ко лбу. Подумала, изогнув губы: фу, какой пошлый театр. “Или ты веруешь и крестишься, или ты не веруешь и не крестишься”. В дверь тихо, бесшумно вошел послушник со связкой тонких белых свечей в руках, как с вязанкой белого хвороста. Ангелина быстро, тайком, перекрестила не лоб себе, а грудь. “У тебя не покрыта голова”, – шепнул ей Ефим. “Сейчас сниму трусики, покрою темечко”, – так же тихо, насмешливо шепнула она ему. Он взял ее за руку. Она выдернула руку. Пошла к выходу. Шла, озаренная свечным мерцающим медовым светом. Рыжие волосы горели в полумраке, как факел. Послушник, с пуком свечей, печально смотрел ей вслед.
А там, в новоявленном, свежеотстроенном храме, Витас Сафонов, кусая губы, лазил по оштукатуренной стене, поднимался на цыпочки, бормотал: “Сейчас, сейчас… Я нарисую твое лицо! Сейчас!.. Ты будешь у меня как живой… А может, ты уже мертвый… Мертвое море… Мертвое море…” Он окунал кисти то в венецианскую лазурь, то в краплак, то в умбру натуральную, то в охру золотистую. Он малевал ярким, слепяще– синим индиго – разведенной разбавителем и сдобренной ультрамарином ФЦ – плащ человека, фотографию которого держал на груди, в кармане, и время от времени вынимал, чтобы при свете фонаря и зажженных в изножье свечей свериться с копируемыми чертами молодого лица. Лицо на фотографии было лицом Ефима Елагина – в этом сомнений не было. Маскарад, да. Денежные мешки веселятся. Он ему еще не заплатил за веселье, но заплатит. Он, Витас Сафонов, слишком хорошо знал сильных мира сего. Да, вот так, штришок сюда… мазок здесь. Сходство уже есть. Живописец тем и отличается от фотографа, что, кроме сходства, он вдыхает в портретируемого иную жизнь. “Иную жизнь и берег дальный… Напоминают мне оне иную жизнь… и берег…” Он мурлыкал романс, напевал, бормотал чепуху, отбегал от стены, и светящийся индиговый плащ летел по ветру, ведь он обряжал всех в древние одежды, всех нынешних людей, которых писал; и того, кого ему заказали; и тех, кого ему еще закажут – он не сомневался в этом, он оставлял им, вместо лиц, пустые светлые овалы. В овалах еще не было глаз, носов, орущих или смеющихся ртов. Они были белы и пусты. Внутри них пересыпался песок Мертвого моря.
Они пришли в отель все вместе. Одновременно.
Они столкнулись нос к носу у входа – и сперва замерли, потом натужно, деланно рассмеялись. Витас, бледный после ночной работы, прикрыл рот рукой, непроизвольно зевнув. Кто он ей? Никто. Пациент. Она просто хорошо проводит время в Иерусалиме, только и всего. А он здесь работает. Разделение труда. Все справедливо.
Утро, раннее иерусалимское утро. Звон плыл от церквей, от храмов. Муэдзин на башне мечети выкликал Аллаха. Православные колокола звонили не переставая. Из католического собора, напротив их отеля, доносились звуки органа, гундосое пение. Ах да, сегодня же Сретенье Господне, поморщилась Ангелина. И только иудейский храм, стоявший поодаль, в начале улицы, молчал, не издавал ни музыки, ни стонов молитвы.
Они, все трое, молча разошлись по своим номерам. Витас, прострелив Ангелину глазами, пошел к себе. Ангелина, поправив бретельку легкого платья на плече, всунула ключ в скважину своего номера. Елагин толкнул свою дверь. Она была незаперта. Он так и знал. Поперек кровати лежала Цэцэг. Она не спала. Ее всегда смугло– румяное, лоснящееся лицо было бледно, бело, как куриное яйцо. Ее глаза были уставлены вверх, в потолок. Луна, похожая на красный израильский апельсин, глядела уже в другое окно.
… … …
– Лия, Лия, Лиечка… Лиечка, ну что ты, не рыдай ты так страшно!.. Лиечка, я тебя отсюда – спасу… Ну вот те мой Кельтский Крест, вызволю… Клянусь тебе своим Крестом… тем, что у меня на плече… Да ты брось реветь! Погляди, какой классный крест мне друганы– скины на руке процарапали! Сам Фюрер руку прикладывал… Он мне счастье принесет… вот увидишь!.. И тебе! Это же наш, наш Крест!
Лия, вся в слезах, нашла в себе силы улыбнуться. Она прикоснулась к своей вновь обритой голове слабой рукой. Гады, после ЭШТ она не может не только говорить – она даже двигаться не может. За что они ее так?! Что она такого сделала?!
За что. За что. За что. Вечный русский вопрос “ЗА ЧТО”. Задал бы ты себе лучше другой вопрос. Например, такой: “КОГДА?” Когда я замочу вас всех, гады?! Тех, кто мочит и мочит и бесконечно мочит нас?!
– Лиечка… Давай завязывай… – Архип погладил ее по вздрагивающему плечу. – А может… ну, может, им, докторам, лучше знать, что там у тебя такое?.. Может, они это… тебя – вроде как лечат… и тебе должно сначала стать плохо, а потом станет лучше…
Она поглядела на Архипа сквозь жидкое стекло слез.
– Лучше! – всхлипнула она. Ее зубы стучали друг о дружку. – Лучше, твою мать!.. Лучше бы – сразу убили…
– Ничего, Лийка… Ты это все опишешь в своих стихах…
– Если… если я смогу их еще писать, Архип…
Он крепко прижал девушку к себе. Они исполняют приказ ЕЕ. Приказ главврача! Ее волю. А он, вопреки ее приказу, все равно пришел в палату к Лии Цхакая. И обнимает ее, и утешает. И будет сидеть у нее, плачущей, возле ее кровати, на полу у ее ног – хоть всю ночь. Потому что этой стервы нет, она провалилась как сквозь землю, и гуляй, казак, а санитары глаза закроют на его поведение. Санитары уже знают: он – хахаль главной, поэтому обижать его опасно.
Они, обнявшись, сидели на ее кровати, как два цыпленка, два зверенка. Две сироты, кура и петух на насесте. Бабы в Лииной палате поворчали и заснули. Ночь глядела в окна. Архип с тоской вспомнил ночи с НЕЙ. Где она? Думать об этом запрещено. Завтра она явится и прикажет его казнить. Как земля носит, держит таких, как она? А может, ими, такими вот сильными, жестокими, со слишком яркими глазами и бешено бьющимися под мужиком животами, и держится земля?
Лия прижалась обритой головой к его груди, затянутой в больничную холстину. Тогда, после вечера в Бункере, его сюда привезли в сопровождении людей Хайдера. Хайдер не оставил его. Хайдер сам отдал приказ, чтобы его вернули сюда, в спецбольницу. Хайдер сошел с ума, наверное. Нет, Архип. Он не сошел с ума. Он избавился от тебя. Потому что он понял: ты его соперник.
– Архип… давай споем, а?..
Он прижал к себе колючую лысую головенку.
– Ну, давай… Только ведь не до песен тебе сейчас, а?.. Лучше бы ты полежала… Я бы тебе сам чего– нибудь спел…
– Нет, давай вместе…
Они обнялись крепче. Запели тихо, тихо, себе под нос, почти шепотом, чтобы не загавкали, не заблажили соседки по палате. Они пели их любимую, скиновскую:
– Коловрат над всем миром… Коловрат… Коловрат над погребальным пиром… Коловра– а– ат… Коловрат катится по небесам, я героем стану сам, я России жизнь свою отдам, коловра– а– ат…
Соседка по койке недовольно зашевелилась под одеялом. Выпростала из– под одеяла ногу. Архип хрюкнул в кулак:
– Гляди, нога похожа на мосол в супе… Такие мослы – в похлебке здешней иногда плавают… Лийка, погоди, а эту знаешь?.. “Дон– т стоп, хулиганс, мы станцуем этот данс, миру подарили нас – мы разрушим мир”?..
– Пьем за крови чистоту, пьем за красную мечту, пьем за нашу высоту, пьем за наш Пами– и– ир!..
И они оба запели, тихо, сбиваясь, неловкими, ломкими голосами, жалкими, дрожащими как петушьи гребешки:
– Кто не твой – его убей,
Кто не с тобой – его убей,
Кто последний из людей –
Выходи вперед!
Мир зубаст и жесток,
Гляди прямо на Восток,
Свастика убьет, как ток,
Всех, кто умрет!
Женщины завозились, захныкали. Кое– кто нещадно заматерился. В поющих полетела пустая бутылка из– под микстуры, упала на пол со звоном, разбилась.
– Эй!.. хады, дряни… Завела хахеля, так и сидела бы уж, пришипилась… А то вишь ли, голосит ночами… Мансера Хабалье, епть… И чево не дрыхнут…
– Молодые дак!..
– И чо, молодые?!.. совести у них нема, у тех твоих молодых!.. Хады они и есь хады… о других не думають совсим…
– Эй, ребята, пора на боковую, здесь же все ж таки палата, а не дискотека ваша, тудыть вашу так… Разбегайтесь к чертям да ложитесь… Завтра с уколами с утрянки придут, жопы колоть, а вы тут до полночи прошарахаетесь с песнями… Чай, не Новый год…
– А чо, седня ить праздник какой– то церковный?..
– Да, Сретенье…
– Выпить бы… И не микстуры этой ихней, с бромом… А чо покрепче…
– Хватит трещать, девки… Цхакая! Цыть! Быстро глазки закрыла! И ты уваливай, пацан, дай покемарить, совесть у тебя есть, нет?!..
Они будто бы и не слышали. Еще крепче обнялись. Архип чувствовал под своими руками, под грудью худое, как у цыпленка, тело. Умная девчонка до чего! И стихи пишет… И вообще – наша, наша до мозга костей… Что с ней будет?.. Заколют ее до смерти… Забодают током… Бежать ей надо отсюда, бежать. Да и ему тоже. А как? Отсюда не выбираются, сказала ему Ангелина. Это что ж, значит, – только в могилу теперь отсюда, что ли?!
– Лия… Давай последнюю… Вот эту…
И, свесив ноги с койки, с панцирной сетки, обнявшись совсем крепко, невозвратно, так, как обнимаются на тонущей шлюпке, они запели тихо, и тонкий голос Лии взметнулся к окну, затянутому морозной плевой:
– Ты земля, моя земля,
Смертно– белые поля,
По тебе иду, земля,
И молюсь и плачу…
Я умру – и той порой
Меня саваном закрой,
Снежным саваном укрой
Да костром горячим!..
Он обнимал Лию и думал: какие хрупкие косточки, и их крутят– выворачивают жестоким током, да этого же быть не должно, однако происходит, и жестокость рождает жестокость, все верно, и бесполезно считать, как в детской считалке, кто первый начал. Как жаль, что Лия – не Ангелина. Как ужасно, что он ее не любит. Нет, любит, наверное, любит, каждую тонкую косточку любит, так брат любит сестру, так любят слепого тощего котенка, отнятого от груди матери, и зачем у него это предчувствие, что ее скоро не станет, и надо уберечь ее, заслонить ее грудью, закрыть руками, как птица закрывает крыльями от злой собаки своего птенца?
– Заткнитесь, быдлы…
– Ты, земля моя, земля!..
Сретенье. Холод и лед за окном. Морозные узоры на грязном стекле мерцают, как царские алмазы. Мерцает скол разбитой бутылки из– под микстуры на замызганном полу.
… … …
Ариадна Филипповна занималась любимым делом. Она сидела в кресле и вязала.
Она вязала крючком, маленьким костяным изящным крючочком не менее изящную летнюю кофточку– фигаро из белых ниток.
Кому предназначалась кофточка? Она не знала. Если бы у нее была сноха, кофточка, разумеется, предназначалась бы снохе. Но снохи у Ариадны Филипповны не было, и поэтому кофточка вязалась просто так, для удовольствия. Для самой себя? У Ариадны Филипповны в шкафах был уже сложен целый ворох искусно связанных крючком бабьих вещиц. Сама она их не носила. Редко кому дарила. Они с мужем дарили приятелям на праздники и дни рожденья не домашнюю самовязку – бриллианты от де Бирн, колье от Фенди. Ее привлекал сам процесс вязания. И потом, это очень успокаивало нервы. Измотанные за целую долгую жизнь, превращенные в истрепанную пеньку нервы. “Выкинь свои поделки на помойку, тут же разберут. Моль же заводится в шкафах, Ада, ну как ты не понимаешь!” – ворчал Георгий Маркович.
“Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…” – привычно считали петли губы. Ариадны Филипповна вскинула голову, машинально глянула на себя в зеркало. Старые губы, сморщенный ротик… Как ее любили целовать мужчины! Те, с которыми она была когда– либо в жизни… Те, что научили ее жить. И бороться за жизнь. В самой сердцевине смерти.
А сценические поцелуи? Оперные?.. Это декорация. Бутафория. Расписанный наспех задник. Правда, когда она пела Снегурочку в опере Римского– Корсакова, тот, кто пел Мизгиря, хватал и прижимал ее к себе, будто в последний раз. Все когда– нибудь происходит в первый раз и в последний раз. Где, когда Бог возьмет ее к себе? На этой богатой кровати в роскошной спальне? В салоне машины? На борту их яхты “Тезей”, в виду океанской шири?..
Барак. Тайга. Снег. Боль. Резкий детский крик.
Нет. Не думать. Не думать. Зачем, когда вяжешь, думать о плохом? Воспоминания – это мучение. Вязанье – это наслаждение. Так Бог связал когда– то над землею звездный полог.
В комнату вошел муж. Она не подняла головы от рукоделия. Только углы когда– то красивого, чуть сморщенного рта слегка приподнялись, намекая на улыбку.
– Адочка, – просюсюкал Георгий Маркович, делая шаг к ней, – известия от Фимы. Фима скоро прилетает из Израиля. Кажется, он неплохо провел время в Иерусалиме. Во всяком случае, тон его письма бодр и весел. И бесстрашен. Это удивительно, но, я так понял, он перестал бояться, что его сегодня– завтра убьют. Психоз прошел. Ты не огорчайся, Адусик, такая истерика – дело обычное для всех, кто влезает в большую жизнь больших денег. У меня тоже такое было… в его возрасте. Как видишь, прошло бесследно. И кто тому причиной? Ты, моя лапочка, мой пупсик, у– у– у.
Он подошел к креслу, в котором совсем утонула Ариадна Филипповна, погладил, потом потрепал ее по щеке. Ада спустила очки с носа. Подняла глаза. Светло– серые, прозрачные как чистая, текучая вода, глаза под аккуратно выщипанными седыми и чуть подкрашенными бровями. Она молодилась как могла, и это нравилось мужу.
– Спасибо, ласточка, ты так ласков всегда, – процедила она сквозь растянутые в улыбке губы и сверкнувшие вставные зубы, а сама подумала: “У, треплет меня, как собачку, за щеку”. – В моем ящике ничего новенького не валяется?
– Ты же забыла, Адочка, душечка, что ты сменила пароль. – Улыбка не сходила с румяного, пышущего незаемным здоровьем лица Елагина– старшего. – Ты сменила позавчера пароль и, между прочим, ничего не сказала мне. Еще позавчера я смотрел твою почту. Нет, тебе ничего не было. Ах нет, впрочем, было, вру. Какая– то незначащая писулька, два словечка от какой– то госпожи Воннегут. Какая– то немецкая старуха тебя обихаживает, что ли?.. Однако писано по– английски.
– Ты прочитал?
Она спросила это спокойно. Слишком спокойно. Пальцы размеренно, методично вывязывали петли. Губы продолжали беззвучно считать: “Тридцать, тридцать один, тридцать два…”
– Прочитал. Ничего особенного. Если бы эта мадам Воннегут предложила тебе выгодное дельце! Нет, болтает всякую чепуху про какие– то яхты, про отдых на яхте на Средиземном море, кажется, зовет тебя с собой… я так понял, у нее яхта на причале на Капри… На моей яхте ты не желаешь кататься, а с этой старой немчурой точно в вояж отправишься! Я никогда не понимал твоих капризов!
– Про яхту пишет? И все?
Голос Ады был тих и ровен. Так ведут карандаш через плоскость чертежного ватмана.
– Да пес ее знает! Прочитаешь сама. Кстати, какой у тебя сейчас пароль?
Он ждал ее ответа. Она продолжала считать петли: тридцать пять, тридцать шесть…
– Пароль? – Она оторвалась от рукоделия. – Зачем тебе мой пароль, Жора?
– Но ты же всегда мне сообщала… А если…
Усталая призрачная полуулыбка снова вспыхнула и погасла на ее губах.
– Если?.. Ну разве только “если”. Изволь. Мой пароль сейчас – “троица”.
– “Ц” – через “си”?
– Через “ти” – “эс”. “Troitsa”.
– Ты стала у меня такой верующей, что и в Интернет со своей верой залезла?..
– Жора, не обижай меня. Я этого не стою.
Она снова склонилась над вязаньем.
Она не вылезала из кресла до глубокого вечера. Белая ажурная кофточка была уже почти готова, когда Георгий Маркович всунул голову в дверь и пробормотал, дожевывая на ходу бутерброд с холодным мясом: “Я на встречу с испанским послом, там потом в посольстве будет концерт, танцуют Мария Виторес и Иоанн, я останусь, буду поздно, не волнуйся”. Она дождалась, когда за углом отзвучит ворчанье его машины. Подошла к компьютеру. Набрала свой адрес и пароль. Все, кто ей писал, были очень осторожны. Александрина тоже должна быть осторожной. Она не глупа. Она сохранит инкогнито и стиль.
Ариадна Филипповна открыла свой почтовый ящик в Интернете, открыла адресованное ей письмо. “My dearest Ada!” – прочитала она английское обращение – и улыбнулась. О, у них с Александриной свой, мелкий, куриный женский бизнес; свои маленькие тайны. У каждой женщины должна быть своя маленькая тайна, говорила ей ее покойная мать. Английские буквы рябили в глазах. Яхта. Если бы Георгий знал, что две бабы, старая и молодая, зашифровали под невинным словечком “яхта”! Да Георгию это и не положено знать. Так же, как многое другое.
Она выдернула из серебряного портсигара длинную дамскую дорогую сигарету, закурила. Плюнула, бросила в пепельницу. Пошарила в ящике стола. Вытащила початую пачку “Беломора”. Всунула папиросу в зубы. Жадно затянулась. Выпустила дым из ноздрей. Набрала на клавиатуре адрес Александрины. Пальцы быстро забегали, застучали по клавишам, будто бы продолжали вязать изделие.
… … …
– Я урод! Урод! Урод! Ты же ничего не понимаешь!
Дарья сидела на корточках перед ящиком. В ящике лежало оружие. Винтовки, автоматы. В другом ящике, стоявшем за спиной Дарьи, лежали базуки. Дарья протягивала руки, брала винтовку, ощупывала ее. Она видела оружие пальцами.
– Что ты так кричишь, – сказала она спокойно. – Зачем так орать. Ну, урод. Просто у тебя такая судьба. Ты должен быть таким.
Чек сгорбился над ящиком с оружием. Хотел, в ярости, вцепиться в черные волосы Дарьи, сидящей на полу около смертоносных ящиков. Не смог. Ему стало жалко ее.
– Они сказали… они сказали, что я конченый! Что мне – дорога на свалку!
– Кто?
– Зубр, Люкс… я их! Я – их – убью! Сегодня…
– Ты их не убьешь никогда. – Дарья выгнула шею и обернула к Чеку незрячие глаза. – Они твои друзья. Твои соратники. Ты с ними вместе будешь драться. Так нельзя говорить о друзьях, даже если они тебя обидели. И потом, Люкс вообще жестокий. Я слышала, как он разговаривал с Пауком. Это был не разговор. Люкс просто бил Паука словами. Давал ему словами пощечины. А тебе… – Она встала с полу, гибко разогнулась, и он снова, как всегда, поразился ивовой, юной гибкости ее стана. – Тебе они просто завидуют.
– Завидуют?! Что ты мелешь!
– Ничего я не мелю. Ты очень сильный. Ты такой сильный… как Хайдер.
– Как Хайдер?! Сказанула! Еще чего сбрехни…
– Я не собака, и я не брешу. – Она коснулась рукой его щеки, осторожно нащупав его лицо в воздухе. – Если бы ты захотел, ты мог бы стать вождем. Я чувствую это.
Чек внезапно опал, утих, как сдутый мяч, медленно осел на пол, к ногам Дарьи. Обнял ее ноги, прижал лицо к ее животу.
– Дашка… Дашка… – Под ее зрячими пальцами текла теплая влага его слез. – Дашка, ты ж мне просто как маманька… Дашка, ты не просто моя девушка… У меня никогда не было маманьки… Не было никогда… Меня никто никогда не ласкал… доброго слова не сказал… только все бьют и шпыняют, как… как эти… Люкс и Зубрила… А я же человек… Человек! Человек! – вдруг страшно, на всю комнату крикнул он.
Медленно поднял глаза. Обвел взглядом обшарпанные стены. Ящики с оружием. Комната была пуста, и только оружие лежало в ней, сваленное в ящиках, и только они одни, плачущий парень и слепая девушка, были тут.
– Когда назначено?..
Он не сказал: выступление, восстание, начало, бой, бунт. Она и так поняла.
– Хайдер говорит – завтра. Завтра воскресенье. В Манеже международный подиум высокой моды. И футбольный матч транслируют из Аргентины. Наши играют с аргентинцами. Если выиграют – выступаем празднично. Если проиграют – выступаем отчаянно.
– Дура. Отчаянно в любом случае, – сплюнул на пол Чек, продолжая одной рукой обнимать ноги Дарьи, другой утирая эти поганые стыдные слезы с исковерканного лица. – Без отчаяния в нашем деле ты хрен что сделаешь. Успех, девушка, это дело безумцев. Хочешь, я завтра раскрашу тебе лицо синей, белой и красной краской?
– Как индейцу, что ли?..
– И опять дура, – Чек плюнул на пол уже в сердцах, злобно. Утер рот рукой. – Это цвета флага нашей святой России.
Оружие есть. Люди есть. Энергия боя есть.
Все есть.
Есть даже он – Вождь.
Если его, Вождя, не было бы, его бы следовало выдумать.
А есть ли он на самом деле? Может быть, он всего лишь фантом, призрак? Фигурка анимации? Они все хотят поклоняться – и поклоняются ему. С таким же успехом они бы поклонялись уродцу Чеку, если бы Чек обладал его властностью и умом.
А ты правда умный, Ингвар Хайдер? А может, ты просто второгодник Гошка Хатов, коленки в крови, костяшки пальцев сбиты в драке, в кармане – кастет, по поведению – “два”?
Сегодня, в воскресное утро, он вымылся чисто– начисто в душе. Он волновался, да, но нельзя сказать, чтобы – слишком. Для храбрости он выпил, один, без отца – отец еще спал на своем старом топчане – полстакана водки, закусил соленым огурцом. Русская классика. Водка и огурец. Когда он станет владыкой своей страны, он велит всем есть только русскую еду, ездить только на русских машинах, читать только русские книги. Нация спасется, если сохранит себя.
Так, собраться. Собраться не спеша, тщательно, хладнокровно, и все продумать. Команды отданы. Приказы розданы. Все и каждый знают, что им делать. Невидимые вожжи в его руках. Можно трогать. А со стороны должно быть впечатление, что все произошло стихийно. Выигрыш или проигрыш нашей сборной там, в Аргентине – всего лишь толчок. Бунт – это огонь. Деревянный крест поджигается огнем, и полыхает так, что издалека, через океан, видно.
Он вздрогнул. Телефон! Он выхватил из кармана трубку, прижал к уху.
– Да! Хайдер!
Тот, кто ему позвонил, молчал. Или не мог прорваться сквозь помехи?
– Хайдер слушает! Говорите!
Тишина. Мертвая тишина в трубке.
– Баскаков, это ты?! Васильчиков?!
Тишина.
Его обдало холодным потом. “Возьмут, – подумалось ему, – выследили… разгадали”. На душе у него сделалось черно, будто бы его уже взяли. Он хотел нажать кнопку отбоя – и тут в трубке, будто с того света, послышалось тихое, насмешливое:
– Это ты, мой герой?..
– Я! Я!
Он заорал это так, как кричал, протягивая вытянутую руку вверх, перед строем своих солдат: “Хайль! Слава!”
– А это я.
– Да! Я слушаю тебя!
– Я тоже слушаю тебя. Мне нравится твой голос.
– Ты приехала?!
– Я прилетела вчера.
– Почему ты не позвонила вчера?!
“Я веду себя как кретин. Как псих, – подумал он зло, яростно. – Она подумает, что я действительно больной. Врач! Белый халат! Она все врет, она не врач! Она подослана ко мне спецслужбами, это как пить дать!”
– Потому что у тебя сегодня праздник.
– Какой?!
Он спросил это – и чуть не провалился под землю от собственной глупости.
– Оставь мне на память хоть один хрустальный бокал после твоего праздника. После твоей Хрустальной ночи. Я хочу выпить с тобой. За победу. Надеюсь, ты меня не зарежешь длинным ножом? Даже если я еврейка, дагестанка, египтянка или ассирийка?
Подиум высокой моды.
Его в Москве разрекламировали будь здоров. О нем трещали газеты, телевидение и радио. О нем выдали целый сайт в Интернете.
Кого волновал подиум высокой моды? Девчонок, мечтающих стать звездами? Зрителей– зевак? Досужих папарацци?
Время, ты вышагиваешь по подиуму высокой моды, и на твои длинные ноги пялятся люди, живущие под куполом твоих сумасшедших рук.
Февральский день в Москве был солнечным и жарким, просто весенним – по Тверской текли ручьи, на Манежной площади стояли лужи, снегоуборочные машины с утра трудились вовсю. К Манежу подъезжали то и дело дорогие иномарки, подвозили выступающих, топ– моделей, манекенщиц, знаменитых и незнаменитых кутюрье. Старухи в Александровском саду кормили голубей. Краснокирпичный Музей революции гляделся старым средневековым замком. В пронизанном солнцем воздухе висел, то сгущаясь, то рассеиваясь, как призрачный дым, гул огромного города. На площадях – на Манежной, Красной, Арбатской, Старой, – на улицах и перекрестках были установлены большие, для уличной толпы, телеэкраны, чтобы публика могла наблюдать матч “Россия – Аргентина” прямо на свежем воздухе.
Ничто грозы не предвещало.
Только этот дурацкий пьянчужка, этот городской идиотик, сумасшедший, пышно именующий себя ни больше ни меньше – Нострадамусом, – совсем с ума спятил мужик! – все шатался по Красной площали, по Тверской, по Пушкинской, по Никитскому бульвару – и орал: “Нынче будет великая резня! Большое убийство сегодня случится! Ужас и погром ждет сегодня всех! Берегитесь! Молитесь! Спасайтесь! Смерть! Смерть!..” Прохожие шарахались. Милиционеры свистели пьянице вслед. Мальчишки крутили пальцами у виска, вопили: “Придурок!.. Придурок!..”
И никто не знал, что придурок выкрикивает настоящую правду.
Ничего, кроме правды.
И все закрутилось, как в плохом кино. Сборная России проигрывала. Толпы сбивались в плотные кучи. Все больше появлялось в возбужденной толпе лысых, бритых, гололобых парней, страшно кричащих: “Россия или смерть! Россия или смерть!” У многих из них лица были размалеваны белой и синей краской. У кого– то поперек лица шла дикая красная полоса, будто все лицо уже было в крови. Когда загудела последняя сирена матча и уже было ясно, что это – проигрыш, в уличный экран полетела первая пустая бутылка. Потом – бутылка с горючей смесью. Болельщики дудели в картонные трубы. Ругань висела в воздухе. Крики и вопли сливались в единый крик. Люди бежали с улиц прочь, спасались в домах, в открытых подъездах. Среди толпы все больше появлялось бритых парней в черных куртках. Разгоряченные, они сбрасывали с себя куртки прямо на снег. Оставались в черных рубахах. В черных майках на голое тело. Вечер спустился на город быстро, и толпа, жаждущая разрушать, прибывала. Когда разбили первую иномарку у Манежа, никто уже не помнил.
– Смерть богатым! Слава России!..
– Смерть инородцам!
– Слава– а– а– а!..
Черная толпа. Белые бритые головы. Черные – в крике раззявленные – рты. Поток течет, летит, смывая все, что стоит на пути. Черный сель. Черный вихрь. Черный снег.
– Бей черных!..
– Бей, бей, бей!..
Переворачивали машины. Били стекла витрин. Камни, вывернутые из мостовой, летели в окна, в двери, в лица. Кому– то выломали руку, и покалеченный дико кричал посреди мостовой, вытаращив глаза.
И рубиновые звезды Кремля строго глядели на людскую лаву, вырвавшуюся наружу из жерла потухшего вулкана.
Тьма опускалась на город стремительно, как черный плат. Как кусок черной ткани, которой накрывают клетку с певчей птицей. Как кусок черного крепа, которым затягивают зеркало в доме покойника.
А потом на город опустилась ночь.
ПРОВАЛ
Будут рушиться крыши. Будут кричать женщины.
Из старых досок сколотят новое распятие, и к нему прибьют нового Бога.
Вы слышите меня?! Нет, люди, вы меня слышите?!
Или вы – совсем – глухи?!
Зачем ваши уши залеплены воском? Зачем вы закрываете себе глаза и рты ладонями?!
Зачем вы живете… зачем… зачем…
Вы задавали себе этот вопрос когда– нибудь?!
Я бегу. Меня не догонят.
Меня не догонят! Меня не догонят!
Меня не догонят – уже которое столетие…
Это столетие будет гораздо страшнее того, что прошло,
Будут птенцы бить стекло и дуть в кровавые дудки;
И Тот, кто выше всех ростом, возьмет в кулаки кайло –
И будет громить тех, кто не успел убежать по первопутку…
Снег, снег! Снег и ночь. Днем была весна, а ночью опять зима.
Сегодня звенит хрусталь. Пьют кровь – за вас, Ваша Честь.
Сегодня поймают мальчика и прибьют его к дереву гвоздями.
Вы слышите?! Слышите?!
Он горит в ночи. К нему прибили человека, человек кричит, и крест горит в ночи.
Все повторяется в мире, не правда ли, господа?
Мать того, кого прибили к горящему кресту, валяется у подножья креста без чувств.
Кельтский Крест! Кельтский Крест! Ты с нами! Слава!
Ребята, вы спятили… Ребята, мы все с ума сошли… Не надо… Ну не надо же, а?!
Тех, кто хныкает, – к стенке! Вождь! Прикажи!..
Не жалей пацана, пацан– то черный.
А ты, что ли, белый?!
Да, я белый! Да, я белый! Я белее снега! Я белее метели! Я белый как молоко!
Заткни хайло.
Не заткну! Лучше я спою гимн!
Лучше прикончи ту, что валяется под Крестом. Она уже все равно не жилица.
Черные тучи летели по небу. Красные звезды впечатывались во мрак, прожигая его до дыр. Во дворах на Тверской, за каменными свечами домов, полыхал огонь. Доносились истошные крики. Толпа валила вглубь города, в старые дворы, и крик усиливался, рвал черное сукно ночи. Бритый мордастый скинхед вливал в себя из горла бутылки водку, запрокинув голову, подставив широко раскрытый рот под ледяную струю.
Звон битого стекла. Треск срываемых дверей. Грохот переворачиваемых машин. Вы счастливы, что вы увидели, как человек убивает человека? Это совсем не страшно. Это скучно и обыденно. Это всего лишь работа. Врете, падлы! Это священнодействие. Это сакральный акт. Тот, кто убил, омывается не кровью убитого – кровью богов.
А иди ты в задницу со своими священными богами, сука! У тебя пивка с собой нет?!
Есть. На. Держи. Холодненькое. С морозца. За пазухой не согрелось. У меня, кореш, ледяное сердце– то.
Баскаков высунулся из машины. Хайдер подбежал к его машине, распахнул дверцу.
– Как?!
– Не спрашивай. Это обвал.
– Это начало, Хайдер!
– Ты еще веришь в начала и концы, Ростислав?! – Он упал рядом с ним на сиденье. – Гони!
– Куда?
– К ним. К ним, говорю! – Баскаков смотрел ощерясь, как пойманный в капкан зверь. – К ним, к нашим! На Тверскую!
Шум шин напоминал шорох полоза. Баскаков гнал от Бункера до Тверской что есть сил. Им чудом удавалось миновать милицейские посты – Баскаков, хулиган, прицепил к своей потрепанной тачке правительственный номер.
– Ты не думаешь, Ростислав, что это все цирк бесплатный?
– Что?! – Затылок Баскакова, сидевшего за рулем, побагровел. – Я – от тебя – такое слышу?! Ты, часом, не травки обкурился, майн Фюрер? С бесплатного цирка, запомни, всегда начинаются мировые потрясения! И мы…
– Мы– мы– мы, – пробормотал Хайдер, закурил, выдыхал дым через опущенное боковое стекло. – Мы, всегда мы, вечно мы. Двадцатый век был веком коллектива. Веком толпы. Мы играем на дудке, называемой – “Мы”. Мы выезжаем на инстинктах толпы. Прошедший век вскормила баба– богиня, чудовищная Фрикка с двадцатью грудями. Или многогрудая Артемис. Толпами умирали; толпами воскресали; миллионы сгнивали заживо и миллионы рождались. Ты– то, Ростислав, хоть отдаешь себе отчет в том, что нас – по сравнению с этими миллионными толпами – горстка? По крайней мере – здесь и сейчас.
Баскаков обернул к нему злое, ощерившееся лицо.
– Да, здесь и сейчас! Да! Здесь! И сейчас! – Угол его рта дергался. Слева от дороги послышался свист пули. Потом – крик. Потом – звон разбитого стекла. – И хорошо! И правильно! Настанет день, когда мы поведем твои любимые миллионы…
– Ты такой оптимист?
Впереди, на дороге, показались люди. Черная, мятущаяся толпа. В ночи казалось – сумасшедшая, заблудившаяся демонстрация, или, может, тайные ночные похороны вождя. Шум за машинным стеклом усилился. От черного сгустка толпы отделялись фигуры, бежали прочь, закрывая руками головы. Слышались крики: “Милиция!.. Где милиция?!..” Хайдер выпустил струю белесого дыма в окно.
– Я здоровый исторический пессимист, – сказал он тихо. – Я тебе это говорю не просто так. Это я должен был сказать тебе, Рост, Хрустальной ночью. Которую мы, мы– мы– мы, так тщательно готовили. Именно сегодня. Именно сейчас.
Баскаков, вцепившись в руль, обернулся к нему. Его зубы и белки его сощуренных глаз хищно блеснули.
– Ты хочешь сказать, что ты снимаешь с себя полномочия Вождя?!
– Я хочу сказать, что все, что делает на земле человек, порастает серебряной травой времени. Лунной травой, Рост. Наркотической травкой.
– Ты стал баловаться? – Баскаков брезгливо дернул губой. Повернул машину влево. Прижал к бордюру. – Дальше ехать нельзя. Мы и так продвигаемся по городу нелегально. Хочешь глянуть на свою многофигурную композицию? Все не по– моему. Я бы все сделал не так. Ты не слушаешь кадрового военного! Вы все, мать вашу, дилетанты! Дилетанты и романтики!
– Вот и я то же тебе говорю. Спасибо, что понял.
Хайдер распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Баскаков крикнул ему в спину:
– Береги себя!
Хайдер кинул, полуобернувшись:
– Ты тоже.
Баскаков, закусив губу, глядел ему вслед. Эта их дурацкая черная униформа! Эти их черные тупорылые ботинки, на длинной военной шнуровке! Их всех можно отловить только по униформе. Говорил же он им всем, он, Баскаков: форма хороша только для парада. Сражаться надо в военном платье. А оно у солдата вовек одно: гимнастерка, сапоги. Хайдер любит показуху. А сейчас такое время, что воевать надо каждый день, и во всем цивильном, и неважно, кто в чем одет, важно – победил ты или нет. Победа, сладкое слово. Такое же сладкое, как свобода. На самом деле в мире нет ничего, кроме поражения и решетки, за которой все сидят.
Решетка религии.
Решетка любви.
Решетка морали.
Решетка обмана.
Решетка власти.
Всякая власть – это решетка. Без кристаллической решетки развалится минерал. Без арматуры рухнет мост. Хайдер слабак. Он романтик. Он не умеет построить решетку. Всегда надо начинать с решетки. Решетка – это скелет. Человека без скелета нет. Без скелета это – амеба.
Хайдер бежал, проталкиваясь сквозь толпу, туда, где между домов, над крышами, вился дым, больше всего толпилось народу и громче всех кричали. Тысяча мыслей проносилась в его голове, и он тут же их забывал. Ему казалось: у него голова пусткая, как котел. Это он сам подбивал своих скинхедов – режьте, бейте, убивайте! Сегодня ваш час! И что? Час настал, а отчего он сам – как мертвый? Как манекен. Ни волнения. Ни ужаса. Ни воли, сжатой в кулак. Будто он смотрит по видику какой– то новый военный триллер, какой– то модный боевик, не американский, а русский, и все катится вокруг него колесом, коловратом, а он стоит, как гвоздь, вбитый в центр коловрата, и все крутится, крутится, крутится вокруг него, а его самого никто не замечает.
Он сказал себе: тебя схватят, Хайдер. Тебя могут схватить в любую минуту, помни это. Тебя схватят и будут допрашивать, может быть, пытать, может быть, расстреляют. Однако ты играешь в борца за освобождение родины. От кого?!
Внезапно вся зимняя ночь, Тверская, кремлевские густо– красные башни вдали, черная муравьиная толпа высветились перед ним ярче молнии, будто бы все озарилось вспышкой магния. Отец рассказывал ему про вспышку магния в старинном фотоателье. В призрачном ярком, слепящем свете ему внезапно предстали все их бритоголовые сборища, все героические потуги, все свастики на рукавах, все Кельтские Кресты, вытатуированные на лбах и запястьях, все вскинутые руки и вопли: “Ха– а– айль!”, все усилия по добыче и по хранению оружия, и волосы на миг встали у него на голове дыбом: зачем я ввязался во все это? Зачем я стал во главе стихии, водопада, лавины?! Лавина должна падать сама, без посторонней помощи. Падать и разрушать, и погребать под собой жертвы, а потом умирать в наступившей мертвой тишине. И никто не должен вставать впереди лавины и вести ее за собой, как быка на веревке. Он внезапно, в озарении, понял: общество – это тоже природа, и человек, как бы он ни старался дирижировать обществом себе подобных, никогда не сможет управлять единым природным оркестром. Все равно все играют враскосец. Кто в лес, кто по дрова. Вот только умирают все, к сожалению, одинаково. Отыграв каждый – свою, сужденную, партию.
Он проталкивался сквозь стихию. Он, сцепив зубы, уворачивался от ударов. Он сам дал кому– то в зубы. Было уже за полночь, а Тверская гудела и кишела народом, как в Новый год. Эти его пацанята уже, как тараканы, расползлись по квартирам, по адресам инородцев, что загодя собрали. Холодный пот потек у него по спине, между лопаток. Им не всем удастся спастись! Он делал их героями – а сделал жертвами!
Он представил себе: в мирно спящей армянской, грузинской, еврейской семье заполночь раздается трезвон, хозяин, сонный, открывает дверь, а на пороге – бритые мальчишки в черном, и в руках – пистолеты, ножи… Волна пота снова захлестнула его. Хайдер! Не ври себе! Ты испугался! Ты наложил в штаны, потому что ты понял: ты – на сегодня – предводитель разбойничьей шайки, а не Священный Ярл! Ты родил Новый Вариант Старой Войны?! Ты ничего не родил! Ты слепо, жалко скопировал!
“Я скопировал потому, что это все носилось в воздухе”, – жалко, оправдательно шепнули губы. Он вытер ладонью бритую голову. Неожиданно пришла простая, как кусок хлеба, мысль: если его задержит милиция, он пустит себе пулю в лоб.
Он сунул руку в карман. “Магнум” был на месте. Еще посмотрим, кто кого. Он себя – они его – или он их. Еще решим. Самое хорошее решение – экспромт.
И, совсем уж странно и страшно, из ночной тьмы перед ним выплыло, восстало, будто из белизны зимнего моря, женское лицо. Оно стало огромным, лицо, заполонило собой весь свет. Оно сияло над ним в небе. Ярко– красные косы, убранные в тяжелый пучок. Длинные желтые глаза. Хищно блестящие в улыбке зубы. Женщина, поманившая его собой. Женщина, посулившая ему златые горы того, о чем он грезил всегда: власти.
Не обманывай себя, Хайдер. Ты сделал все, что происходит здесь и сейчас, потому, что ты хотел власти. Власть – древний микроб. Кто захворал этой лепрой, того она съест изнутри и снаружи. И огромный страшный иероглиф власти будет начертан на твоей довольной и сытой морде, если ты дорвешься до ее вожделенных верхов, если ты возьмешь ее, как берут женщину, и всецело подчинишь себе.
А дальше что?
А дальше – молчание.
Нет, опять врешь. Дальше – молитва.
Молитва: Господи, сохрани мне мою жизнь. Не дай меня казнить. Помилуй меня за все грехи мои.
Баскаков проводил Хайдера почти ненавидящим взглядом. Вырвал из нагрудного кармана куртки телефон. Судорожно набрал номер.
– Люкс!.. Люкс!.. Люкс, это я, Баскаков. Люкс, у тебя все в порядке?!
Слабый голос в трубке прохрюкал:
– Все!.. А что тебя беспокоит, Слава?..
– Да ничего! Где собираемся для отступления?
– Где– где?.. В Бункере, конечно!.. Алло!..
– Алло!.. Алло!.. – Баскаков сплюнул, затряс трубкой. – Песий мосол этот мобильник, у, мать его… Алло, Люкс! Ты слышишь меня!.. Нашу группу около Бункера будут ждать машины! Шесть легковушек, два “джипа” и три УАЗика!.. Алло!.. Рвем на северо– восток, понятно?!.. На северо– восток!.. К Котельничу!.. К утру, после пяти утра… алло, понял?!..
– Слава, не ори так, – слабый голос в трубке то вспыхивал, то пропадал, – я все слышу! Я все это уже наизусть выучил!.. Ты один?.. С Хайдером?..
– Хайдер убежал к основной группе!.. И хрен с ним!.. Как твои, Люкс?!..
– Да без потерь пока!.. Кое– кто подранен… Чепуха, царапины…
– До Бункера!..
– До Бункера…
Баскаков потер бритый лоб шершавой ладонью, на миг прикрыл глаза. Гул толпы впереди затих. Похоже было, что куча мала перемещается с Тверской на Манежную площадь. Он тронул руль. Осторожно снялся с места. На ступенях Центрального телеграфа он увидел девушку в короткой беличьей шубке. Девушка странно вытянула руку. Баскаков не сразу понял, что в ее руке – пистолет. Около ног девушки катался колобком какой– то ребенок. Баскаков подъехал ближе. Это был не ребенок. Это был взрослый человек, только маленького роста; он стоял ниже ее на ступеньках, оттого казался лилипутом. Человечек странно подпрыгнул и подтолкнул девушку под локоть, что– то пронзительно крикнув. Девушка нажала курок. Баскаков услышал противный свист пули над крышей своей машины. На противоположной стороне Тверской, тоже гортанно вскрикнув, на тротуар упал человек. Баскаков подъехал еще ближе, всмотрелся и увидел, что девушка слепая.
Хайдер смотрел на то, на что не надо было смотреть.
Сладковатый запах горелого мяса выедал ноздри.
Ведь это же не война, повторял он себе ледяными губами, ведь это же не война.
Нет, это война, возражал ему холодный насмешливый голос внутри него. Это настоящая война, и, будь добр, созерцай плоды войны, которую ты развязал.
Нет, я не хочу созерцать! Я не хочу видеть это!
Но ведь это же не компьютерная игра, мужик. Это все не понарошку. Это все по правде. Это все – твоих рук дело.
Не моих! Не моих!
А чьих же? Этих несчастных пацанов? Да им, мужик, носы еще надо вытирать, а они туда же – человека, видишь ли, на кресте жгут!
Но ведь человек не дичь! И это не аутодафе! Какой век на дворе?!
А черт его знает какой. Тебе лучше знать… Фюрер.
Он сказал своему издевателю– двойнику: заткнись. Он смотрел на то, как на кресте, распятый, горит человек. Он слышал рядом с собой голоса: “Богатенький Буратино!.. Сынок знаешь кого?!.. Туда им всем дорога… В Оксфордах не будут учиться… Жрать икру… Эх, горит– то как!..” Кого– то поблизости рвало прямо на снег. Пахло паленым, сожженной шерстью. Ругань висела в ночи, как стон. Его поколение разъярилось, и ярость уже невозможно было остановить.
Ты сам этого хотел?!
Ты этого хотел, ну, говори себе, договаривай, Хайдер.
За твоего отца– лагерника – месть?! За бездну погибших во всех войнах и тюрьмах – месть?! Разве святость России – это только месть?!
Да, я этого хотел.
– Да, я этого хотел, – сказал он, не разжимая зубов. Желваки на его скулах перекатились стальными горошинами. Ветер ударил ему в лицо, дал ему мокрую снеговую пощечину. Он смотрел на горящее во дворе распятие и думал: это плата, которую всегда берут люди за сказку о своей свободе.
А двери выбивались ногами.
И в двери врывались люди.
И люди с порога стреляли в людей.
И люди ударяли ножами в грудь того, кто пытался убежать, крича.
И люди, чтобы спастись от людей, бросались с балконов, скатывались по лестницам, падали вниз, в шахту, в лифтах, карабкались на чердаки, на крыши.
И в безумии ночи и тьмы уже никто не различал, за что бьются, кого убивают. Люди убивали людей, и это была самая последняя правда, какую на земле в зимней ночи можно было придумать.
Дарья стреляла, стреляла и стреляла. Ново и необычно для нее было это ощущение – стрелять, не видя, только слыша, как тебе кричат снизу, от твоих колен: “Направо! Жми!” – и толкают тебя под локоть. И она нажимала и стреляла, и пистолет содрогался, как в оргазме, и отдача бросала ее руку назад, и она смеялась, и снег залетал ей в смеющийся рот. И маленький человечек, что называл себя Нострадамием, а потом кричал ей оглушительно: “Можешь звать меня просто Алешка, лишь бы на рюмочку ты мне в кармашке наскребла!..” – опять брал ее за локоть, за запястье, и она чувствовала, как от него терпко, кисло пахнет перегаром, и она кричала ему: “Нострадамий, ведь уже патронов не осталось!..” – а он, озорник, кричал ей в ответ: “Жми, я знаю, есть еще!” И, когда она выстрелила в последний раз, раздался душераздирающий крик, и она поняла, что попала в человека, и побледнела, побелела как простыня, – а маленький человечек у ее ног испугался, схватил ее обеими руками за талию, под мышки, верещал: не падай, не падай, гордо стой, гордо голову держи, видишь, и ты повоевала, видишь, уже все кончилось! А война– то противная штука, девка, а?!
И она, как отвратительную жабу, расширив незрячие глаза, бросила пистолет на ступени. И Алешка– пьяница подполз к нему, воровато схватил, оглядываясь, быстро спрятал под зипун.
И дворами, назад или вперед, он не разбирал уже, несся, расшибаясь, падая, сметая все на пути, выпучив глаза, страшный гололобый человек. Вместо лица у него застыла на морозе страшная маска. Он бежал, не видя ничего перед собой. На лбу, на подбородке у него запеклась кровь. Под распахнутой курткой у него виднелась голая грудь, вся в шрамах и татуировках. Никто не знал, молод человек или стар. Он выбежал на Тверскую, огляделся, как затравленный зверь, и увидел – на ступенях Центрального телеграфа стоит, запахнувшись в короткую шубку, слепая девушка, и длинные черные волосы девушки летят по ветру, как черный пиратский флаг. А у ног девушки, двумя ступеньками ниже, сидит странный человечек – то ли бродяга, то ли юродивый, то ли подгулявший пьяница: зарос серой щетиной, глаза просвечены ночными огнями насквозь, как стеклянные, застыли на лице двумя ледяными каплями, нос курносый, будто бы ему в рыло кулаком как следует заехали, волосенки на голове ветер мотает, шапку, видно, где– то потерял. И держит этот человечек девушку за руку, и что– то говорит ей, кричит – видно, как рот разевает.
– Дарья! Дашка! – закричал бегущий.
И побежал, побежал к крыльцу Центрального телеграфа сломя голову, скользя на черных наледях, чуть не падая, и все кричал как безумный: “Дашка!.. Дашка!..” – и на него глядели тайно и строго из угольной тьмы кровавые кремлевские звезды.
Чек не успел добежать до стоявшей на крыльце телеграфа Дарьи. Дверца машины, мимо которой он бежал, открылась, ему ловко дали подножку, и он упал носом вниз, растянулся на ледяной закраине тротуара. Он не успел пикнуть, как чьи– то руки втащили его в машину. Он попытался выдернуть из кармана пистолет. Ему не дали это сделать. Быстрые, оглушающие удары – в печень, в висок – и он затих, скорчился на заднем сиденье. Машина взяла с места в карьер бесшумно и быстро, будто была большой черной птицей и полетела над смертной белизной последнего снега.
Чек, корчась от боли на сиденье, попытался рассмотреть того, кто его вез в машине. В салоне хорошо пахло – импортными дезодорантами, дорогим табаком. Кажется, немного коньяком. Машина неслась по Тверской по направлению к Белорусскому вокзалу, и Чек промычал, играя под дурачка:
– Куда везешь– то, дядя?.. Не виноватый я ни в чем, между прочим…
– Невиноватые с собой, между прочим, оружие не носят. – Тот, кто вел машину, не обернулся. Чек увидел только коротко стриженные светлые волосы на затылке. – Пистолетик, между прочим, неслабенький. “ТТ” последней модели. Не из домашнего музея, надеюсь?
Тот, кто безжалостно и умело насовал ему в бок, сидел рядом с ним на сиденье, раскуривал сигарету, сложив ладони лодочкой. Поднял голову. Его нос и подбородок были освещены тусклым красным огнем сигареты. Чек всмотрелся в лицо. Он не знал этого человека.
– Все равно отпустите, – сказал Чек зло, упрямо в спину тому, кто сидел за рулем, и скривил искалеченный рот подковой. – Я вам ничего не сделал, правда?!.. так что ж вы меня…
– Ты? – Тот, кто вел машину, усмехнулся – Чек понял это: кожа собралась у него на затылке странными складками, шевельнулись уши. – Ты мне сделал, сука, уже много всего. Я тебя не выслеживал. Ты попался мне случайно. Но в жизни, видишь, много случайностей. И сегодня у меня маленький праздник. Праздник у меня, понял?
Тот, кто вел машину, обернулся, и Чек увидел его лицо.
– Елагин, – только и смог выдохнуть он.
Машина шуршала шинами по подмерзлому асфальту. Огни Тверской проносились за стеклами, прочерчивали ночь красными иероглифами тоски.
– Да, Ефим Елагин собственной персоной. Ефим Елагин, которого ты, сука, шантажировал. Из которого выманивал деньги. Много денег. Да, видишь, не обломилось тебе. Да,это я, Елагин, которому ты угрожал. Которому подбросил поддельную фотографию на вернисаже. За которым ходил по пятам… а получилось, не ты меня изловил, урод паршивый, а я тебя.
– Я ничего у вас не выманивал! – крикнул Чек, похолодев. – Я ничего вам не подбрасывал! Я вас… пугал… Я… только один раз… по приказу… я…
– Меня не интересует, кто тебе, сучонок, приказывал, что и для чего, – холодно отозвался Ефим, выруливая от Белорусского направо. – Мне на это глубоко наплевать. Это ваши разборки. Я живу своей жизнью. И мне тебя – в ней – не надо. Мне важно, что я тебя поймал и везу к себе. А дальше – посмотрим. Играешься передо мной? Брось, не царское это дело. Я хочу посмотреть, как ты будешь играть передо мной в смелость. И я перед тобой хочу немного в храбрость поиграть. Ведь мы оба мужики, верно?
Чек сжался. Ну ясно, будут пытать! У этого, рядом с ним, рожа кирпича просит… косится на него, как на добычу, как на дичь…
– Мужики, – скривив жуткую маску лица, выдавил Чек. – Мужик, отдай пистолет, а! И выпусти… и больше никогда…
– “Никогда” – загадочное слово, – сказал Елагин, вцепляясь в руль и снова поворачивая – круто, лихо. – Никогда не говори “никогда”, знаешь такую присказку? Нет? Вот теперь знай. Миша, он там не выпрыгнет на ходу? Следи.
– Нет, шеф, не выпрыгнет. Сидит как заяц. Я ему выпрыгну, – лениво промямлил тот, кто накостылял Чеку под ребро. Чек понял: бодигард. Не друг– приятель. Слуга. Со слугой всегда можно договориться.
– Слышь, ты, – горячо, пьяно– сбивчиво зашептал Чек, придвинувшись к бодигарду, – ты это, браток… отпусти меня?.. около дома… когда подъедем… пистолетик мой у тебя останется, да, все равно… так ты за пистолет… Твой хозяин с меня шкуру хочет спустить, видишь… А я всего лишь выполнял приказ… Всего лишь приказ… Потому что я – солдат… Я солдат, как и ты же, я – на службе… отпусти!..
– Заткни фонтан, – беззлобно сказал бодигард Елагина. – Чем больше мелешь – тем больше я тебя презираю.
И Чека взорвало. Презирает?! Его?! Эта наемная скотина презирает его?! Сдохнуть, так с музыкой! Не в таких он переделках бывал! Руки не связаны, нужным не посчитали… Он развернулся и так заехал богидарду по скуле, что тот даже тоненько завыл, как волчонок. Чек ударил ногой дверь. Удалось! Выбил! На полном ходу он выкатился из машины. Бог спас его – он ударился больно, но ничего не сломал себе. Он покатился по снегу к тротуару, прочь – и вскочил на четвереньки, и побежал, прихрамывая, застонал от боли в ноге, эх, жаль, отстреливаться нечем, “ТТ” сперли, негодяи…
Свист пуль над ухом. Резкий, противный свист. Будто хлещут бичом скотину. Так там, в горах, когда он попал в логово к боевикам, хлестали бичами тощих коров чеченские пастухи. Чек упал животом на снег. Замер. Прижался лицом, голой щекой, бритым виском к грязным комьям снега, сметенным дворниками на обочину. Ждал. Пули больше не свистели над головой.
Над ним, будто бы в небе, в облаках, раздались скрипучие – по снегу – шаги. Хруп– хруп. Елагин подошел к нему близко. Совсем близко. Чек слышал над собой его хриплое дыхание.
Потом – ощутил прикосновение ледяной стали к голому затылку.
– Вставай. – Ледяной голос будто принадлежал другому человеку. – Вставай, бритая собака. Я буду с тобой разговаривать по– другому. Вставай! Руки за голову! Марш в машину! Живо!
Он пошел к машине. Его скинхедовские тупорылые башмаки, “гриндерсы”, тупо, жестко впечатывались в снег: ать– два, ать– два.
Чек пялился на загадочные ключи в руках Елагина. Прислонить к замку – и замок откроется. Чудеса техники. Из глубины многокомнатной элитной квартиры доносились шаги, голоса. Ефим прислушался. У матери гости. Ее вечные стариковские нафталинные party. Чем бы старушка ни тешилась, лишь бы не плакала. Далеко за полночь, а народ у маман все сидит, щебечет. Наверное, играют в преферанс. Или в кинга. Или просто так сплетничают. Лижут мороженое с коньяком, пьют холодные соки. Перемывают косточки московским олигархам, кинозвездам и дамам полусвета, которые для них – Маши, Аллочки, Роберты, Бори, Феди. Едят торт. Мать любит и умеет печь. Никакая кухарка, никакая повариха не сравнится с ней в искусстве печь сладкий песочный торт с самодельным кремом. Иногда, после вкушения ее кулинарных чудес, гости слушали ее пение, она садилась к роялю, аккомпанировала сама себе, пела романсы и арии, и ее легкая, нежная колоратура летала по гостиной, как бабочка капустница. Вообще его матушка – супер. Жаль времени. Время выедает человека изнутри, как жук– точильщик – матицу в доме. Остается только оболочка.
Ефим обернулся к Чеку. Чек бесстрашно встретил его взгляд. То, что имелось у него впереди вместо лица, выразило абсолютную решимость. “Мне по хрену, что ты сделаешь со мной”, – нахально кинули Ефиму яркие светлые глаза из– под изрезанных шрамами надбровных толстых, как у обезьяны, дуг.
– Башмаки можешь не снимать. Вы ими забиваете людей насмерть, так?
– Таких, как ты. – Светлые зенки разрезали Ефима пополам. – Таких, как ты, запростяк забиваем.
– Но я же не негр. И не кавказец. И не…
– Ты богатый. Мы против богатых. Вы съели нашу землю. И все никак не можете нажраться. А мы все глядим вам в рот. Нужна новая революция.
– Проходи, убивец. – Елагин презрительно кивнул в сторону ярко освещенной гостиной. – Миша, – оглянулся он на бодигарда, – уже поздно, ночь, горничная давно спит, будь добр, похлопочи, налей нам чаю.
– Только чаю? – осклабился бодигард. – А чего покрепче?
– Валяй и покрепче. Веселенькая ночка нынче выдалась. Я сам не ожидал. Все только языками мололи про это, да ни капли не верили, что все может случиться на самом деле. Скажи, ты, урод, все это действительно организовано?
– А ты как думал?
Чек, не дожидаясь приглашения, нагло уселся на роскошный, обитый тонкой телячьей кожей диван, играл носком башмака, расстреливал Ефима глазами. Его лягушечий рот растянулся до ушей. Ему здесь нравилось. Что– то непохоже было, чтобы радушный хозяин собирался его пытать и истязать.
– Я так и думал.
Вошел бодигард, катя перед собой столик с выпивкой, закусками и дымящимся чаем в больших пиалах. Остановил столик около Ефима. Покосился на Чека, откинувшегося на спинку дивана.
– Я могу идти, шеф?
– Можешь, Михаил. Спасибо. Отдыхай. Выключи верхний свет. Горячая ночка, однако.
– Наружный досмотр не снимать? На сигнал ставить?
– Я сам поставлю. Ступай.
Они остались в гостиной одни. В мягком приглушенном свете торшера – пышная, как лилия в алмазах росы, люстра под потолком уже не горела – Чек напряженно всматривался в лицо богача, сидящего перед ним. Много денег! Каково это – иметь много денег? Почему одни имеют их чересчур много, а другие сосут лапу от голода, как медведи в берлоге? Нет, он точно бить его не будет. И к потолку на крючьях подвешивать – тоже. И ток не будет через него пропускать. Что же он будет делать с ним? Зачем он ему понадобился, если не для мелкой паршивой мести?
– Ты хочешь… – Ефим разлил коньяк в два широких приземистых бокала. Взял в руку бокал, поднес к носу, понюхал. – Ух, клопомор. Ты хочешь иметь много денег, урод?
Чек подтянулся к столику, тоже взял в руки бокал.
– Меня зовут Чек.
– Собачья кличка. Все равно. Ты хочешь иметь много денег, Чек?
Ишь как он об этом, о главном для него. Будто его, Чека, мысли прочитал.
– Может, сначала вмажем, Елагин?
– Вмажем.
И они вмазали.
Коньяк был отличный, пошел как по маслу. Чек, в полумраке гостиной, таращился на этикетку. По– иностранному написано, черт его разберет. То ли “Теннесси”, то ли “Хеннесси”. Нет, не надо верить этому хлыщу. Он его накормит– напоит, да и пристрелит спокойненько в этой гостиной, похожей на зал театра, на этом телячьем диванчике.
– А теперь я тебе отвечу, Елагин, – сказал Чек, не закусывая, промакивая рот рукавом черной рубахи. – Да, я хочу иметь много денег! Так много, чтобы…
– Чтобы наесться от пуза? Чтобы нажраться коньяком под завязку? Чтобы скупить во всех оружейных лавках все новомодные пушки?
– А ты гад, Елагин, – с радостным изумлением сказал Чек, и его страшную стянутую маску повело вбок, перекосило – он улыбался.
– Сколько тебе нужно, чтобы выполнить все свои потребности? Все, что у тебя есть за пазухой на сегодняшний день?
Чек медленно взял с блюдца витую золоченую чайную ложку. Запустил ее в вазочку с черной икрой. Проглотил икру.
– Не слышу!
– Ну– у– у… пес его знает… ты тоже спрашиваешь… ну, так я думаю, штук двадцать…
– Чего? Рублей?
– Ну, баксов, ты что, дурак, что ли…
Чек, будто в тягомотном неправдашном сне, следил, как Ефим встает, как подходит к секретеру, как вынимает деньги, зеленые хрустящие бумажки, много бумажек, как кладет перед ним пачку на столик, уставленный роскошной, никогда им не виданной жратвой.
– Хватит тебе?
– Это что же… – Чек сглотнул. Не прикоснулся к долларам. – Подачка? Или… откупаешься?
– От чего мне откупаться? От кого? От тебя? – Елагин пожал плечами. Чек видел, как слегка дрожат его пальцы. Как дергается в тике щека. – Щенок. Много тебе чести. Я просто даю тебе деньги. Ты же хотел денег. Ты и твои пащенки. Бери.
– Брать и уваливать? Щас. Вот только врежу еще и закушу. И побегу, ай– яй, как быстро помчусь.
– Козел. Язык без костей. Умел пугать, что ж не умеешь достойно вести себя?
– Уж лучше бы ты мне суставы выкручивал, Елагин.
Они глядели друг на друга, как два зверя в лесу. Неуловимый запах одной породы щекотал обоим раздувшиеся ноздри.
– Еще выпьем?
– Выпьем.
Ефим налил. Они выпили. На сей раз Чек закусил основательно – бутерброд, кусок омара, прямо пальцами цапнул с тарелки соленые маслины и отправил в рот.
– М– м– м, черт бы драл, как классно!..
– Если хочешь, я еще добавлю.
– Чего?..
– Десяток штук. Чтобы тебе совсем комфортно было. Чтобы ты чувствовал себя как я.
– А зачем тебе это надо все, Елагин, а? – спросил Чек с набитым ртом. – Это не спектакль? Это ты по правде? Так я ж эти деньги тогда не на себя пущу. На наших.
– Ну и псих. Я даю их тебе. Чтобы ты устроил свою жизнь, как хочешь ты.
Ефим отвернулся. Он отчего– то не мог глядеть на его порезанное ножами, все в диких шрамах, невероятно страшное лицо.
– А я сам не знаю, чего хочу. Налей еще!
– Не развезет?
– Развезет – усну прямо здесь! Не диван у тебя, Елагин, а облако! Знаешь, такие облака в церкви, на сводах, рисуют… пушистые, пухлые…
Налили по третьей. Бутылка “Хеннесси” опорожнилась наполовину. Исчерканные шрамами щеки Чека густо порозовели. До Елагина долетало его коньячное дыхание. Они оба одновременно подняли бокалы, сдвинули.
– А я помню… помню, как к тебе в твоем дворе подошел… ты тогда чуть в штаны не наклал, ха– ха– а– а– а– а!..
– При виде тебя, парень, да. Так оно и было.
Чек закусил губу. Влил в себя коньяк, как горючее в бензобак.
– Отличное питье… И что, шеф?.. Подпоишь… и головой в унитаз… ха– а– а– а…
– Охота была. У тебя, Чек, девушка есть?
И снова на миг он, пьяный, уличный бродяга, бритый хулиган, по которому уже плакала тюрьма, показался отчего– то ему таким родным, таким своим, что сердце поднялось из груди вверх и комом, как непрожеванный кусок, встало в горле. “Это все коньяк, – подумал он злобно, – отвратительный “Хеннесси” я купил сегодня, никогда не надо брать эту марку, зря ее повсюду рекламируют”.
– Есть, – важно кивнул Чек. Перед его глазами встала Дарья, как живая. – Есть, а как же! Это я к ней бежал… а ты мне подножку из машины твоей гадской подставил… ты меня – от нее увез…
Елагин встал. Сердце билось непонятно, тревожно.
– Тогда ты вот что. – Он встал, шагнул к шкафу. Рванул на себя дверцу. Вынул из шкатулки что– то, ярко сверкнувшее. – На, подари ей браслет.
Чек протянул непослушную руку. Сначала схватил воздух, потом ювелирную бирюльку. Ого, чистое золото! Или подделка?.. Он поднес браслет близко к глазам. Вертел. Рассматривал. Золотая змейка с изумрудными глазами. Да, похоже, золото настоящее. Он попробовал его на зуб. Елагин ударил его по руке.
– Ты, что в пасть суешь…
Чек снова уставился на браслет. Где, когда он видел похожий? Ага, да– да… Была у него девчонка одна. Давно? Годы идут, и это было здесь уже, в Москве, не на Кавказе. На Кавказе он еще салагой был. А тут уже стал мужиком. Девки сами липли. Эту, чье лицо внезапно из тьмы времени встало перед ним, он помнил смутно. Она не давалась сама. Он ее изнасиловал. Он считал тогда – это в порядке вещей. Ну, гулял с ней одно время. Время, нитка, мотают тебя люди на клубок. Потом он бросил ее. У парня должно быть много девок, а у мужика – много баб. Зацикливаться на одной не стоит. Потом до него дошли слухи, что ее вроде бы убили. Мало ли кого и когда пришили в этом мире! Мало ли на свете таких вот изящных золотых вещиц! Может, эта желтая змея вовсе и не ее.
– И что?
– Бери. Суй в карман. Подари своей девушке. Ей понравится.
Ефим отвернулся. Вытащил из кармана сигарету. Закурил, глядя куда– то в угол остановившимися глазами.
Он нашел, кому наконец сбагрить этот, жегший ему душу, подброшенный ему кем– то браслет Дины Вольфензон.
Чек повертел бирюльку в руках. Осторожно положил на подлокотник кресла. Золотая змея ползла по подлокотнику, светилась зелеными глазами.
– Ты, бритый крыжовник, – Ефим щелкнул его пальцем по бритому набыченному лбу. – Сильно изменишь своим принципам, если скажешь мне, кто все– таки стоит за тобой?
Они оба допились той, Хрустальной, ночью до того, что Елагин подмял под себя Чека. Он охмурил его. Он обаял его. Он все– таки купил его – урода, озлобленного мальчонку, дикого звереныша, со всеми потрохами, со всем его нехитрым серым веществом в покалеченной башке, со всем тяжелым, как чугун, скарбом его жизни. Он сказал ему: “Чек, ты отныне служишь мне. Я тебя приобрел, Чек. Ты больше не служишь своим вождям, фюрерам и дурерам. Ты теперь – на службе у меня. Я сделаю из тебя человека, урод. Я тебя выучу! Я отправлю тебя в Кембридж! В Гарвард! В Уортон! Я отграню тебя, как алмаз! Ты себя не узнаешь! Мы, Чек, дружище, сделаем тебе пластику… и рожа твоя будет как у Алена Делона, клянусь, зуб дам…” Ефим щелкал себя ногтем по клыку. Чек идиотски смеялся, пускал пьяные слюни. В разгар ночной пьянки из дальних комнат выплыла дородная седовласая матрона, изумленно воззрилась на попойку, на вусмерть надравшегося коньяка сына, машущего рукой перед лицом, вернее, перед дикой, уродливой мордой какого– то парня в тупорылых черных башмаках и в черной рубашке с закатанными до локтей рукавами. Ефим у нее всегда был мальчик с причудами. Ариадна Филипповна пожала плечами. Пусть веселится. Может, этот уличный лысый уродец – и где только респектабельный Фима подцепляет таких?! – ему для чего– то понадобится. У Фимы каждый мусор идет в дело. Фима мальчик непростой. Ада развернулась, как корабль, поплыла обратно к двери. Кажется, эти двое, увлеченные коньяком и болтовней, не заметили ее. На столике на колесах стояла уже третья пустая бутылка из– под “Хеннесси”.
… … …
Он втискивал свое тощее молодое тело в ее, темнокожее, нежное и податливое. Он вжимался в нее, влеплялся, будто хотел врасти, и она подавалась навстречу ему, чуя его состояние, стремясь вобрать в себя до конца, защитить, заслонить, накормить всею нежною собой.
– Дашка, Дашка… Я не раб, Дашка! Я не раб!
Они сплетались, входя, вминаясь, вонзаясь друг в друга, как всегда, на полу. На брошенном на пол матраце, залитом вином, водкой, чужой мочой и чужой кровью. Это была их первая, единственная и последняя постель.
– Я – орудие, Дашка… Ты не понимаешь… Я – всего лишь нож в руках Хозяина…
– Какого хозяина?..
– А– а– а– а… Обними еще… Вот так… Любого! Любого, понимаешь ты! Любого, кто словит меня тепленького!
В Бункере было темно. Хайдер дал ему ключ, и они с Дашкой нынче ночевали в Бункере. Они пробрались в самую дальнюю комнатенку Бункера, там было пусто и голо, и только стояли ящики из– под оружия. Из– под тех винтовок, автоматов, пистолетов и базук, которыми они баловались вчера ночью. А сегодня…
Половину скинов переловили. СИЗО переполнены. Тюрьмы переполнены. Больницы забиты ранеными. Или – спятившими с ума. Кое– кому действительно удалось удрать в Котельнич. Баскаков позвонил оттуда Вождю. Вождь утешил уцелевших. Тех, кто остался в городе. Ценная информация. Да только она им всем по хрену. Зачем Хайдер затеял все это? Он же знал, что все обречено. Он показал нам, каково это – героизм, когда заранее знаешь, что все обречено?!
А не пошел бы он, наш Хайдер…
– А– а– а– а… Дашка… Дашка… Люби меня… Мне так хорошо… А– а…
– Я люблю тебя, – раздался над его ухом жгучий шепот. – Я люблю тебя, Чек. Еще сильнее… Вот так… Так… Я не покину тебя… Только ты меня не брось…
– У меня опять хозяин, Дашка!.. Я устал от хозяев… Я всегда был чей– то раб… Чек – раб… Чек – туда… Чек – сюда… Я не раб! Слышишь, не раб!
– Слышу… Слышу… Не раб… Ты – свободен… И я – свободна… Ближе… Ближе… Иди ко мне… Иди…
Он прижался к ней, выгнулся в судороге радости – и затих. И уронил уродливое, страшное лицо ей между нежной шеей и нежным смуглым плечом. Ее плечо пахло сандалом. Она зажигала, ожидая его здесь, в Бункере, сандаловые палочки.
Он дышал тяжело, задыхался. Она приложила ухо к его груди.
– У тебя легкие хрипят, – шепнула она. – Может, у тебя туберкулез. Тебе надо сделать снимок.
– К чертям снимок. Пусть я сдохну от чахотки. Если все так сдыхает. Наше движение сдыхает. А мы еще не набрали силу. Нас всех переловят поодиночке, Дашка. Нас всех переловят поодиночке, слышишь?!
– Я вчера ночью стреляла, – гордо сказала она. – Там, у Центрального телеграфа. Я слышала, ты звал меня. Куда ты делся? Почему ты пришел только сегодня?
– Никуда. Встретился с одним знакомым мужиком. Гад мужик, конечно. Он меня завербовал. Он купил меня. У нас теперь куча денег, Дашка. Чертова прорва деньжищ! Мы можем купить себе квартиру! Мы… – Он задохнулся. Налег на нее, распластанную на грузном матраце, тощей костлявой грудью. – Как ты стреляла, если ты не видишь ни черта?!
Она оттолкнула его от себя обеими руками.
– Слезь с меня, я задыхаюсь. Вот так. Ляг так, рядом. Я стреляла туда, куда мне велел Нострадамий.
– Что за Нострадамий, к чертям собачьим?!
– Нострадамий, – повторила Дарья упрямо. – Человек такой. Я ощупала его лицо. Он маленький, весь в щетине, от него пахнет вином, и у него очень красивый голос. Он говорит так, будто гладит тебя.
– Ну и ложись тогда под него, если он тебе так нравится.
– Я никогда ни под кого больше не лягу в жизни, кроме тебя. В борделе “Инь” я ложилась под многих мужиков. И у меня тоже была хозяйка. Ее звали Фэнь. По– настоящему ее звали Машка Распопова.
– Распопова!.. Ха!.. – Он приподнялся на локте. Обежал острым барсучьим взглядом ее закинутое кверху слепое лицо. – А твое фамилие– то как?..
– Не фамилие, а фамилия. – Она отвернула голову. Под прядью ее смоляных волос на матраце просвечивала корявая надпись, сделанная красным фломастером: “МЫ ЕЩЕ ПРИПОМНИМ, КАК ПРЕДАВАЛИ НАС”. – Улзытуева.
Она еще немного помолчала. Он лег на спину, тоже молчал, глядел в пустой потолок.
– Я слепая, и ты меня все равно бросишь.
– Мне до феньки твои хныканья! Нас всех завтра перестреляют поодиночке, как цыплят!
– Принеси мне чистый белый лист бумаги, ватман, – сказала Дарья, и ее горло перехватила судорога. – Ты всунешь мне в пальцы карандаш и будешь держать мою руку, чтобы она не сползла с бумаги. Я хочу нарисовать бабочку.
ПРОВАЛ
Крупные звезды. Это не звезды, а фонари.
Золотые купола храма Христа Спасителя кажутся медно– красными. Идет весна. Она идет издалека. Хрустальная ночь кончилась. Кровь пролилась. Где гарантия, что она больше не прольется? Этот товар продается без гарантии, извините.
На ступеньках храма сидит кто– то, скрючившись. Это нищий? Да это я, я это, Алешка Нострадамий. Я подобрал на улице той ночью девчонкин пистолет, а он ведь был уже пустой, без патронов. Даже не пострелять мне, не потешиться. Я поднимаю голову и стреляю словами. Я пророчу.
Я пророчу, и опять меня никто не слышит.
Та добрая слепая девочка дала мне на выпивку денег. Вынула из кармана шубки и всунула мне в кулак. Люблю добрых людей. Люблю сильных людей. Люди, почему вы злы? Люди, почему вы слабы? Вам интересно убивать? Вам неинтересно любить?
Совсем рядом река. Она замерзла. Кончается зима. Из тьмы идет весна. Вода освободится. Она освободится и будет ослепительно блестеть под солнцем. Не прячьте меня в каменную клетку. Не бросайте за железную решетку. Идет весна, и в небе всходит Красная Луна. Это нимб. Он горит над головой нового Бога. Только я не скажу вам его имя. Зачем говорить имя Бога глухим?
… … …
– Ангелина…
– Ха!..
– Ангелина…
– Ха!..
– Ангелина, Ангелина, Ангелина…
– Ах…
– Я… с ума… схожу…
– Ты…
– Я– ах!..
– Ты…
– Ты… ты… ты… только ты… только… только…
Ночь. Черные четки сучат за окном. Наотмашь бьют по стеку. Сильный ветер. Двое людей стали одним. Один зверь о двух спинах? Как его зовут? Ночь. Ночь и ветер. Шквалом идет весна. Идет ураганом. Наваливается черным медведем. Восьминогий зверь стонет и кричит. Ему больно? Он испытывает то, чего никогда не испытывал раньше. Никогда и ни с кем. Он боится расчлениться. Он боится опять превратиться в двух людей. И больше никогда снова не стать единым целым.
– Ты…
– Ах!..
– Ты…
– Ах!..
– Зачем ты… зачем…
– Я… я… я…
– Ха!..
Белые высверки сумасшедшего снега. Слепящая плеть фонаря. Ужас будущего. Слепота настоящего. Настоящего больше нет. Он нашел ее. Она нашла его. Они оба дикие и необузданные. Они рвутся друг к другу. Они ворвались друг в друга и разрушили друг друга; и в одну ночь создали друг друга заново.
Убей меня. И ты убей меня. Мы все равно друг друга воскресим.
– Ты…
– Ты!..
– Да…
Я воскрешу тебя.
Ты воскресишь меня.
Мы убежим от всех. Нас никто не догонит.
Нас не догонят. Нас не догонят!
Я уберу всех с твоего пути, пока ты будешь бежать.
Вместе с тобой. Вместе с тобой. Только вместе с тобой.
– Ха!..
… … …
…Он держал ее исхудалое, все исколотое, избитое, потасканное санитарами тело на руках. Он сидел с ней на руках на больничной койке, и все происходящее все больше казалось ему сном. Ему снился сон о его жизни. Так, все верно. Его сейчас пнут под зад, и он проснется.
– Лия… Лиечка… Не умирай…
Архип держал на руках Лию Цхакая, как ребенка, и укачивал ее, как ребенка, и бормотал ей все ласковые слова, какие знал, как бормочут ребенку. Он понимал: она не выдержала, сломалась. Почему у нее все тело было в синяках? Он пробовал спросить об этом санитара Степана. Набросился на него с кулаками: скажи! Получил в зубы. Отлетел в угол палаты, к стене. “Сама себя исщипала, психбольная, а на нас показывает! Попробуй только Ангелине донеси! Убью!”
Лия не выдержала муки. Она пила, пила страдание полными бокалами, пила, как в Грузии из рогов пьют терпкое вино – и опьянилась им. И упала наземь. Свалилась. Выдохнула тяжело. И теперь уходит.
Она уходила, отлетала – на руках Архипа. Он сжимал ее плечи. Грел дыханием ее холодные пальцы, как греют на морозе возлюбленным и детям. Он бормотал:
– Лия, Лия, Лиечка!.. Я с тобой!.. Не уходи…
Он не слышал, что мололи, кричали и шипели ему товарки Лии, ее соседки по палате. Не слышал матюгов санитаров. Не видел, как идет, цокая каблучками, к койке сестра, брезгливо держа в пальцах шприц иглой вверх. Не чувствовал, как его толкают в плечо: дай ее нам! Отпусти! Оставь! Положи на койку! Он чувствовал только, как она все больше затихает, не шевелится, как все больше холодеет ее становящееся смертно спокойным легкое, как у бабочки, тело.
Что такое тело? Что такое душа? Зачем они слеплены вместе?
– Архип… Я написала адрес… Возьми… За лифчиком, чтобы они не отняли… За пазухой… Это адрес матери… Не оставь ее… Помоги ей там… в Тбилиси…
Она дернулась. Поглядела на него огромными, черными, полными слез глазами. На обритой наново голове уже отросли черной щеткой колючие жесткие волосы. Архип провел по ним рукой. Она брила голову, как они. Она пела их песни. Она была с ними.
И этого он не забудет никогда.
“Под нас играют многие, – сжав зубы, подумал он, – да немногие становятся нами”. Он глубже заглянул в глаза Лии. Наклонил голову низко. Так низко, что коснулся лбом ее лба.
И они столкнулись лбами, будто содвинули чаши.
И она вытянулась у него на руках, как– то странно вытянулась и замерла.
Умерла.
Он держал ее, мертвую, на руках и ничего в это время не думал. Не чувствовал. Он внезапно весь стал пустой. Опустел, как дом, откуда отъехали жильцы.
Потом, когда он почувствовал, что ее рвут, вырывают у него из рук, он вдруг подумал: как же так, ведь они, скины, боролись против черных, против черной заразы, а с Кавказа ползет зараза, пели они оголтело, во всю глотку, а она же с Кавказа, она грузинка, но грузины же православные, кого же тогда считать черными, – и все внезапно спуталось у него в голове, перепуталось и взбунтовалось, и он, цепляясь за ее костлявое, как у цыпленка, тельце, что рвали, тащили у него из рук, кричал, хрипел на всю палату:
– Не надо ее жечь током! Не сжигайте ее! Не надо ее в пепел! Может, она еще оживет! Сделайте ей хороший укол! Ну ведь вы же люди! Люди! Люди!
А там, далеко, за тысячи дорог отсюда, в пустом храме, в вечном городе Иерусалиме метался между фресок, нарисованных им, патлатый, расхристанный художник. Он метался и кричал: “Не могу! Не сходите со стен! Не сходите! Ведь вы же нарисованные! Ведь вы же не живые!” – простирая руки к тем, кого он сам намалевал на свежеоштукатуренных стенах, в нишах и абсидах.
– Ведь вы же не живые! Ведь вы же не люди! Не люди! Не люди!
Витас сходил с ума.
Он сходил с ума по– настоящему.
Он сам не думал, что это будет так страшно.
На миг ему в голову приходило: не дай Бог, я спячу бесповоротно и останусь навек сумасшедшим, – потом внезапно все прояснялось, он ужасался своим воплям, обхватывал себя руками за голову, сгибался в три погибели, садился на пол храма, прямо на каменные плиты, и плакал, – а потом поднимал голову, снова видел свою фреску Страшного Суда, снова ему глаза застилало темной, кровавой пеленой, и он снова вскакивал и начинал метаться – от стены к стене, от ниши к нише.
Он работал спокойно, он выполнял заказ людей, которых он не знал, но ему хорошо заплатили, аванс был вполне приличным, ему никогда и никто так много не платил за заказную работу, – как вдруг все это началось.
Это началось после того, как он изобразил на своей фреске, будь она трижды неладна, этого, двойника Ефима Елагина, того, с фотографии.
Он старательно, как ученик, как студент Академии художеств, копировал с фотографии это лицо – широкоскулое, с ямочкой на твердом, будто гранитном подбородке, с маленькой родинкой в углу рта, с твердым и властным, чуть выгнутым луком, с чуть вывернутыми губами ртом, – будто высеченное из гранита лицо: такими были лица гонфалоньеров, римских легионеров, античных трибунов, – а такие чуть раскосые глаза были у гуннских, у тюркских вождей, неуловимая восточинка сочилась, как струйка крови, из этого красивого лица. Бывают же красивые мужики, думал он, копируя фотографию высунув язык. Он, Витас Сафонов, всю жизнь мечтал сделать себя красивым мужиком. Художником. Бабником. Светским львом. И сделал. И что? Он счастлив?
И он все– таки написал этого типа на фреске – рядом с воздевшим руки Христом. В ярко– синем, индиговом плаще. Христос у него был в красном, кровавом, а этот тип – в синем. Так ему понравилось. Теплый колорит и холодный. Контраст. Красиво.
И началось.
Он не забудет ту ночь. Ту ночь, когда в Москву из Иерусалима улетала Ангелина.
Он проводил Ангелину в аэропорт. Она улетала поздним рейсом. Они ничего не сказали друг другу на прощанье. Она легко прикоснулась губами к его щеке и улыбнулась: “Спасибо, Витас, я провела в Святой Земле незабываемую неделю”. О да, незабываемую, подумал он зло, ты трахалась с известным магнатом, плюнув на известного художника, даже не посмотрев, что он с такой очаровательной спутницей. Ты развратная, Ангелина, подумал он и втянул ноздрями аромат ее египетских духов. Ты Клеопатра. Да, я Клеопатра, ответила она ему одними глазами, а ты мой паладин. Ты ведь жизнь за одну мою ночь отдашь, не правда ли? “Это тебе спасибо, ты подарила мне вдохновение. Шматок вдохновения. Без тебя бы я не замахал эту фреску. А так – мне уже легче. Подмалевок я сделал. Остальное дело техники”. Ты работаешь без помощников, усмехнулась она, ты такой жадный, что не хочешь делиться гонораром? Он сухо кивнул: “Иди к стойке, твой самолет уже объявили”. В город он вернулся на такси. Велел водителю ехать не в отель – к храму.
И отпустил шофера, бросив ему на сиденье так много шекелей, сколько бедняга не видал во всю свою жизнь. И вошел в храм.
И обомлел.
Фигуры на фреске танцевали. Фигуры плясали. Фигуры, разъярясь, показывали кулаки. Люди на стенах оживали и, скалясь, хохоча, крича, стеная, беззвучно сходили со стен. Витас на миг замер. Потом попятился. Прижал руки к лицу. Зажмурился. Нет, это все ему снится!
Отнял от лица руки. Человек на фреске, что ближе всех стоял к нему, шевельнулся и поглядел на него. Витас застыл с открытым ртом. Сердце выпрыгивало у него из ребер. Он поднял перед собой руки, защищаясь. У человека, глядящего на него с фрески, было лицо того, кого он знал.
Лицо того, кто канул навек в страшное воспоминание, вновь становящееся явью. Лицо того, кто делал при нем то, на что нельзя было смотреть. А ведь художник должен на все смотреть. Должен видеть все. Гойя сказал кому– то, передернувшемуся от отвращения при взгляде на его “Капричос”: “Я это видел”.
Я ЭТО ВИДЕЛ.
Ты тоже ЭТО видел, Витас.
И тот, кто делал ЭТО, главный палач, главный мясник, – вот он, перед тобой, на фреске, и он взмахивает рукой, и он делает шаг вперед, и он сходит со стены вниз, к тебе, потому что он живой. И все – живые. И никто не становится никаким воспоминанием. И все – существует, только руку протяни.
Он шарахнулся от фрески. Человек из его воспоминанья на стене улыбнулся страшно, шагнул вперед. Витас заорал страшно, дико, падая на расставленные на полу храма банки и бутылки с красками, с олифой, со скипидаром, роняя кисти и палитры, кубарем катясь к выходу. Дверь в храм была закрыта – Витас сам запер ее. Боясь открыть глаза, он вскочил, подвывая, вслепую нашарил дверь, распахнул ее, выскочил на улицу.
Небо над Иерусалимом наливалось розово– лиловым огнем рассвета. Звезды мерцали, потухали, скорбно провожая ночь. Он открыл глаза. Перевел дух. Из– за горизонта, из– за Иордана выкатывалась, медленно выплывала на рассветный небосвод огромная Луна. Она была густо– красной, как апельсин из Хайфы. Он вздрогнул. Подумал: нарисовать красный гигантский нимб раскинувшему руки Христу. Как бы он ни был напуган своим сумасшествием, он все– таки был художник.
Он пошел в отель, он выпил вина, он открыл настежь окна в номере, впустил в комнату предрассветный ветер, он сожрал успокоительную таблетку, и он сказал себе: ты пойдешь завтра работать в храм!
И он пошел завтра работать в храм.
И все повторилось.
На сей раз ему ухмылялась, скалилась, протягивала когтистые руки навстречу ему с его фрески женщина. Раскосая, скуластая чернокосая женщина. Вроде этой, подружки Елагина, Цэцэг. И рядом с ней плясала, выбрасывала вперед из– под блестящего платья старую ногу седая ведьма. У седой ведьмы были прозрачные, светлые, почти белые глаза. У нее была нагая высохшая грудь, а на ногах были старинные каторжные кандалы. Ведьма трясла высохшими как тряпки грудями, подмигивала Витасу. Внезапно бесстыдно раздвинула ноги, и он увидел, как между ног ведьмы просовывается, торчит головка младенца. Витаса чуть не вырвало. Он метнулся к противоположной стене и заорал: “Не верю! Тебя нет! Тебя же нет!” Что надо делать?! Креститься?!
Он поднял негнущуюся руку. Он не мог сложить пальцы в щепоть. Подумал о себе: кто я такой, сын литовки и кацапа?! Мать дала мне фамилию отчима. К черту все веры! К черту все религии! Я просто схожу с ума, и все, и никакая вера меня не спасет!
Он бросила ничком на пол. Холодные каменные плиты, к которым он прижался содрогающимся в рвотных позывах животом, немного отрезвили его. Он притих. Прислушался. Волоски на его теле все встали дыбом. Шорох. Медленные шаги вокруг него. Кольцо шагов сужается. Они приближаются. Они все уже сошли со стен и подходят к нему!
Он закрыл затылок ладонями. Зажал уши. Как читать молитву?! Он в жизни молитв не читал. Не знает ни одной. Ни одной! А туда же, расписывать храм! Они идут. Они уже рядом. Он слышит их дыхание. Они, это они. Он их узнал. Он же все равно вписывал их, грешников, их дикие рожи, их грешные руки, их призрачные фигуры во фреску. Они никуда не делись от него. А он – не делся от них.
Он помнит все как сейчас. Боже! Его завели в комнату. На столе стояли ящики, лежали инструменты, названия которых он не знал и не узнает уже никогда. Женщина очень кричала. Ее держали под руки. Потом сунули ей под нос ватку, смоченную в чем– то пахучем. Он услышал голос: не давайте много, а то не сможем сохранить требуху. Другая женщина не кричала. Она молчала. По ее щекам медленно, беззвучно стекали слезы. Ни всхлипа. Ни просьбы. Она покорно, как овцу, позволила себя положить на стол. Она уже была как мертвая. Мертвое тело. Мертвое море.
Мертвое море живой крови.
Он видел, как по столу, по простыням тек краплак. Стекал сурик. Вспыхивал и расплывался пятнами кадмий красный. Как блестела в свете яркой хирургической – или гестаповской? – лампы красная охра. Он повторял себе мертвыми губами: это все краплак, это все охра, и, великий Рембрандт ван Рейн, ведь ты же тоже присутствовал на уроке анатомии доктора Тюльпа! Доктор Тюльп, мать твою. Ты давал урок анатомии юнцам– живописцам на трупе. Здесь тебе, не юнцу, но живописцу, преподают тот же урок – только на живых людях.
Он крикнул тогда: перестаньте! Они же живые! Нет, сказали ему, обернувшись, осклабившись, нет, они же муляжи. Они же бабы– фантомы, резиновые надувные куклы, и они пищат, как ты не понял. Мы проверяли тебя на вшивость, ты оказался слишком верующий парень. Надо быть в жизни скептиком и циником, а не боженькиным сусликом, ферштеен?!
– Не подходите! – истошно крикнул он, зажимая уши ладонями. В ушах звенело. Тяжкий, частый звон наполнил череп, взорвал изнутри тьму храма. Остро, резко пахло пролитым скипидаром. Он прислушался. Шаги смолкли. Тишина.
В храме Второго Пришествия, вновь выстроенном на окраине Иерусалима, стояла мертвая тишина, и тихо оплывали свечи, и тихо догорал керосин в старой керосиновой лампе, что он, дурак, приволок из Москвы сюда, и тихо мерцал под потолком одинокий тусклый софит, как глаз допотопного зверя.
Он все– таки нарисовал Христу красный нимб.
Красный нимб, ведь это так символично.
Сколько крови пролилось из– за Христа. Моря крови. Сколько крови пролилось из– за любого символа, что люди вышивали на своих священных знаменах. Какой символ придумают и вышьют на штандарте завтра? Красная Луна над затылком Христа, ну и ладно. И на повернутой к народу ладони Последнего Судьи он, хулиган, Витас Сафонов, возьмет да и нарисует черного паука. Свастику. Древний знак. А Христа сделает бритоголовым.
Его Бог строго, сурово глядел, намалеванный им, на него со стены. Глаза Христа прожигали Витаса. Не дай, Боже, стать на земле художником. Художник хочет все написать. Всех запечатлеть. И умирает около своей громадной, в полжизни, фрески, медленно сходя с ума.
Тебя заплюют, закидают тухлыми яйцами, мужик. Того хуже, закидают пулями и гранатами. Кто же Христа делает скинхедом! А художник. Художник имеет право на все. И на святотатство тоже?
Он нажрался успокаивающих колес от пуза, когда, проспав весь день, всю ночь и следующих полдня, все– таки направился в свой храм. Делать ему было нечего. Он должен был работать. Отрабатывать свой баснословный гонорар.
… … …
– Баскаков твой друг?
– Баскакова не тронь. Он больше чем друг.
– Бойся друзей, однако. Это старая истина. Мужик не должен заводить себе друзей, а женщина – подруг. Подруги предают, а друзья убивают. Лучше любить врага и дружить с врагом. По крайней мере тут все ясно.
Ангелина стояла голая перед зеркалом. Весеннее солнце заливало в зеркале всю ее ослепительно– золотым светом, и она, нагая, гляделась как бронзовая статуя. Хайдер, лежа в постели, тоже голый, неотрывно смотрел на нее.
– Понял. Раздружусь с Баскаковым. Но ведь он мне нужен. Это он, между прочим, спас моих ребят. Увез их на нашу базу в Котельнич. Я ему в ножки должен кланяться, что так все вышло.
– Себе кланяйся. Я узнала, сколько твоих любимых скинов валяется по больницам. Я собрала статистику у знакомых папарацци. Ни в сказке сказать. Я уже молчу о СИЗО. Ты не думаешь, что с ними будет?
– Я думаю, что с нами будет.
– Со мной и с тобой?
Она отвернулась от зеркала. Обернулась к нему. Он протянул к ней руки: иди же, иди. Она прыгнула на него, упала – так падает с ветки в лесу рысь на шею охотнику.
… … …
Отец Амвросий посмотрел в окно. Около подъезда, сверкая на солнце чисто вымытыми боками, стоял “мерседес”. “Уже, – подумал Амвросий, – не прошло и двух недель. А ведь мы договаривались о приличном сроке. Он же сам сказал мне – поеду расписывать храм в Святую Землю. А вот уж он и прилетел, соколик. Или – придумал себе творческий отпуск?” Амвросий подошел к двери, открыл ее. Дверь для гостя должна быть открыта настежь. Дом с запертой дверью – не дом христианина. Правда, староверы на Енисее запирают дверь, да еще доской припирают, и напиться путнику не дадут, а дадут – выбросят оскверненную посудину.
Он отправился на кухню – ставить чайник, чтоб угостить гостя горячим чаем, – и не услышал, как вошел Сафонов.
Витас вошел осторожно, крадучись, как лесной кот. Русые густые волосы, отросшие до ключиц, падали ему на лоб, на глаза. Он кокетливо отбрасывал их с лица, встряхивал головой. Как ему все здесь знакомо, в этой отнюдь не нищенской келье. Каждый баташовский самовар; каждая икона. У Амвросия в красном углу висел драгоценный киот начала восемнадцатого века, привезенный им из сибирской глубинки, из таежной глухомани, откуда– то с низовий Ангары. Киот почернел от времени, Амвросий не отдавал его чистить реставраторам. Ему нравилось, что из черной, смоляной тьмы выступают, мерцая тусклым золотом, лики и нимбы, что подземным огнем горят изможденные византийские лица, снова пропадая, исчезая во тьме. Он любил молиться перед этим киотом. Называл его – “мое искупление”. О, грешен был отец Амвросий, в миру Николай Глазов, многогрешен еси, Господи.
– Здорово, отец, – кивнул Витас. – Чай– то есть? Я с дороги.
– С дальней? – Амвросий прищурился. Поправил воротник рубахи. – Прямо оттуда, что ли?
– Прямо оттуда.
– Как работается? Или закончил?
– Не закончил. До конца еще палкой не добросить. Вкалываю, Амвросий, вкалываю как бобик. Денежки– то заплачены.
– И как оно выходит? – Амвросий достал из инкрустированного старинного флорентийского шкафчика банку с абрикосовым вареньем. Стоял с банкой в руках, щурился, улыбался.
– Да вроде ничего. Одолели меня только видения, черт бы драл. В толк не возьму, с чего это. – Он передернулся, вспомнив. Он– то знал, в чем тут был толк. Но ему нужно, нужно было, чтобы Амвросий его утешил. По– своему, по– церковному, как это у них принято. – Такая гадость! Крыша у меня поехала, отец, вот что. Перетрудился малость.
Амвросий принес с кухни чайник. Вынул из холодильника осетрину, баночку икры, миску с салатом. Брякнул об стол банкой кофе.
– А мясца у тебя нет? – Витас облизнулся. – Жрать хочу, как голодный волк. Ничего не жрал с самого Иерусалима. Не мог. И самолетную еду тоже не жрал. Стюардесса хорошенькая была – ум– м– м, загляденье! Вот ее я бы съел.
– Прожорливый ты наш. – Амвросий, улыбаясь, налил в чашки чаю, нарезал тонкими ломтями осетрину. – Ешь, чего дадут. Сейчас Великий пост, дурень, и то я тут с тобой согрешил, вот рыбу лопаю, а ее только в Благовещенье разрешено.
– Ты врешь, что лопаешь осетрину только в Благовещенье или только сейчас, за компанию со мной. – Витас наложил на хлеб осетрину, зачерпнул ложкой икру. – Ты лопаешь это все всегда, и не пудри мне мозги твоими постами, пожалуйста.
Амвросий, прихлебнув чай, перекрестился на киот. Потом повернулся к Витасу. Глаза его сделались жестки и остры, как кончики двух ножей.
– Приятного аппетита, Вит. Ждешь от меня известий? Люди еще не приехали. Я жду их недели через две. Ты же сам сказал – отсутствую не меньше месяца, потом приезжаю и занимаюсь заказом срочно. Заказец– то не пустяковый. Я так понимаю, ты сейчас этим делом заниматься не будешь? Отдохнешь пару деньков и снова свалишь в Израиль?
Сафонов опять отбросил волосы со лба. Рука с бутербродом дрогнула.
– А вот и не догадался. Я как раз хочу сейчас этим подзаняться. Я смотрел там по телику новости. Тут ведь бойня была будь здоров. Скины отличились. Устроили ночь Варфоломея, вроде того. И пол– Тверской разгромили к лешему, машины поразбивали, людей постреляли. Больницы забиты. Среди этих ребят полно беспризорных. Они сбиваются в стаи. Я собираюсь, как ты понимаешь, как раз именно сейчас этим заняться.
Амвросий глядел непонимающе. Положил ладонь поверх чашки с горячим чаем, отдернул руку.
– Не понял?
– Что тут понимать. Материала полно. Бери не хочу.
До Амвросия дошло. Косая улыбка повела его бородатое худое, как у старовера, лицо вбок. Он положил себе в розетку из банки варенье, и в комнате сладко, приторно запахло абрикосами.
– Доехало. Только как же ты будешь действовать, художник молодой?.. Ведь это тебе не комар начихал. Ты никого так просто не завербуешь… и не украдешь. Знакомства нужны. И выписка из больницы, и выход из тюряги – прямо в твои, свет мой, пречистые руки.
Рот Амвросия скривился еще больше. Он заметно развеселился.
– Знакомства есть. Вернее, одно знакомство. Такое, что тысячи знакомств стоит.
– Кто? – Амвросий подобрался, стал жестким и сухим, как сухие дрова.
– Баба одна.
– У тебя всегда было сто баб вокруг тебя. И тысяча девок. У царя Соломона было семьсот жен и триста наложниц, и каждую он дарил любовью своею. Я эти басни наизусть знаю, Вит. Кто, я спрашиваю?
Витас, проглотив кусок, потянулся еще за осетриной.
– Мощная тетка. Главврач одной из спецпсихушек. Такая баба, что ты бы упал, отец, на месте. И сразу согрешил. Или с ней, или сам с собой, ха– ха. – Он зажевал осетрину просто так, без хлеба. – Знает все ходы– выходы. Практикующий психиатр. У нее пол элитной Москвы лечится. Все мафиози. Она мне поможет. Точно.
– Спишь с ней?
Два острых ножа проткнули его насквозь.
И он не смог соврать. Хотя очень хотел.
– Нет. Не сплю. Она играет со мной.
– Как?
– Как кошка с мышью. А я делаю вид, что это я с ней играю.
– Как ее зовут?
– Не твоего ума дело.
– Понятно, коммерческая тайна. Надежная хоть баба– то?
Перед Витасом встало лицо Ангелины.
Написать ее на фреске. Написать – так же, как и всех других, кого он вынимает из тьмы своего подсознания. Кто приходит к нему по ночам там, в храме, и мучает его. Но разве не она сама говорила ему, учила его – вылей все на холст или на стену, напиши все, что тебя мучает, выплесни боль, и тогда ты освободишься?
– Супер– пупер, – улыбнулся он Амвросию. Амвросий наклонил голову. Его борода залезла в чашку с чаем. Он вынул из чая бороду и стряхнул с нее капли.
– Тогда вперед.
– Рыжий ты какой– то стал, Николай. – Витас рассматривал его, склонив на плечо голову, профессиональным взглядом. – Давай– ка я как– нибудь твой портретик напишу, а?..
– Не выдумывай. Я не Бог, не царь и не герой.
“Тогда я тебя на моей фреске намалюю”, – содрогнувшись, подумал он, а вслух сказал:
– Отец, просьба одна. Сними с меня, если можешь, эту чертову порчу. Ну не могу я! Замучили они меня! Я, если честно, от них удрал… Отдохнуть от этого ужаса…
– А твоя докторица тебя не может вылечить? Твой практикующий психиатр?
– Уже лечила, – Витас опустил голову. – Бестолку. Все возвращается снова.
– Хм, вот ведь какие пироги. Это бесы, друг мой. Бесы. Они тебя одолеют. – Бородатое лицо нагло смеялось. – Они загрызут тебя, если ты молитву не будешь читать в храме.
– Какую?
– Ну ты и дурак. “Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселии глаголющих…”
– Длинная. Не выучу.
– Выучишь, если жить захочешь.
– Неужели все это так серьезно?
– Конечно. Ко мне тоже бесы приходят. Мы– то с тобой, парень, грехом занимаемся? Грехом. То– то и оно. А ты бы как хотел? Приходят и хороводы водят. А то и мордой об стол швыряют. Еще осетринки? Вижу, понравилась. Я для бесов моих – осетринка. Лакомый кусочек. А ты, брат, – красная икра.
Витас внимательно посмотрел на Амвросия. Непонятно было, шутит он или говорит серьезно.
Осип Фарада и Хирург отсиделись три дня и три ночи в подвале дома на Большой Никитской. Они чудом ушли из– под носа у милиции. Они бежали, бежали, ловя ртом воздух, по Тверской, по Брюсову переулку, по Никитской, и внезапно перед ними раскрылась, как черный зев, дверь, и они рухнули в нее – не поняв, что там, мафиозный подвал или дешевая забегаловка, дворницкая каморка или парикмахерская, приют для бомжей или фотомастерская. Подвал был пуст. Там ничего и никого не было. Фарада и Хирург забились за пустые ящики из– под компьютеров, на которых аршинными буквами было написано: “INTEL INSIDE. PENTIUM PROCESSOR”, – и замерли. Изредка перебрасывались парой слов. Молчали.
Они сами не ожидали, что Хрустальная ночь, так воспетая Хайдером, так лелеемая Баскаковым, так ожидаемая ими всеми, окажется на поверку такой поганкой. И, разочарованные, напуганные, как щенки, которых несут в лукошке утопить в проруби, они сидели в затхлом подвале за ящиками из– под пива и молчали. А что им было друг другу сказать?
Без еды прожить можно сколько хочешь. Фарада пробовал пять дней ничего не жрать, когда денег ни копейки не было, а воровать уже было стыдно – он пробовал воровать, по электричкам, в магазинах, чуть не попался, удрал, – и ничего, терпимо. Живот только болит очень. А так все порядке. Мозги соображают, котелок варит. А вот без воды ты, барсук, не протянешь и трех дней. Ртом будешь воздух ловить, как рыба.
– Эй, Хирург!.. Слышишь… Давай на волю ломанемся… И запах здесь уже, однако…
– Туалета с французской отдушкой здесь тебе никто не приготовил…
– Давай выбираться, Хирург, гроза откатила… Менты все убрались, говорю тебе… Мы тут концы отдадим… Я уж кашляю, все легкие отсырели… И потом, вдруг сюда кто– нибудь придет…
– Кто?.. – В темноте лицо Хирурга, жесткое, худое, будто из одних костей, без кожи, как у скелета, желто, тускло, страшно светилось. – Бомжи вонючие?..
– Хозяева… У каждого места есть свой хозяин, Хирург… Может, этот вонючий подвал – для кого– то Бункер… А мы тут его заняли…
Он выбрались наружу тихо, так осторожно, как могли. На улице стояла глубокая ночь. Которая ночь после Хрустальной? Они не могли бы сказать точно. Они, по безмолвному соглашению, разошлись, каждый добирался до Бункера своим путем. На лестнице, ведущей вниз, в Бункер, они встретились. Ощупали друг друга глазами: цел? Цел.
Берясь за ручку двери Бункера, Хирург обернулся к Фараде. Из его сощуренных глаз выбрызнул дикий свет. Он бросил Осипу:
– Фюрер все сделал неверно. Не так все надо было делать. Надо было ждать. Выждать еще год, два. И накопить силы. Я солидарен с Баскаковым. Баскаков хотел ждать. Фюрер поспешил. Тебе не кажется, что нам пора сменить Фюрера?
Фарада наткнулся глазами на его глаза.
Фарада все понял.
Огненный Крест. Огненный Крест.
Он должен нарисовать на этой своей треклятой фреске Огненный Крест.
Север, Запад, Юг, Восток. Красные щупальца, четыре стороны света. В каждой стороне – свой ужас. Своя красота. И своя судьба. А все вместе – спицы Черного Колеса. Колесо подожгли, и оно катится, катится по всей земле. Вот к нам прикатилось.
Он выучил эту сложную молитву, которую продиктовал ему лицемер Амвросий. Что толку в том, что Амвросий молится? То, чем занимается в миру Николай Глазов, вряд ли кто– нибудь когда– нибудь отмолит.
Он пообещал Амвросию, что поставит ему живой товар. Тот, о котором была договоренность.
Он позвонил Ангелине. Он услышал в трубке ее голос. Он выдавил: ангел мой, есть дело. Не откажи. И не откажись.
Она всегда все понимала с полуслова. Он же просил не о ночи любви. “Когда?” – лаконично спросила она.
И они встретились.
И он изложил ей суть дела.
И она не удивилась.
Она никогда не удивлялась ничему.
… … …
Да, Хирург – могучий скин. Он всем скинам скин. И он уже вырос из детских штанишек. Давно вырос. Когда– то он был знаком с Йоко, японкой, байкершей, мотавшейся на своем мотоцикле по всей Москве и за ее пределами, и глупо попавшейся за серию сакральных убийств; с Иваном Охотиным – Волком, известным сатанистом. В свое время Хирург сколотил мощную группировку байкеров, потом скинхедов, которая переросла в огромную организацию, пустившую щупальца по всей стране, и они, члены его группировки, называли себя коротко и просто – “волками”, и они, бритые, поджарые, полудикие, вечно голодные, злые и веселые, и вправду были похожи на молодых волков. На волков, которые ищут себе вожака. Искать не надо было. Хирург вполне подходил для этой цели. Кельтский Крест был вытатуирован у Хирурга на груди. “Слушай, ты, волчара, а почему тебя кличут Хирург?.. Ты чо, телок абортировал, что ли?!..” – “Да нет, пацаны, это он трупы в моргах взрезал!..” – “Да ну, ты чо, я– то в морге работал, я знаю… Там не так– то просто взрезать брюхо кому– либо, даже если у него в кишках – героин невысранный…” – “А если у него в требухе брильянты от де Бирн зашиты?!” – “Ну, тогда я б и сам жмура взрезал… Финкой… Как два пальца…”
И поэтому Фарада мог понять Хирурга.
Хирургу нужна была новая ступень.
И он должен был на нее подняться.
А для этого надо было сбросить с трона старого вожака. Старого царя.
И воссесть на престол самому.
Поэтому, когда Хирург рванул на себя ручку двери Бункера, бросив Фараде через плечо: “Пора менять коней на переправе”, – Фарада не удивился. Он ждал от Хирурга этих слов давно. Он только спросил ему, когда дверь в Бункер уже была настежь распахнута: “А Баскаков?”
Из открытой двери хлынул черный поток музыки. Опять приехал Таракан? Нет, это молодняк балуется. Это группа “Черный дождь” разнуздалась. Прикалываются ребята как хотят. Копируют “тараканов”. Расставили на столах тарелки, только там не ветчина и пирожные от спонсоров, а жалкие куски селедки, огрызки ржаного хлеба, ошметки воблы, да между тарелок – бутылки пива. Еще целый ящик пива под столом. Гуляй, рванина! А музыка – захлестнет тебя с головой! Не выплывешь!
Слабаем клевый музон, чуваки, за помин души тех, кто погиб в Хрустальную ночь!
Музыка, музыка, музыка…. Может, все на свете есть просто музыка… А они все – инструменты, на которых играет… кто?..
И Фарада и Хирург увидели за столом – Хайдера.
Хайдер восседал во главе стола, как свадебный генерал. У Хайдера было очень бледное лицо. Хайдер молчал и слушал, как “Черный дождь” изгаляется, вылезает из кожи вон. На скулах Хайдера катались желваки. В глаза Хайдера лучше было не смотреть.
В глазах Ингвара Хайдера, Черного Фюрера, предводителя Neue Rechte, великого Черного Ярла всех скинхедов, собранных под знаменем Великого Кельтского Креста, стояла черная пустота.
“Ведь у него же глаза были светлые, светло– голубые, ледяные”, – с ужасом подумал Фарада, всматриваясь в лицо Хайдера, и отвел взгляд. Музыка гремела. Колонки были врублены на полную мощность. Руководитель скиновской группы “Черный дождь”, Юрка Динозавр, приволок со свалки выброшенные кем– то старые усилители, починил их, и сейчас они гремели не хуже, чем на концерте Таракана. Фарада не подошел к Фюреру. Он так и остался стоять, где стоял – у двери, сметенный волной музыки, убитый черной пустотой, хлестнувшей по нему, как плеть, из глаз Вождя.
К нему вразвалку подошел Алекс Люкс. У Люкса был подбит правый глаз. Кто– то вдобавок ножом полоснул ему по подбородку. Рана уже затягивалась. Грубый шрам будет, подумал Фарада.
– Цел?
– Как видишь.
– И я цел. А много наших полегло. Но много нечисти мы подавили.
– Да, много. – Фараду затошнило.
– В этом смысл нашей жизни, старик.
– Да. В этом смысл жизни.
– А где Бес?
– Бес? Соскучился по нему?
– Я не “голубой”.
– Бес на зоне. Так пацаны говорят.
– На зоне? Поймали?
– Или в санатории. Не приставай с глупыми вопросами. Если цел – появится. Появлялся же он на собрании. Если мочканули – значит, мочканули. Туда и дорога.
– Дорога у нас всех одна, Люкс.
Люкс ожег Осипа светлыми, как солярка, радужками из– под низкого, как у гориллы, бритого лба.
– Это верно. Эй, Хирург! – крикнул он, пытаясь перекричать грохот музыки и вопли: “Нас не догонишь! Нас не убьешь! Вас до костей исхлещет черный до– о– ождь!” – Что новенького? Где кемарил?! Сколько на твоем счету черножопых, а?! Раскалывайся!
Хирург медленно подошел к Люксу. И Люкс втянул голову в плечи.
Фарада видел – Хирург смотрел на Люкса уже взглядом владыки. И Люкс, грозный Люкс, что мог жестоко, ни с того ни с сего, для профилактики, просто так заехать тебе в скулу, просто так сыграть на твоих ребрах кулаками, как на ксилофоне, просто так подставить тебе подножку, чтобы ты упал мордой в грязь, а он бы стоял над тобой и хохотал: “Это дзен! Дзен, дурень!.. Вот так поступают с глупыми учениками мастера дзен!..” – скис, поджался, как пес, ударенный сапогом в брюхо, чуть ли не завизжал: “Пощади!”
– Сколько убил – все мои. Еще вопросы будут?
Люкс стоял и молчал, вжав бритую колючую голову в плечи. Синяк на его щеке расцветал, наливался кровью – его ударили совсем недавно. Хирург молчал тоже. Ждал.
– Вопросов нет? Тогда слушаем музыку.
Он поднял руки над головой и зааплодировал песне, которая только что закончилась. Передышка в мертвом море грохота. Гудели усилители. В наступившей тишине были слышны только сухие одинокие хлопки Хирурга.
Хайдер сидел не шевелясь.
И тут дверь хлопнула, и в Бункер вошел Баскаков.
Чудовищный шрам, идущий у него через всю щеку, нервно дергался.
Он тут же пересчитал по головам всех присутствующих, как скотов.
– Браво, брависсимо, – вбросил он в тишину, как железный шар. – Гениально. Гениально то, то вы все живы. А кое– кто, увы, не жив. Предлагаю почтить их память вставанием.
Музыканты вытянулись в струнку. Сидевшие за столом скинхеды завозились, встали. Наклонили лысые головы. Воцарилось нехорошее, тяжелое молчание. Все молчали далеко не минуту. Бог знает сколько времени прошло, прежде чем страшную тишину нарушило лязганье медного голоса Баскакова.
– Соратники! Солдаты! Благодарю вас. Это первый бой. Но не последний. Все еще впереди. Будущее будет наше!
Все молчали.
– Я только что из Котельнича. Я отвез на базу всех, кто уцелел. Вижу здесь вас. Хорошо, что вы все живы. И не в лапах тех, кто безжалостно губит…
Все молчали.
– Солдаты! – Баскаков поймал взгляд Хайдера. И содрогнулся. Но глаз не опустил. – Простите, если мы, генералы, вас не уберегли. Вы делали святое дело. Вы очищали…
Все молчали.
И Баскаков осекся. Он не мог продолжать речь.
Он понял, что это заведомо лживая речь.
А лжи сейчас, именно сейчас, он не хотел.
Он молчал, и это звучало посильнее всех речей.
И ему молчали в ответ, и это звучало посильнее всех аплодисментов и воплей: “Хайль!”
И Хайдер, Черный Фюрер, медленно, тяжело встал из– за грязного, уставленного мисками с селедкой и бутылками пива, длинного стола.
Встал и медленно, тяжело ступая, подошел к Баскакову.
И вскинул голову. И обернул лицо к своим бритоголовым солдатам.
Свое незрячее лицо.
Ибо глаза его были открыты, но они не видели.
И медленно, тяжело, так, как падают смоляные, дегтярные капли черного дождя, он проронил:
– У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Где ваше логово, солдаты? Где ваш дом?
Солдаты молчали.
И Осип Фарада, сам не понимая, зачем он это делает, крикнул пронзительно:
– Наш дом там, где нас убивали!
Злой оскал прочертил лицо Хирурга.
Люкс отвернулся. Его подбитый глаз смотрел в пустую стену Бункера.
Юрка Динозавр, с гитарой в руках, присел на корточки, его щиколотки запутались в проводах.
И тут из угла, из– за обшарпанного усилителя, раздался еще один голос. Говоривший не показался народу. Голос доносился как из– под земли.
– А все– таки, пацаны, какому Богу мы служим? Как зовут нашего Бога? Как его кликуха? Какой у него никнэйм?
Все молчали.
Чек вышел из укрытия. Его страшная маска смеялась. Его огромный рот перекосило от усилия сказать то, что он должен быть сказать сейчас. Выкрикнуть им в их потерянные, молчащие лица.
– Все кому– то служат, да?! Все – чьи– то рабы! Чьи– то слуги! У всех есть хозяева, да?! Владыки ведут нас с бой, да?! Направляют нас?! Пинают нас сапогом: беги, беги, выполняй приказ?! Да?! А если я не хочу выполнять приказ?! Если я не хочу быть ничьим рабом?! Ничьим солдатом?! Если я не хочу никому служить?! Никому?!
Яростный крик отзвучал в гулкой тишине Бункера. Затих, как музыка, под потолком.
Все молчали.
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ. ВЕСТ
“Где– то там на горе
Возвышается крест;
Под ним десяток солдат –
Повиси– ка на нем…”
Вячеслав Бутусов
Они обе стояли друг против друга. Они гляделись в лица друг друга, как глядятся в зеркало.
Ангелина била взглядом Цэцэг по щекам. Цэцэг хлестала Ангелину по лицу ургой узких черных глаз, как ее предки хлестали по спинам в степях запаленных коней. Но ни той, ни другой не удавалось выудить из непроницаемых красивых лиц друг друга то, что они обе надеялись узнать. Хотя бы намеком.
Первой не выдержала Цэцэг.
– Ты специально приволокла за собой из Москвы этот хвост, Сафонова, чтобы прикрыться им и безнаказанно позабавиться с Ефимом! Ты знала о том, что я здесь с ним!
– Руку на отсечение, не знала.
Они обе стояли, обдуваемые резким весенним ветром, на брусчатке Красной площади. Мимо них бежали веселые туристы, на ходу фотографируя собор Василия Блаженного, Кремлевскую стену с захоронениями великих вождей, красный гроб Мавзолея, ГУМ, памятник маршалу Жукову, голубей в небе. Цэцэг была в коротком, выше колен, сером норковом полушубке. Черные волосы были распущены у нее по плечам, лились нефтяными ручьями. Ангелина распахнула длинный, до пят, французский шелковый плащ, подставляя грудь ветру. Под плащом она была в дерзкой мини– юбке, великолепные ноги были все на виду. Цэцэг скользнула взглядом по ее ногам. Поджала губы. “Интересно, сколько тысяч она отвалила за липосакцию? Не может быть, чтобы ей вечно было двадцать лет!”
– Нет, знала!
– Ну, а если знала, что тебя волнует? Что я поспала с твоим любовником? Могу тебя заверить, он мне не нужен. Но могу и сказать тебе, что он мне понравился. Одобряю твой выбор.
Цэцэг вспыхнула. Голубь слетел ей на плечо и клюнул ее в ярко сверкающую брильянтовую сережку.
– Мне не нужно твое одобрение!
– Может, зайдем куда– нибудь в ресторан? Поговорим в нормальной обстановке? Зачем ты назначила мне эту дурацкую встречу на Красной площади? Мы не пэтэушницы– лимитчицы, надеюсь. И не агенты, опасающиеся слежки. Мы могли бы спокойно…
Цэцэг повернулась и пошла прочь. Быстро, быстро пошла. Не оглядываясь. Ангелина догнала ее, схватила за руку, усмехаясь, пытливо, злорадно заглянула ей в лицо.
– Плачешь, дорогая?.. Слезы облегчают женскую участь. Особенно во время климакса…
Цэцэг дала ей пощечину быстро, мгновенно, как киска лапой. Закрыла лицо руками. Ангелина прижала ладонь к горящей щеке.
– Неужели ты так его ревнуешь, дурочка?.. Мне от него ничего не надо, я тебе толкую. Я больше одной, ну, двух ночей ни с кем никогда в жизни…
– Я всегда знала, что ты нимфоманка!..
– Успокойся, возьми себя в руки. Мы ведем себя с тобой как две хабалки в тюряге. Я на такие сцены у себя в больнице насмотрелась. Слава Богу, сегодня воскресенье, я от этих придурков отдыхаю. Идем, сядем на лавочку. Полюбуемся на каменных зверей. Кстати, ты знаешь?.. На Красной площади все– таки устанавливают скульптурную группу Судейкина “Дети – жертвы пороков взрослых”. Ты была на вернисаже?.. Видела?.. Как тебе судейкинский шедевр?.. Достоин он Красной площади или нет?.. До Второго, ха– ха, пришествия – достоит?..
Они обе уселись на лавку напротив Манежа. Покалеченные во время скинхедовского мятежа скульптуры и фонтаны уже отреставрировали. Цэцэг дрожащими руками вынула из сумочки пачку “Vog”, закурила. Ангелина насмешливо смотрела на нее.
– Геля, прекрати так глядеть. Ты меня гипнотизируешь.
– Кто из нас кого загипнотизировал однажды, трудно сказать.
– Ты не боишься?
– Чего? Что все когда– нибудь откроется? Нет.
– Почему?
– Потому что я надежно защищена.
– Ты! Но не я!
– У тебя есть Ефим. Он тебя защитит.
– Но для этого я должна рассказать ему все!
– Попробуй.
– Ты это серьезно?!
– Почему нет?
– Но ведь это же его отец! Его отец, Гелька, пойми, или ты идиотка!
– Одно оскорбление – десять штук баксов. – Усмешка не сходила с длинных, намазанных перламутровой помадой губ Ангелины. – Какая ситуация, мать, ты не находишь, а? Острятина! Люблю острые блюда! А ты?
– Плевала я на твои остроты! Мне моя жизнь дорога!
– Твоя жизнь? А моя жизнь тебе не дорога?
К ним, сидящим на лавке на солнышке, подбрел маленький человечек. Он слегка прихрамывал. В руке у него моталась старая, видавшая виды черная кожаная сумка. Из сумки глядели пустые бутылки.
– Пивка барыни не желают? – спросил человечек. – А сигарет? Есть и то, и другое.
Цэцэг замахала рукой, будто отгоняя муху.
– Пошел, пошел!.. Гелька, от него разит за версту!.. Дай ему какой– нибудь мелочи, если у тебя есть… У меня – шаром покати… Только банковская карточка…
Ангелина порылась в кармане. Вынула десять долларов.
– Дай бутылку пива, Алешка, – сказала она надменно.
Человечек с готовностью вытащил из– за пазухи бутылку “Клинского”.
– Фу, телом грел!.. Теплое!.. – с отвращением сморщилась Цэцэг. – Откуда ты его знаешь, Гелька?.. Вечно ты все и всех знаешь!.. Даже бродяжек уличных!..
– Его все знают. Это Алешка. – Ангелина вытащила из сумочки изящный перочинный ножичек. – России без юродивых никак нельзя. Ты первая?.. – Она протянула бутылку Цэцэг. Та передернулась: нет, уж лучше ты пей сама свое дерьмо!
Закинув голову, Ангелина пила пиво, пила, пила, будто ее мучила жестокая жажда. Она не остановилась, пока не влила в себя из бутылки последнюю каплю.
– Ты пьешь как мужик.
– Пить очень хотелось.
Пьяненький мужичок стоял возле их лавки и пялился то на зеленую, как лягушка, бумажку, то на них.
– Дамочки, – сказал он хрипло, – дамочки… Я извиняюсь… Вы мне, кажется, не ту денежку дали…
– Проваливай, – жестко кинула Ангелина и пронзила его прищуром кошачьих глаз насквозь. – Кому говорят!
Мужичонка не уходил. Цэцэг встала с лавки и грубо толкнула его кулаком в грудь.
– Пошел вон, отброс! С ним расплатились не по таксе, а он еще и выкаблучивается!..
Пьяный мужичонка робко коснулся заскорузлой рукой полы роскошного плаща Ангелины.
– Извиняюсь, дамочка, – хрип его пропитого, прокуренного голоса напильником резанул ее по ушам, – вы не Ангелина Сытина часом будете?
Он пожирал маленькими, будто стеклянными, подслеповатыми глазками ее грудь в вырезе сильно открытого ярко– красного платья.
– Да, я. Откуда ты знаешь, что я – это я?
– Я все знаю, – не смущаясь, прохрипел мужичонка. – Я пророк. Я знаю будущее. Я знаю…
– Гелька, – хрюкнула в кулак Цэцэг, – это же твой пациент. Прямо к тебе в палату номер шесть.
– И что ты хочешь мне, Ангелине Сытиной, сказать хорошего, пьяница Алексей?
Человечек помялся, переступил с ноги на ногу. Из сумки, где гремели пустые бутылки, отвратительно пахло пивом.
– Хочу попросить, – выхрипнул он. – О помощи просить. Помогите одному человеку. Девушке одной. Вылечите ее. Ведь вы врач. Я знаю.
– Что за девушка?
Ангелина выпрямилась. Теперь она пожирала этого пьянчужку глазами. Он еще и в курсе дела, что она врач! С ума сойти! Слухом земля полнится, что ли? Выпивал где– нибудь в грязной рюмочной с каким– нибудь ее выписанным давным– давно, спившимся больным?.. Да, так, скорей всего... Его лицо отчего– то ей знакомо… Да, возможно, здесь, на площади, в толпе, в метро… Да мало ли таких бродяг…
– Хорошая девушка. Славная. Вылечите ее, доктор.
– Да чем болеет– то?! – уже сердито крикнула Ангелина. Цэцэг вынула у нее из пальцев пустую бутылку, брезгливо бросила в урну рядом с лавкой.
– Слепая она, доктор, слепая совсем. Помогите!
– Я не окулист. Пойдем, Цэцэг! Действительно надоел.
Она поднялась. Плащ мазнул полой мужичка по щеке. Он жадно вдохнул неземной, райский запах богатой женщины.
– Погодите! – жалко крикнул он им в спину. – Ну погодите же! Я ж не просто так… Я… Она стреляла… Она… я у нее… пистолет… она бросила, я подобрал… Я ее – стрелять учил…
– Стрелять? – Ангелина остановилась. – Слепую? Что ты мелешь, старик?!
Мужичок, обрадовавшись, что она остановилась, снова подбежал к ней и схватил ее за подол.
– Да! Стрелять! Когда было Первое Сражение, она стреляла, и я направлял ее руку, я кричал ей, куда стрелять!
– Ты идиот. – Ангелина измерила его взглядом. – Как зовут твою девушку?
– Дарья! Ее зовут Дарья!
Ангелина переглянулась с Цэцэг.
– А твоя Дарья, случайно, от тебя не беременна?
Пьяница растерялся. Забегал глазками туда– сюда.
– От меня?.. Беременна?.. Ох, дамочки… Не знаю…
– А врал, что все знаешь… пророк!.. Хорошо. Приводи ее сюда. Вот на эту скамейку. Завтра. В это же время.
… … …
Они сидели на кухне. Так, как сиживали на кухнях поколения русских людей.
Наступил новый век, и снова отец и сын, старый и молодой, сидят на кухне и разговаривают о жизни. И перед ними на столе – початая бутылка водки, два стакана, разрезанная луковица, кусок хлеба, пачка сигарет да коробок спичек. Старый как мир натюрморт. Бутылку берет в руки старик. Все лицо в морщинах. Резкие черты, битые наотмашь временем. Старый Анатолий Хатов наливает водки в стаканы – себе и сыну. Старый Хатов уже знает все о Хрустальной ночи. Он молчит больше, чем говорит. Похоже, он еще не все высказал сыну.
– Ты оказался глупее, чем я думал, Игорь, – жестко, будто металл бьет о металл, излетает из старого, наполовину беззубого рта. – Ты махнул не туда. Я никогда не останавливал тебя в твоих игрищах. Хочешь – играйся. Только ведь это все уже не игрушки. Насилие – уже не игрушки. Ты занялся насилием, вот в чем дело. Ты построил на насилии свою философию. И здесь ты просчитался.
– Ты считаешь, на насилие надо отвечать подставлением щеки? Давно ли ты, батя, христианином заделался? – Щеку Хайдера скривило, дернуло. Он зло потер скулу. – Не верю я в христианские максимы. Они – для малолеток. Мы– то с тобой, батя, не малолетки. Мы знаем, почем фунт лиха. Тебя лагерем мало кормили? Хочешь нажраться еще? Ты же чудом выжил там. Выжил, потому что, черт побери, убежал.
– Да, убежал. – Хатов выпил, тяжело поставил стакан на стол. Взял половинку луковицы, не закусил – занюхал. – Но, сдается мне, сынок, что вы– то хотите опять опутать землю колючкой. Нет?
Хайдер опрокинул в глотку стакан. Вбросил в зубы лук.
– Добро, батя, должно быть с кулаками, знаешь такие стишки?
– Не знаю. И знать не хочу. – Хатов вытянул из пачки сигарету. Чиркнул спичкой. Кинул спичку за спину, в мойку. – Вы погубите себя и тех, кто вокруг вас. Это я знаю точно.
– Брешешь, батя. – Хайдер сузил светлые глаза. – Мы еще возьмем свое. Я кое– что понял. Я ошибался. Я погорел на дешевом романтизме. На опьянении символикой. Я думал… А, да Бог с ним, что я думал. Вот ты скажи, твоя жизнь, ее первая половина, в лагере прошла, ты же не зачеркиваешь эти годы? Ведь ты там жил, в лагере? Жил и любил? Страдал? Думал? Плакал? Смеялся? Или нет?! Что молчишь?
Старый Хатов опустил голову. Потом вскинул на сына такие же, пронзительно– светлые, чуть раскосые, острые глаза.
– Да.Жил. И любил. – Слова стучали о грудь Хайдера, как о железную броню. – Дай Бог вам так жить. И так любить. Я– то тебя, милый сын, вроде как тоже спас. Оттуда вынес. Как из огня. Ты у меня под выстрелами крещен.
– Как… под выстрелами?.. Ты мне никогда не рассказывал…
– Водка еще есть? – Хатов оглянулся. На окне стояла неоткупоренная бутылка “Московской”. – Есть. Отлично. Есть возможность рассказать тебе, сынок, кое– что.
– Валяй. Наливай.
Двое мужиков, отец и сын, сидят на кухне и пьют горькую. Колбаса кончилась, лук кончился, нечем закусывать. Нечем? Остался хлеб. Если есть хлеб на столе – есть все. Есть жизнь. Если еще смотрит сын в глаза отца – еще не все пропало.
– Ну, слушай… Ты вырос без матери, так. Я тебя воспитал, так?..
– Так.
– А ведь у тебя была мать. Как у всех людей. Там, в лагере, в Сибири, в Восточной Сибири, при впадении Ангары– матушки в Енисей, где я мотал свой срок, а он был у меня немаленький, полюбил я бабу. И она полюбила меня. Любовь в лагере – это, милый ты мой, особ статья. Вы– то сейчас все вон любитесь, когда захотите и с кем захотите. А там было все иначе. Ты – подневольный. За тобой конвойный смотрит. И, если ты на бабенку какую поглядел, за колючку другого, женского лагеря, – все, кранты тебе. Я, представь себе, поглядел. Уж больно хороша была девка. Такими в церкви – ангелов малюют. Я понял: не по себе дерево рубишь, парень, она ж из дворянской семьи! За версту видно!.. Этакая пава, талия в рюмочку, носик– ротик – как у куклы, а глаза огромные, как два озера… светлые– светлые, просто как озера в солнечный день… И ресничищи – вот такие… как щетки… Люблю красоту, сын… Любил всегда… Мужик к красоте тянется… И я – потянулся… Как голодный к еде… Бегали мы с ней друг к дружке через колючку, я ухитрился подкоп прорыть… А бригадир у нас добрый был, прознал про это наше молодое дело, но губить меня, закладывать не стал – наоборот, перед начальником лагеря похлопотал, и нас окрутили… Поженили, да!.. Лагерный брак – это, сын дорогой, не то что брак на свободушке… Рабы имеют право не на семейную жизнь, не на совместный сон, не на хозяйство совместное, не на жизнь – нет… на случку! В разных бараках коротали время мы, вкалывали до умалишения… от работы все дохли вокруг меня, мерли пачками, а я все жил и жил… а нас друг к дружке – под конвоем – водили!.. И в особом бараке, а мы в телогрейках под номерами, разденемся, телогрейки на замерзлый пол скинем, там прямо – и обнимемся… и все наспех… со слезами… вприкуску с рыданьями… и счастье, и горе, и смех, и стыд – все тут… а конвойный за дверью уже кричит, матерится, со смешками обидными: все, мол, давай кончай быстрее, что кончить никак не можешь, ссучился вконец, что ли!.. Эх– х– х…
Булькает наливаемая в стакан водка. Лампа под потолком замигала и погасла.
– Батя, я сейчас зажгу свечу… Погоди…
– Зажги, сын, хоть лица друг друга видеть будем… Да я тебя и с закрытыми глазами… и в темноте… Так вот, слушай… Любили мы, любили, значит, в законном браке друг друга – и долюбились до того, что задумали бежать. А баба моя, мать твоя, на сносях. Пузо на нос лезет. Я ей говорю: ну куда нам бежать? Тебе ж родить скоро. А она затвердила мне одно: бежим да бежим, я не хочу, чтоб моего ребенка у меня отняли, чтобы его отодрали от меня, как горчичник от спины, кинули в другой лагерь – да навек зэком сделали… я хочу его на свободе родить!.. До любого, говорит, населенного пункта доберемся, там я и рожу, и ты мне поможешь, и там у нас ребенка не посмеют отнять и нас разъединить тоже не посмеют, потому что мы – муж и жена… и работали примерно, взысканий нет, прогулов нет… Не отнимут, кричит!.. и в слезы… Ну, я и поддался на бабьи слезы. Никогда на женские слезы не поддавайся, мужик!.. бабы – они всегда плачут… но больше всего берегись баб, которые – не плачут… эти – страшнее всего… Выпьем?.. за мать твою выпьем… красавица была… царствие ей небесное…
– Выпьем…
Гирька ходиков дотягивается до половицы. На часы смотреть бесполезно. Когда такой разговор выдается – а выдается он один раз в жизни – за временем лучше не следить, потому что его все равно нет.
– Уф, горечь… Горькую – я уже потом, после лагеря пить научился… И что ты думаешь?.. Уломала твоя мать меня… Решился я… Собрали мы два узелка, тряпочки для ребенка туда покидали… Никто не знал о побеге… Опасно это все было – не скажу, как… Знаешь о таком приказе – стрелять в того, кто побег совершает?! Слышал о расстреле при попытке к бегству?!
– Да уж слышал, наверное… Знаю…
– Ну и вот. А зима на дворе. Утеплил я ее… радость мою…
– Ты не плачь, не плачь только, батя!..
– Да я и не плачу… А только как вспомню… Лагерь– то наш был большой, на полтайги около Енисейска размахнулся, а охранники все с собаками, а вышки понастроили высокие, чтоб – издалека видать, да не промахнуться… День уж назначили сами себе… Подкопы свои под проволокой я везде проверил… Не закопали, нет, не обнаружили… И бряк! – ну так и есть, в самый тот день – ей – приспичило рожать… Знаешь такую пословицу: срать да родить нельзя погодить?.. То– то и оно… Свалилась красавица моя в бараке в своем на пол, как сноп, корчится… Я в барак женский – она на полу, даже не нары ее товарки, уродки, не взгромоздили, испугались, все враз в голос воют… Я сам, сам у нее роды принимал! Сам! Ох, сынок, я чуть концы не отдал тогда! Мне казалось: я ей там что– нибудь нежное, бесценное поврежу, разрежу… раздавлю… Головка ребенка показалась у нее между ног… это был ты… Налей… налей мне еще… сам не хочешь – не пей…
– Налью… и сам выпью…
– Ну вот она и заорала благим матом… И ты вылез… И я тебя на руки принял, тебя, дурака… И пуповину самодельным лагерным ножом, скобой, перерезал… И – с тобой на руках – в старую шубу тебя тут же закутали – к двери барака… Она мне кричит, мать твоя: беги! Беги с ним! Брось меня тут! Его – спаси! Я найду потом вас обоих! Найду! И сама лежит, корчится… слезы по щекам текут… А бабы все вопят, орут мне в уши: беги, коли задумал, она тут еще будет выгибаться, послед еще должен выйти, да еще три дня не встанет… беги, тут Маклаково рядом, добежишь через тайгу часа за четыре, сразу в избу к кому– нибудь, молока сразу проси… отпаивай коровьим молоком, не бойся, коровьи молоком тысячи сирот выкормили… давай, мужик!.. Ну я и вылетел из барака… А когда вылетал, оглянулся… И…
Старый Хатов замолчал. У него перехватило горло. Он не мог говорить. Стиснул пустую бутылку в костистых, изработанных пальцах.
– И что?.. Что ты, батя, замолчал…
Старый Хатов обернулся к сыну. Его темное лицо, сухие русла его бесчисленных морщин – все было залито слезами.
– И я увидел… Под ней – на расстеленной под ней чужой юбке – копошится… еще один…
ПРОВАЛ
Она помнит этот его крик.
Это крик до сих пор стоит у нее в ушах.
Он крикнул: “Его спасу! А этого – спасай ты!”
Дверь барака хлопнула. Он, с ребенком на руках, исчез за дверью. Она поняла: если его увидят с вышки, его расстреляют вместе с ребенком.
Она закрыла глаза, и тут отчаянная боль выкрутила ее изнутри, как простыню, которую отжимают после стирки на пруду, полоща в полынье. Она закричала страшно, длинно. Еще! Вот оно!
Она потужилась, и, как скользкая рыбка, из нее вышел еще один ребенок. Она задрожала, задрожали ее пальцы, ее ноги, ее губы. Она хотела крикнуть: Толя!.. погоди, у нас с тобой еще один!.. – но мужа уже тут не было. Почему боль нарастала, опять крутила и истязала ее?! Почему ее живот опять вздулся, встал белым горбом, как огромный сугроб, и весь напрягся?!
“Бабы, да у нее тройня! Третьего тужит!” – закричал над ней чей– то пронзительный, как свисток паровоза, голос. Она приподнялась на пятках, уперлась затылком в холодные доски. И тот, кто жил в ее утробе третьим, выпрыгнул на Божий свет – зачем? Для страдания? Для радости? Для того, чтобы вскоре умереть?
Фрося, ее напарница, стоявшая рядом с ней и помогавшая ей тужиться, когда Анатолий исчез за дверью с первенцем на руках, закутавшая в охвостья тряпок второго, приняла и третьего, и пуповину отсекла маленькой скобкой, и перевязала ветошью, и тоже, замотав в тряпье, протянула ей, ослепшей от боли: вот, любуйся, сколько наплодила! Она, веря и не веря, медленно переводила взгляд на одного, на другого на руках Фроси. Оба новорожденных орали как резаные поросята. Улыбка взошла на бледные, искусанные губы матери. “Дай!” – протянула она слабые руки к Фросе. Та склонилась над ней и бережно положила ей в руки рожденных ею детей. Она попыталась сесть, получилось. Пригрудила обоих к себе. Засмеялась, будто заплакала. Заглядывала в скривленные, сморщенные красные личики. Фрося со знанием дела сказала: “Один, точно тебе говорю, не жилец”.
И верно. Часа через два последыш стал хрипеть, задыхаться. Она все старалась дать ему грудь, он не брал сосок, отворачивался. Потом захрипел, посинел, закатил глазки.
Фрося сама вынула его у нее из рук. Пошла по морозцу, по скрипучему под валенками снегу, и выбросила его за ограду лагеря.
А того, кто остался жить, кто жадно уцепил сосок и сосал, сосал, борясь за жизнь, за свою судьбу, она крепко, очень крепко прижала к себе. Прошептала: “Как же я назову вас?.. Пусть ты, мой родненький, будешь носить имя деда своего… Толиного отца… так будет верно… А тот, кого Толя унес, он и сам назовет… Фрося! Фрося! Где последний?..”
Фрося молчала.
Ни она, ни молодая мать не знали, что выброшенного за ограду лагеря бездыханного младенчика подобрал монах, живший поблизости от лагеря в землянке, на берегу Ангары. Монах устроил себе на берегу реки нечто вроде земляного скита, промышлял охотой, рыбной ловлей, собирал по лету в тайге ягоды да грибы. Он наткнулся на закутанного в тряпки мальчика и сначала хотел его окрестить и похоронить по– христиански. Потом стал дышать ему в лицо, растер ему ручки и ножки, принес его к себе в землянку и раздышал, оживил. Укутал в медвежью шубу. Монах сам убил на охоте медведя. Шуба была теплая, жаркая даже. За молоком для слабого, тщедушного мальчонки, больше похожего на паршивого щенка, монах ходил в деревеньку Острова, что близ Маклаково.
– Что ты так плачешь, отец?.. Ну так– то уж не надо… Себя пожалей… Сердце свое пожалей…
Старый Хатов падал лбом на стол в корчах слез. Грубо отирал лицо ладонями, запястьями. Резко, будто опрокидывал в глотку новый стакан, выдыхал воздух.
– Ты меня не пожалел, когда начал заниматься этими своими… со свастиками!.. Мы жизни клали… с немцами сражались… Мы – этот знак – лютой ненавистью ненавидели… И мы никогда не думали, что наши дети в него так влюбятся…
– Вот влюбились же… Но ты не убивайся так… Всему свое время… И ведь это очень древний знак, отец… Немцы его просто взяли да пришпилили к каскам, к рукавам…
– А вы – не пришпилили?!..
Хатов двинул локтем и уронил коробок спичек на пол. Спички высыпались, лежали белой лапшой у его ног. Он махнул рукой, пьяно закричал:
– Эт– то было весною, зеленеющим маем!.. когда тундра наденет свой зеленый наряд…
Хайдер обнимал его за плечи. За старые, теплые, родные, трясущиеся в плаче плечи. Он впервые в жизни узнал, как, когда и от кого он появился на свет. А то отец все пудрил ему мозги, что у него была мама– дворянка, она рожала его и умерла в родах. Ведь он, его отец, воспитал, вырастил его один. Он никогда больше не женился. А та его, лагерная жена так и не смогла найти его. Может, умерла в лагере, как многие другие. И тогда, выходит, отец ему не соврал. А может, вышла замуж за другого и устроила свою жизнь. Брат! У него есть брат. Что ты мелешь сам себе, может, и брата– то тоже давно уже нет. Лагерь есть лагерь. Там не всякий выживает.
– Отец, – сказал он, и голос его внезапно охрип, – отец, а как же ты все– таки добрался до поселенцев? До местных? Как же тебя не застрелили?..
– Застрелили, – просто сказал Хатов. – Меня застрелили. Но видишь, парень, я воскрес, как Христос.
И он повернулся к нему спиной. И резко, пьяным разнузданным жестом задрал рубаху, приподнял до подбородка. И Хайдер увидел дикие, чудовищные шрамы во всю спину.
– Это из меня пули вынимали. – Хатов опустил рубаху. Сидел к сыну спиной. – Солдатик глазастый, мать его ети, с вышки все таки увидел меня. И стрелял. И метко, как ты понял. Изрешетил меня к едрене матери. А я все на снег падал, все тебя прикрывал. Чтоб тебя пули не задели. Удалось. Как видишь, те пули тебя не задели.
– А… шрамы?..
– Оперировали. В Маклаково.
– И в лагерь обратно не вернули?..
– Почему. Вернули. – Отец по– прежнему не оборачивался к нему. – И вместе с тобой. Я поставил условие. А то, сказал им, сделаю себе саморуб. И ребенка зарублю в лагере, и себя. Вашими же лесоповальными пилами и топорами. Видишь, проняло… Как я… за тебя… боролся!.. – Спина свелась резкой судорогой. – И – не победил…
Хайдер сам не понял, как у него это получилось.
Он сполз с кухонного табурета на колени и приник горячими сухими губами к исполосованной шрамами, сутулой спине отца.
… … …
– Ты гадина. Гадина! Гадина!
Архип стоял перед главным врачом спецбольницы Ангелиной Сытиной в холщовой пижаме, босиком, со сжатыми кулаками, с бешено горящими глазами. От его взгляда могли поджечься занавески.
– Ты гадина! Это по твоему приказанию убрали ее! По твоему!
Ангелина, в белой врачебной шапочке, в белом халате, из– под которого вызывающе торчали стройные ноги и круглые коленки, в неизменных своих туфельках на высоких каблуках, стояла перед больным Архипом Косовым, тысяча девятьсот восьмидесятого года рождения, если история болезни не врет, и нагло, прямо смотрела ему в глаза. Он еще не нюхал ее гипноза. Если он, этот свиненок, будет закатывать ей здесь истерики, он понюхает его.
– Замолчи. Она умерла своей смертью. Слышишь, своей! Никто никому ничего не приказывал! Вы все слишком много думаете о себе! Только вы можете приказывать и исполнять приказы! А другие не могут! Но я не палач! Я не отдавала приказа о ее казни, пойми ты… дурак!
Она недооценила его. Она не поняла, как, когда он оказался – одним прыжком – возле ее стола. И схватил ее за глотку, как охотник хватает рысь в лесу. Она захрипела. Он держал ее крепко. Вот сейчас она поняла, что больной Архип Косов, скинхед, агрессивный и невменяемый, очень сильный. Гораздо сильнее ее. “Так. Он еще не знает, с кем связался. Он думает – он уже победил. И сейчас вытрясет из меня хотя бы просьбу простить. Я покажу ему класс. Ну, давай, мальчик, давай, сожми мне горло... еще... вот так...”
Теперь он не понял, как он выпустил ее из рук. Сильнейшая боль под ложечкой пронзила его насквозь, как копье. Она ударила его в печень? В селезенку? Она нажала болевую точку у него на плече? Он не мог бы сказать. Он только стонал от боли, крючился. Потом почувствовал удар ногой в живот – и повалился на пол. На пол ее кабинета.
– Ну что, щенок, – негромко сказала Ангелина, – а теперь, если ты такой храбрый, встань, сядь в кресло и посмотри мне в глаза.
Шатаясь, Архип поднялся. Рухнул в кресло. Поднял голову. Веки его дрожали. Он не мог сразу сфокусировать взгляд. Наконец его глаза нашли ее глаза.
И он замер. Рот его чуть приоткрылся.
Ангелина тихо, медленно, размеренно, не отрывая пристального взгляда от его широко распахнутых глаз, говорила:
– Смотреть мне в глаза, смотреть, смотреть мне в глаза. Слушать только меня. Тепло. Тепло обволакивает. Тепло проникает во все участки тела. Жарко. Огонь. Превращение в огонь. Огонь разливается везде, охватывает все пространство вокруг. Зрения нет. Слуха нет. Чувст нет. Мыслей нет. Есть только огонь. Когда огонь охватит все без остатка, ты будешь делать то, что я прикажу.
ПРОВАЛ
Я ползаю по земле у ее ног. У ног царицы. Я – змей. Питон. Меня поймали в лесу и приволокли сюда, во дворец, к ней. Она наступает на меня ногой. Она унижает меня. И я не могу ее задушить в кольцах своего длинного тела. Потому что она раздвигает ноги и показывает мне красную, алую влекущую внутренность свою. И мне хочется коснуться ее красной плоти языком. И я делаю это. И она смеется, потому что ей щекотно. А потом изо всей силы ударяет меня пяткой по голове. Мне очень больно, и я откатываюсь по полу в угол тронного зала. И из змеиных моих глаз текут слезы на мраморный пол.
Нет, я смертник. Меня приговорили к смерти под ударами плети. Сколько плетей мне дадут? Я дрожу, палачи подходят ко мне с плетьми в руках, и подбегает она, и вырывает у палача из руки плеть, и стегает, стегает, наотмашь бьет меня. И я ору, извиваюсь в корчах, катаюсь по полу, умоляю: пощади! Пощади! И я слышу над собой ее смех. Ее звонкий беспощадный смех. И я понимаю: она забьет меня до смерти. И я кричу ей как сумасшедший: ты так же забила Лию! Так же! Это ты! Ты! Ты!
Нет, я – свинья. Внезапно я весь покрываюсь, как коростой, толстой жирной кожей, на коже торчит щетина, вместо моего лица у меня – рыло с пятачком, и я хрюкаю, хрюкаю, хрюкаю. И валюсь набок у ее ног: возьми прутик, почеши мой грязный бок! А она берет палку, размахивается и ударяет меня палкой по выпачканным в грязи, жирным, заросшим грубой щетиной бокам. И я визжу. Я визжу на весь свет. Я визжу так, что у меня самого закладывает уши. И снова я слышу ее смех. И ее холодный четкий голос: “Ты свинья. Ты останешься свиньей. Ты будешь свиньей все то время, пока ты не поймешь, что меня нельзя обижать. Ты перестанешь быть свиньей только тогда, когда я выведу тебя из твоей грязи. На счет “пять”. Слышишь, на счет “пять”. Когда я буду считать до пяти, ты…”
И я долго был свиньей.
Я был свиньей целую жизнь.
Я был свиньей целую вечность. Пока я не услышал где– то далеко, в вышине, над собой четкий ледяной голос, говоривший: “Раз. Ты поднимаешься из грязи. Два. Ты чувствуешь тепло. Три. Ты ощущаешь свои руки, свои ноги, свое тело. Ты человек. Четыре…”
На счет “пять” я открыл глаза и заплакал.
Архип сидел на четвереньках на полу своей палаты. Стояла глубокая ночь. Ленька Суслик не спал. Он с сожалением глядел на Архипа, лежа на боку на своей скрипучей, звенящей всеми пружинами койке. Суслик понял, что Архип пришел в себя, и тонким голосом промямлил:
– Архи– и– ипка… Ну ты даео– о– ошь…
– Что я даю?..
Речь не повиновалась ему. Ему хотелось хрюкать, чесать грязный бок о выступ железной коечной ноги.
– А то… Приволокли тебя санитары… Степка кинул на пол тебя, как мешок… А ты – то на животе ползешь, то на четвереньки встаешь, и храпишь, мужик, ну чистый порося!.. И повизгиваешь, натурально!.. Все тут у нас обмочились от хохота... А потом всем тебя –жа– а– алко стало… Мы поняли, что ты, парниша, умом– то вправду тронулся… Или тебя – тронули… Солдат курить в туалет ушел, с горя… И целый час из очка не вылазил… чтоб тебя, значит, не видеть такого…
– И… долго я так был?..
– Да ну как тебе сказать… – Суслик смущенно завозился на койке, натянул простыню под подбородок. – Прилично… Не жрал ничо, конечно, не пил… Только по полу катался и хрюкал… А потом пришла эта… наша государыня… И штой– то такое над тобой стала то ли читать… то ли считать… Раз– два– три– четыре– пять, вышел зайчик погулять…
В коридоре, уже далеко, затихал стук каблуков: цок– цок, цок– цок.
… … …
– Алло… Алло!..
– Это я.
– Ты?..
– Ты…
– Ты хочешь меня?..
– Неистово.
– Скажи мне…
– Я хочу тебя.
– Не так!
– Ты хочешь, чтобы я сказала тебе: я люблю тебя?
– Я не хочу, чтобы ты думала, что я этого хочу. Скажи сама.
– Ты дурак.
– Почему?!
– Потому что хочешь, чтобы все было сказано словами. Ты хочешь меня?
– Да!
– Ты любишь меня?..
В трубке повисла, как гроздь иерусалимского винограда, тишина. Каждый из них хотел, что бы тот, другой, первым произнес три слова, складывающиеся в земное заклятье. Каждый ждал: вот сейчас он скажет. Вот сейчас она выдохнет.
– Да. – Он поступил как мужчина. Он сказал первым. – Я люблю тебя, Ангелина. У меня это впервые.
– Не ври!
– Я не вру.
– Если не врешь – прекрасно.
– А ты?!
Тишина заклеивает липким пластырем рты. Тишина лезет в уши назойливо, неотвязно.
– Я? У меня было сто мужиков, Хайдер. А может, тысяча. Я не считала. Можешь гордиться. Я этого никому не говорила. – Тишина, пауза, задыханье. – Я люблю тебя.
… … …
Когда этот грязный пьяница подвел Дарью к скамейке, Ангелина поразилась ее оригинальной, отнюдь не трущобной, не простецкой красоте. В девушке светилась, как огонь в старинной лампе, странная тайна – то ли Восток печально мерцал в узких глазах, глядящих прямо перед собой остановившимся, навек холодным взглядом, то ли она все– таки немного видела, чувствовала свет – и все ее лицо тянулось к этой крохе света, туда, ввысь, за ней, – и эта длинная лебединая шея, эти ножки, привстающие на цыпочки, будто стоящие на пуантах… Девочка не проста, решила Ангелина. В девочке – как пламя в светильнике – тайна. Какая? Неужели она, психолог и гипнотизер с огромным стажем, ее не разгадает?
На миг она подумала: неслучайно привел эту слепышку сюда Нострадамий. Пьяница – абсолютный юродивый, он не понимает, что от слепоты не вылечивают. Слепые глаза можно оперировать, и то не всегда операция бывает с удачным исходом. Она не хирург– офтальмолог. Но дело не в этом. Она чувствует – вовсе не в этом.
– Так, так. – Ангелина постаралась придать своему голосу как можно более доверительные, ласковые интонации, чтобы девочка сразу расположилась к ней. – Вас зовут…
– Дарья. – Она ответила сразу, необычно низким голосом, будто бы актерски поставленным. Нежно, тонко улыбнулась. И сразу слепое лицо преобразилось. Нострадамий топтался рядом. Вскидывал головенку, как петух, глядел в небо. С неба лились солнечные лучи. Весна брала свои права властно, с ходу, врываясь в Москву дико и оголтело. Начались процессы над главарями скинхедов, которых удалось отловить в Хрустальную ночь. Искали предводителей помощнее. Не нападали на след. Конспирация в организации была разработана будь здоров. Газеты пестрели заголовками и шапками: “СЕНСАЦИЯ: НАЙДЕН ТОТ, КТО ДИРИЖИРУЕТ СИМФОНИЕЙ СКИНОВ”, “ЗАДЕРЖАН ПРЕДВОДИТЕЛЬ ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКОВ”, “В МАЛЕНЬКОМ ЮЖНОМ ГОРОДКЕ ЗАДЕРЖАН НОВЫЙ ФЮРЕР…” Все это были обыкновенные газетные “утки”. До Хайдера им было палкой не добросить. Хайдер беспрепятственно разгуливал по Москве, не собирался делать ноги ни в какой южный и ни в какой северный заштатный городишко, чтобы спасти свою драгоценную шкуру. Хайдер чувствовал себя надежно защищенным.
Ангелина сощурилась на солнце. Поглядела сверху вниз, с высоты своего роста, на двух странных людей, с которыми свела ее озорница жизнь: на городского сумасшедшего и на слепую с голосом Медеи.
– Так, дорогие мои. Что же мне с вами делать? Вот что. Едем ко мне. Дарья, я беру вас к себе домой. Моя машина за углом. Я вас сама поведу. – Ангелина крепко взяла ее за локоть и почувствовала, как девушка вся вздрогнула. – А ты, – обернулась она к юродивому, – проваливай! На тебе, выпей…
И она с изумлением глядела, как юродивый кидает на мокрый от подталого снега асфальт протянутые ею деньги. Ее доллары!
– Нет. Я поеду с вами, дамочка. С ней, – пьяница кивнул на Дарью. – Я ее одну не оставлю. Она ж беззащитная. Она все с тем парнем бритым ходила, с уродцем. А потом уродец исчез… сгинул. Может, его тоже отловили, как всех бритых тогда, после Ночи Убийств?!.. и она одна осталась, бродит… Без палочки ходит, как– то все наощупь чувствует… Все ощущает собой, телом… И я – ее – не оставлю… Не оставлю. Я с вами еду!
– Вот нахал! – Ангелина, держа Дарью за локоть, поглядела на Нострадамия чуть внимательней. – Будь по– твоему. Садись в машину. Только не воняй. Если от тебя будет вонять – вышвырну тебя прямо с балкона. Деньги подбери! Купишь своей Дарье колготки! Или нового уродца! На одну ночь! Ха– ха!
Все втроем они пробежали к ее “форду”, стоявшему у Манежа, за углом. Ангелина пробормотала себе под нос: забавные типажи, и он и она, он – психотип мирного параноика, она… Судя по всему, Дарья – артистическая натура, сильно покалеченная людьми и жизнью. Ей основательно, хорошими острыми ножами, изрезали душу. У нее душа вся в шрамах, это чувствуется. Однако какая скрытая энергетическая потенция! Просто сгусток энергетики. Если ее высвободить, направить в нужное русло…
“Любопытный человеческий материал, любопытный”, – шептали красивые, розово– перламутровые губы, пока цепкие красивые гладкие руки вели машину, крутили руль, пока надменные кошачьи глаза цепко хватали дорогу, ловили огни светофоров. Дарья сидела тихо, как мышь, рядом с ней. Пьяница возился сзади, вздыхал.
– Сядь вот сюда, в кресло. Да– да, вот так. Откуда ты родом? Ты калмычка? Татарка?
– Я бурятка.
– О, почти монголка. Из знатного рода?
– Мой отец был ламой.
– Как романтично! А мать?
– Моя мать была самой богатой женщиной Улан– Удэ. Никто об этом не знал. Она застрелила моего отца. И режиссера Антона Михайлова, у которого я училась. И еще многих людей.
– О!
Ангелина переступила с каблука на носок. Полезла в бар, вынула бутылку кофейного ирландского ликера. Девочки любят сладкое. Она внимательней всмотрелась в ее лицо. Ну да, да! Как она раньше не догадалась! Ведь это же то самое лицо… ее, девчонки, сыгравшей китайскую принцессу Ли Вэй в нашумевшем михайловском фильме “Унгерн”! Она… как ее?.. ах, да: Дарима Улзытуева! Михайлов всюду появлялся с ней… кажется, она сама видела их обоих на какой– то сногсшибательной тусовке… все шушукались: глядите, вот пошел великий Михайлов со своей новой пассией, косорожей монголкой… старый до молодого охоч!.. не обижайте девочку, она и вправду талантлива…
Так, так. Дарима Улзытуева. Дарима, ставшая Дарьей. Ослепшая Дарима. Что ж, вот и один ларец приоткрылся. Что– то в другом? Не зря, нет, не зря она сюда, к себе домой, приволокла и девчонку, и ее бомжа.
– Когда похоронили Михайлова, его отец выгнал меня с его дачи, где мы жили. – Голос Дарьи был тих и ровен, будто бы она рассказывала сказку на ночь. – Я оказалась в подпольном борделе. Не хочу вспоминать. Зачем я вам это рассказываю? Можно, я пощупаю ваше лицо?
– Можно. – Ангелина подошла к ней, всунула рюмку с ликером в ее тонкие смуглые пальцы. – Осторожней, Дарья, здесь ликер. Его надо сразу выпить. – Она присела перед креслом, где сидела Дарья, на корточки. – Щупай. Пальцы – это сейчас твои глаза.
Ангелина закрыла глаза, когда чужие пальцы тонко, нежно, очень осторожно, медленно, потом все быстрее и быстрее стали ходить по ее щекам, векам, бровям; ощупали губы; тайной лаской чуть коснулись висков; снова упали вниз, к губам, и, когда вновь легли на приоткрывшийся рот, Ангелина не удержалась, повернула голову, захватила губами палец Дарьи. И прикусила зубами – не больно, чуть– чуть. Дарья вздрогнула. Отняла руку.
– Не бойся, я не сделаю тебе плохого. – Ее странно волновала эта слепая девочка. Она сказала, что работала в доме терпимости. Или это ее фантазии? У слепых часто бывает много фантазий. Она мнят себя теми, кем хотят себя видеть в своих снах. – Ну как я тебе? Посмотрела мое лицо?
– Да. Посмотрела. – Дарья побледнела. Глаза ее оставались неподвижными. – У вас очень красивое лицо. Но вы страшная.
– Да? Чем же это я так тебя напугала?
“Я знаю, чем. Тем же, чем и всех: волей и властью”.
– Вы способны съесть человека.
“Вот это девка загнула!” Ангелина расхохоталась.
– Я не каннибал!
– Вы хуже. Вы утонченная хищница. Вы выедаете людей изнутри. Моя мать была хищницей грубой. Она просто выслеживала неугодных ей людей и стреляла в них. Она очень хорошо стреляла. Она была снайпер. А вы выгрызаете человека изнутри… съедаете его душу. Не знаю, может, я неправа, простите. Это все увидели мои пальцы на вашем лице.
– Что– то непохоже, чтобы ты просила прощения! – Ангелина внезапно задохнулась от наглости слепой шлюшки, которую она подобрала на улице. – Зачем тебя мне на шею навязал твой алкоголик– дружок?
– Он не мой дружок. Он мой друг. Он замечательный человек. Он говорит людям, что с ними будет.
Ангелина залпом выпила свой ликер. Дарья по– прежнему держала в руках рюмку. Она сидела в кресле застыв, как изваяние.
– И ты веришь этой брехне?!
– Я верю. Я вообще всему верю.
– И мне веришь?
– Вам? Тоже верю. Вы не можете скрыть себя от самой себя. И от меня не можете скрыть, как ни стараетесь.
Раскосое лицо девушки было невозмутимо. Ангелина начала свирепеть. “Кажется, это она надо мной ставит психологический эксперимент, а не я над ней. Кто кого тут прощупывает?! Кто кого гипнотизирует? Кто кого изучает?! Еще немного – и эта девочка начнет проверять меня классическими психологическими тестами!”
– Ты вообще всем веришь? Да? И тем, кто тебя обманет и предаст, да? И тем, кто тебе посулит одно, а преподнесет совсем другое? Кто скажет: там сладкий пряник, девочка, иди! – ты шагнешь, а тебе на шею накинут петлю? А в Бога ты веруешь?
– Верую.
– Иного ответа я и не ожидала! И в какого же? В Будду? В Христа? В Магомета? В Сварога?! Сейчас модно, между прочим, быть язычником! Или ты веруешь в своего собственного Бога? Это тоже модно! Сейчас есть модная фразочка: у каждого свой Бог! У тебя – свой?..
– Не говорите так громко. – Дарья поморщилась. – У меня уши болят. Раньше верила в Будду. Потом меня окрестили в Христа.
– Здесь, в Москве, крестилась? Кто тебя крестил?
Она сама не знала, почему она задала слепой этот вопрос.
– Отец Амвросий из Новодевичьего монастыря.
Черный вихрь. Вихрь мыслей. Эта девка! Откуда она знает?! Она подослана. Нет, все слишком правдоподобно! Сжаться. Улыбнуться. Ни в коем случае не выдать себя. Не вздрогнуть; не поинтересоваться отцом Амвросием. Как и не прозвучало это имя. Но оно все– таки прозвучало. А что, если самой задать ей вопрос?! О чем? О ком? Об Александрине. Спросить как бы между прочим: “А ты такую Александру Воннегут знаешь?” Откуда она может ее знать? Александра же не шастала по подпольным борделям Москвы. Она занималась иной проституцией и на другом уровне. Отец Амвросий! В миру Николай Глазов! Крестил эту слепую девку. Только ли крестил? Он же за милую душу жил с ней. Спал с ней. Ей ли не знать Амвросия. Амвросий отнюдь не сахарная голова. Он из монастыря сбежал – значит, уже расстрига. Под следствием был. Влетел за мальчиков. В метро сразу двух молокососов отловил – и – к себе домой. Не успел изнасиловать. Не успел и продать задорого куда надо. Один из мальчишек порезал его кухонным ножом, и сбежать удалось обоим. Как он выпростался из– под суда? Уметь надо. Дружить надо с теми, кто дает хороший выкуп судьям. С Ангелиной Сытиной надо дружить. Тогда она отвалила за Амвросия – сколько тысяч долларов? Она не считала. Это девке знать не надо. Это ее личное дело. С Амвросием она тоже спала. Одну ночь. Как со всеми. Как со всеми, кроме Хайдера. С ним она уже провела три ночи. Девка, ты подсадная утка или нет?!
– Значит, ты крещеная. – Ангелина мило улыбнулась, будто бы Дарья могла видеть ее улыбку. Не глядя, нащупала рукой бутылку с ликером, налила себе. – Что ж не пьешь? Пей.
Она смотрела, как слепая, грациозным жестом закинув голову и держа рюмку в тонкой изящной смуглой руке, пила сладкий густой напиток. Ноздри Ангелины раздувались. Эта девка хорошо пахнет. Ландышами. Не то что ее бомж. Ее бомж пахнет помойкой. Кстати, где он? Ушел на кухню. Обязательно стащит что– нибудь! Нет, он не вор. Называющий себя пророком не может быть вором. Они, сумасшедшие, свято блюдут кодекс чести.
Она кинула взгляд на слепую – и снова поразилась изяществу ее рук, изяществу ее облика, ясно говорившего о врожденном аристократизме, об утонченной, не растоптанной душе.
– Чем ты занималась в последнее время? Работала в артели слепых?
– Не смейтесь надо мной. Я убежала от Амвросия. Меня приютили скинхеды.
– А! Понимаю! Да, да! Скинхеды! Знаю.
– Что вы знаете про нас?
– Довольно много.
– Я сидела перед входом в Бункер и раздавала входящим свет.
– Что, что?!
– Свет. Я вынимала из корзины горящий светильник, лампаду, и давала его прямо в руки тому, кто приходил к нам в Бункер.
Лицо слепой прояснилось. Говоря про свет, она сама словно бы высветилась изнутри. Смуглота заиграла розовым румянцем. Незрячие глаза вспыхнули. “Судя по всему, у нее не внезапно наступившая глаукома. У нее, возможно, атрофия зрительного нерва в результате большого потрясения. Операция возможна. И, наверное, нужна. Но стоп! Дело обстоит не так просто. Девка была, возможно, правой рукой – или левой ногой – Амвросия. Как глубоко простираются ее познания в том, чем занимается Амвросий? Как часто и что именно он заставлял делать ее самое? И последнее, самое важное: чем она занимается сейчас? И еще: слепота ли это на самом деле – или она, черт побери, все– таки видит?! И искусно притворяется?!”
– Ага! Раздатчица света! Это вы, значит, несете людям свет. Ну– ну.
– Не надо так издевательски, пожалуйста. Вы же совсем не знаете нас.
– Я знаю вас! – вырвалось у Ангелины. Она сердито отхлебнула ликеру прямо из горла. – Я знаю вашего лидера!
Дарья выпрямилась. Рюмка выпала у нее из рук и стукнулась о паркет.
– Хайдера?
– Ну да, Хайдера!
Дарья медленно, как ожившая статуя Будды, повернула к Ангелине слепое лицо.
– Только попробуйте его выдать! Вас не будет тут же, как только вы…
– Как я могу его выдать, если я сплю с ним!
Дарья сжала обе руки в кулаки. Опустила голову.
– Поговорим о тебе. Отчего ты ослепла? Это важно для твоего лечения.
– Оттого, что моя мать убила моего отца, а потом я родила ребенка, а его у меня украли. Потом я узнала, где он.
– Где?
– Его продали за границу очень богатому человеку. У меня был его адрес. Потом я потеряла его след. Я звонила по телефону, который мне оставили, в Нью– Йорк, там сказали, что такой здесь больше не живет, он продал этот дом и переехал в другое место. И я больше не искала.
– Кто? Сын? Дочь?
Дарья молчала. Ее лицо опять превратилось в слепой лик Будды. Похоже, она совсем не хотела говорить. Замолчала навек.
Ангелина вскочила. “Ну и молчи, девка, если так молчать хочется”. Она процокала каблучками на кухню. Нострадамий, забравшись с ногами на подоконник, смотрел в окно, потягивал из початой бутылки водку и напевал, уже навеселе:
– Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза!..
Ангелина втянула в себя воздух – и, не совладав с собой, ухватила бродягу за шиворот, сдернула с подоконника, поволокла к двери. Бутылка вывалилась из его рук и грянулась об пол. Водка вылилась ему под ноги, он поскользнулся и чуть не упал.
– Вон отсюда, грязный пес! Ты врал, что ты не пахнешь! От тебя такой аромат, что можно в обморок упасть! Вон, вон отсюда! Да поживее!
Она вытолкала его взашей на площадку перед лифтом. Он стоял перед ней, высокой и царственной, растерянный, маленький, щуплый, в старом обтерханном пальтишке, и глядел так жалобно, что она, против воли, рассмеялась.
Когда она вернулась в комнату, Дарья сидела все в той же позе, с тем же выражением изящно– кукольного, неподвижного лица. На миг Ангелине показалось: вот она, владычица мира, не она, а эта Дарья, сидит и видит все внутренним, Третьим Глазом. И ее, Ангелину, видит. И ей, Ангелине, прочитает приговор. А не она – ей.
Ей захотелось созорничать. Все равно вечер был длинный, работать не хотелось, развлекаться тоже, Хайдер не звонил, и свидание не было назначено. В больницу она завтра выезжала, как обычно, к восьми. Правильно, она скоротает время со слепой девкой. А заодно узнает кое– что. Так, ход конем. Маленьким коником. Проверим…
Она взяла с окна большую шкатулку, скорее похожую на ларец или сундучок. Повернула в замке ключ. Откинула крышку. Ее лицо все озарилось отсветами, огнями, по щекам заходили, заиграли цветные сполохи, будто бы ее снизу подсветили северным сиянием. “Жаль, она не видит всего этого великолепия. Но ведь она может пощупать. И ее пальцы поймут. И она сама все поймет. Интересно, какова будет ее реакция? Если Амвросий не посылал ее на дела, связанные с ЭТИМ, она и не отреагирует. Если она в курсе…”
Ангелина подхватила тяжелый ларец под низ и поставила на стол, рядом с сидящей в кресле Дарьей.
– Что это стукнуло? – спросила Дарья.
– Это? Дай сюда руку.
Ангелина бесцеремонно взяла Дарьину руку и положила ее сверху того, что россыпями, ограненными камнями, сколами и самоцветными друзами, связками золотых колец и куканами с нанизанными на них золотыми и серебряными браслетами лежало в сундучке. Пальцы Дарьи вздрогнули и зашевелились. Она ощупывала драгоценности, лежащие в шкатулке.
– Ты понимаешь, что это?
– Понимаю. Это украшения. Много украшений. Это женские украшения, правильно?
– Правильно. Ты никогда не носила никаких украшений?
– Носила. Золотую бабочку из Орхонского сокровища барона Унгерна. Барон Унгерн был предком моей матери. Унгерн– Штернберг. Слышали?
– Что– то такое слышала. Где теперь твоя золотая бабочка?
– Это был бражник мертвая голова. Acherontia atropos. У меня ее украли тогда, когда украли ребенка.
Ангелина положила руку на ее тонкую ручку, копошащуюся в драгоценностях. Сжала запястье.
– Почему ты не спрашиваешь, откуда у меня эти побрякушки?
– Не хочу. Не хочу спрашивать. Откуда– нибудь из плохого места. У вас голос стал такой… черный.
“Нет. Она не знает. Или искусно притворяется. Нет, рука не дрожит”.
– А если я скажу тебе, что все эти штучки достались мне от мертвых женщин, а?! Может быть, я ведьма, а?! И я привела тебя к себе, чтобы вволю покуражиться над тобой, а потом взять да и зарезать тут втихомолку, а?! И снять с тебя… да нет, не зарежу тебя. С тебя же нечего снять. Грабитель не поживится. Ты плохая добыча. А– ха– ха– ха!
Ангелина захохотала. Она хохотала сладко и смачно, долго и вкусно. Исподтишка рассматривала Дарью. “Нет, никакой реакции. Так надменно сидит и слушает, как оперу Моцарта. Крепкий орех ты, девка. Ну ничего. Я тебя расколю”. Отсмеявшись, заправила Дарье за ухо прядь свисающих на грудь длинных смоляных волос.
– С меня есть что снять.
– Что? Скальп? Аха– ха!..
– Нет. Золотой крестик. Отец Амвросий надел на меня золотой крестик. Вот он.
Дарья вытащила из– за пазухи крестик на ярко сверкнувшей золотой цепочке. Когда они обнимались с Чеком на старом матраце, Чек иной раз в порыве страсти хватал ее крестик зубами, а она вырывала его у него изо рта и шептала: так нельзя, Бог тебя накажет.
– Ну, так сразу снимай!..
Дарья сидела не шелохнувшись. Крест лежал поверх платья золотой слезой.
– Вы или сумасшедшая, или зверь. Зачем Нострадамий привел меня к вам? Он сказал, вы доктор. Никакой вы не доктор. Вы чудовище. А еще красивая.
– Мне не твой крестик нужен, дура. Мне нужна ты. Ты не беременна?
Дарья не сразу ответила.
– Нет.
– А если ты обманываешь меня?
– Вы считаете, я сплю со всеми скинами скопом?
– Можно спать с кем– нибудь одним и забеременеть.
– Я была бы рада, если бы я забеременела снова.
– Рада?
– Счастлива.
– Хочешь, я возьму у тебя кровь на беременность? У меня домашняя лаборатория. Очень простой тест. Раз– два – и готово. Хочешь, я проверю тебя?
И она увидела, как снова засветилось ее неподвижное тонкое лицо.
– Да. Хочу. Очень.
– Дай сюда руку. Мне нужна капля твоей крови.
Дарья протянула ей руку так, как протягивают руку за куском хлеба.
И Ангелина впервые увидела, как дрогнули ее неподвижные, будто мраморные, губы.
Так. Хорошо. Что и требовалось доказать. И золотой крестик – память. Дешевые, сусальные я выкидываю. Нет, она не знала о работе Амвросия. Иначе она сорвалась бы с места и, спотыкаясь, кувырком, нащупывая руками стены, выбежала вон, заподозрив меня в том, что выделывал Амвросий. Мне повезло! Свежий образец! И ничей. Можно сказать, с улицы. Аристократки и дочки бизнесменов хороши, при них баксы, при них их цацки и бирюльки, при них, на худой конец, откупные суммы их родителей. Но мы же никогда не пользовались откупными суммами. Это означало бы – провал всей системы. А система отлажена, и каждый шаг внутри нее взвешен и рассчитан. Мене, текел, фарес. Или упарсин? Да, воред бы упарсин. Что такое “упарсин”? Это как название лекарства. Как – аспирин. Девка беременна, и она с улицы, и никто не узнает, не будет охотиться на охотников. Мне сегодня повезло. Ура!
Когда Ангелина вышла из комнаты, где она делала экспресс– анализ, в гостиную, она нашла Дарью уже не сидящей в кресле – стоящей около ночного, дегтярно– темного окна. Дарья положила обе руки на стекло, ощупывая его трепещущими, как крылья бабочки, ладонями. “Бейся, бейся, пташка, бейся о стекло, золотая бабочка, ахеронтиа атропос, бражник мертвая голова. Теперь ты, душечка, мертвая голова. Почти. Ты в моей личной тюрьме. Ты драгоценный товар. И я тебя дорого продам. Очень дорого. Так дорого, как ты и не подозреваешь. Возможно, что и твоего первого ребенка прикарманили наши люди. Все может быть. Наша система отлаженно, четко работает. Наших людей много везде. И нас очень трудно обнаружить. Всякий, кто хочет скрыться, скроется”.
Она шагнула к застывшей у окна Дарье. Положила руки ей на плечи.
Дарья вздрогнула.
“Наконец– то эта сучка вздрогнула”.
– Поздравляю. Третий месяц, – торжественно сказала Ангелина.
Перед домом тщетно расхаживал туда– сюда маленький человечек. Он ходил, задирал голову, смотрел на освещенные окна. Все окна в конце концов погасли. Остались гореть во всем доме, в ночи, только два. “Там, там они, – шептал маленький пьяница замерзшими губами – ночью снова подморозило, и поднялся сильный, пронизывающий ветер, – там они обе. Зачем я привел ее, нежную, к той, злой? Чтобы нежность наткнулась на черное острие. Так надо. Их надо было столкнуть. Вылетит искра. Все так непросто. Я вижу их слитно текущие судьбы. Я вижу взрыв яркого света в конце дороги. Но всякую дорогу надо ведь пройти, пройти до конца, Господи?!”
ПРОВАЛ
Вчера я наклонялась над его широким, как тарелка, лицом. Татарские скулы; косые глаза. А сам из перерусских русский. Железная пята Азии наступила на каждое горло. Железная рука Азии измяла каждую податливую бабью грудь. А мы врем сами себе, что мы русская страна, чистая страна, вся насквозь славянская страна. Как можно нагло врать самим себе в лицо, когда в каждом из нас течет хоть капля крови инородца? Хоть сейчас на анализ бери. На исследование ДНК. Ох и будет открытие: в России нет чистых русских! Что ж они народные песни– то поют? Голосят: русский порядок, руссише орднунг? Я наклонилась над его широким, как монгольская миска, лицом и спрашиваю: Хайдер, тебе расчистить дорогу к славе? Он смеется: мне не нужно славы. А к власти? И тут его круглая рожа просветлела. Клюнул на блесну. “К власти – можно. Но прекрати эту болтовню. Это все бабья болтовня, Ангелина. Какую власть ты имеешь в виду? Над моими солдатами, над моими соратниками, внутри организации – или…” Конечно, или, сказала я. Я имею в виду только “или”. Но для этого тебе необходимо убрать тех, кто работает рядом с тобой. Запомни: у вождя соратников нет. У него есть только враги. И их надо уничтожить. “Что за пещерный метод, – рассмеялся он, и дернулась вбок его голова на подушке, – им уже, кажется, не раз пользовались…” И что, спросила я, ты считаешь, что старые методы хуже? Да они, к твоему сведению, самые верные. Что ты имеешь в виду? А то. Убери с дороги самых верных. Тех, кто больше всего клянется тебе в верности и в подмоге. Эти – первыми предадут. Выдадут тебя с потрохами.
Что ты мелешь?! Я правду говорю. Ну тогда и действуй сама, как считаешь нужным!
Он перевернулся на другой бок и через пять минут уже храпел. Здесь он такой же дуболомный мужик, как и все остальные. Поял бабу – и на боковую. Храпит, будто после косьбы. Хорошо, будут думать я. Буду делать я. Я хочу, чтобы ты ощутил вкус власти.
ВКУС ВЛАСТИ.
ЭТО САМЫЙ МОЩНЫЙ НАРКОТИК.
СИЛЬНЕЕ НАРКОТИКА В МИРЕ НЕТ. ЭТО Я ГОВОРЮ ТЕБЕ КАК ВРАЧ.
Разрешение получено. Санкция получена. Храпи, храпи, мой герой.
Это я, я сделаю тебя героем.
Для этого мне нужно так немного.
Просто – голова на плечах.
Я так люблю тебя, что я опьянела. Я опьянела и охмурилась тобой; я, железная баба, я, сама себе царица, я, не спавшая с мужиком более одной ночи, я брежу тобой, я хочу тебя всегда, ты всегда во мне, твой железный жезл, твой солдатский штык, твой могучий уд – мощный и неутомимый, как ты сам. Ты сплотил вокруг себя молодежь. Ты научил ее лозунгам и знакам. А большему, рассудил ты, и не надо ей учиться – для того, чтобы идти на штурм. Ты многое знаешь в психологии масс. Ты не читал Юнга и Фромма, но ты пришел к их истинам. Ты отлично, как на скрипке, играешь на коллективном бессознательном, и у тебя оказался абсолютный слух, поэтому ты и стал Вождем. Спи, мой Фюрер! У тебя уже есть жена. Я твоя жена, и я сделаю все для тебя. Я расчищу тебе дорогу. Я проложу тебе путь. Дорога, по которой идет мой Вождь, должна быть широкой и свободной.
… … …
– Ты! Зубрила! Баскакова убили!
– Да ну, иди ты…
– Завтра похороны! Тайные…
– Какое тайные, во всех газетах точно вой поднимут… журналюги набегут…
– Эй, Фарада! Фарада, ты слышал? Роста кокнули!
– Он же с пистолетом везде ходил… как не отстрелялся…
– Если тебе вмажут в затылок маслину и твои мозги брызнут в стороны – как ты, с позволения сказать, отстреляешься, фраер?!..
Баскакова убили вчера. Все скинхеды узнали об этом сегодня.
По восстановленным сведениям, Баскаков поздно вечером возвращался из гостей, от философа Дмитрия Васильчикова. Недалеко от его дома нашли его тело с простреленной головой.
Скинхеды переговаривались меж собой: ну что, теперь враги торжествуют, погиб один из генералов святого войска, да еще какой – самый фанатичный, самый крутой… Люкс тупо глядел в стену Бункера. Фарада ковырял носком стоптанного “гриндерса” грязный, давно немытый пол. Полы здесь мыла эта покладистая слепая девушка, Дашка. Дашка куда– то исчезла. Куда? Мало ли куда может исчезнуть девчонка. Может, ее похитили и увезли к кому– нибудь, к богатым браткам, на дачу, и сейчас с ней развлекаются бандиты и воры в законе. А может, она упала с эскалатора, сломала ногу и лежит в больнице. Где этот ее парень, Чек?.. А, Уродца тоже давно не видать. Слиняли, значит, оба. Да у них любовь, братцы!.. У нее, может, и любовь. А у Чека – игрушки. Он не спятил, чтобы молодую жизнь с бабой связывать. Еще нам столько сделать надо! Еще все только начинается! Начинается, как же… После Хрустальной ночи все и началось… Да тут же и кончилось… Сколько наших под следствием… И – все – вроде бы коту под хвост… Не под хвост! Все почуяли, на чьей стороне сила! Мы показали силу! Мы продемонстрировали ее! А дальше…
А дальше – назавтра – были похороны Баскакова. Черный гроб с телом убитого стоял в Бункере, в концертном зале, на возвышении, наспех сколоченном из старых ящиков и прикрытом куском черного штапеля. Жуткие шрамы на щеке, на лбу и подбородке покойного странно, резко побелели на темном, будто загорелом, лице. В сложенные на груди грубые руки всунули железный крест. Баскаков лежал как живой, будто бы сурово, сердито хмурясь. Казалось, он сейчас встанет и крикнет: “Идиоты! Не слушаете кадрового военного! Все делаете неправильно, скоты!” Зубр наломал ночью в парке еловых ветвей, набросал на гроб и на пол Бункера. Хайдер сказал речь. Рубленую, короткую, жесткую. “Помните о силе. Помните: сила мораль людей, отличающихся от покорных скотов. Она же и ваша мораль. Хайль!” Все вскочили, протянули руки вверх и вкось. Со стороны казалось – сквозь глухой герметичный потолок Бункера разом, из внезапно образовавшегося отверстия, ударили косые живые лучи.
А еще через неделю, когда по всей Москве быстро, моментально стаял снег и женщины уже нарядились в туфельки, сбросив сапожки, и все уже ходили без шапок, и солнце заливало желтым медом Тверскую и Неглинку, Волхонку и Моховую, обе Никитских – Большую и Малую – и Столешников переулок, убили философа Васильчикова. Того самого, что, подвывая, читал с трибуны скинам свои непонятные, высокопарные воззвания и заметки. Того самого, что восхвалял белую арийскую расу, в подробностях рассказывая пацанам ее историю, начиная от скитаний древних ариев по Тибету и Северной Индии и заканчивая белыми избранными европейскими людьми. Того, что с пеной у рта повествовал о героях– альбигойцах, сохранивших в пещерах Монтсегюра священную Чашу Грааля, о рыцарях Кельтского Креста, шедших в смертный бой с криком: “Слава Кресту!” – на устах. Скины много интересного узнавали от Васильчикова; кое– кто считал его придурком, не понимая в его россказнях ни слова, кто– то относился к нему с большим почтением: во дает старик! Все про древние знаки знает!
Когда разнесся слух, что его тоже убили, как и Баскакова, – выстрелом в голову, – все призадумались. Васильчикова хоронили не они из Бункера, а родные – из дома. У него, апологета ультраправого движения, оказалась прелестная, нежная дочь, работница столичного модельного агентства. Дочка устроила папаше сногсшибательные похороны. Если Баскакова опускали на кладбище в могилу втихаря, сурово, быстро и молча, почти нелегально, то на похороны Васильчикова на Ваганьковском собралось пол– Москвы. Вот тут папарацци порезвились. Газеты и журналы захлебывались: главари движения “Neue Rechte” исчезают один за другим! Их срезают, как грибы! Их отстреливают, как уток на болоте!
Но когда, два дня спустя – а солнце припекало все сильнее, необычайно жаркая весна стояла в этом году – убили Хирурга, так же, выстрелом в висок, тяжелая пелена молчания опустилась сверху на скинхедов, накрыла головы, лица, заткнула рты.
Все, собравшись в Бункере, глядели на Хайдера.
Хайдер глядел в сторону.
Скины сжимали кулаки.
Кто– то плакал, отвернувшись к стене.
Придя домой, Хайдер позвонил Ангелине. Мягкий, чуть пришепетывающий женский голос обворожительно проворковал ему в ухо: “Абонент временно недоступен, попробуйте позвонить позднее”.
ПРОВАЛ
Мои руки в крови. Я вижу, как с них капает кровь. С пальцев капает кровь, и с ногтей, и с запястий; я слежу, как она коричнево, густо, как мед, капает на землю, и я понимаю: земля – не паркет, кровь невозможно замыть, подтереть, земля впитает кровь, и на земле останутся красные пятна. Витас опять улетел в Иерусалим. Он продолжает горбиться над своей фреской. Трудись, трудись! Труд облагораживает человека. И преступника, и праведника. А этот, мой идиотский пацан?! После того, как я потрепала его немного хорошим внушением и он поползал у моих ног, слюнтяй, мнящий себя героем, он стал тише воды, ниже травы. Он немного понял, что к чему. Витас тоже понял, что к чему – однажды, когда ему ПОКАЗАЛИ. Может, не надо было ему ПОКАЗЫВАТЬ?! Нет, надо. Человеку всегда надо показывать другой мир. Не тот, который он знает. Не тот, в который он слепо верит. А другой. Параллельный. Тот, что лежит с его миром рядом, как нагая девка в постели, а он его в упор не видит. Все слепые. Все – слепы. Ах, вы все слепые?! Уж лучше вас всем выколоть глаза. Пусть из пустых глазниц течет кровь. По крайней мере, она уж не солжет. Кровь – величайшая правда на земле. Потому что кровь жива. А все остальное – словеса, учения, лозунги, знамена, штандарты, знаки, законы, указы, воззвания, программы – все блеф. Суета. Ложь. Все, обозначенное словом, – ложь. Все, омытое кровью, – правда. Кровь капает с моих пальцев. С моих длинных, как когти, ногтей, покрытых перламутровым лаком. Я хочу отмыть руки. Я сую их под кран. Под струю воды. Я держу их под холодной водой, пока они не перестанут гореть. Пока не смоется последнее красное пятно. Но когда я вытираю их полотенцем, на полотенце остаются кровавые пятна. И я утыкаюсь лицом в полотенце, и плечи мои трясутся. Я плачу?! Нет, я смеюсь.
Я смеюсь над теми, кто увидит меня с моими кровавыми руками на улице. Они подумают, что я надела красные перчатки.
Мне надо лететь к Витасу. В Иерусалим. Я нарисую у него на фреске огромный красный нимб надо лбом Христа, Красную Луну, без красок и кистей, одной живою рукой. Пальцами. Ладонью. Буду рисовать и хохотать.
Звонят?! Пускай звонят. Заткнись, телефон. Это Хайдер. Он хочет узнать подробности. Ему не обрыбится. Он взбесился. Он дергается, как ерш на крючке. Подергайся, вождь, герой, тебе полезно. Почувствуй: нитка твоя, а катушка, любезный мой, – все равно моя.
… … …
Нострадамий напрасно ждал Дарью тогда у входа в дом этой расфуфыренной дамочки, госпожи Сытиной. Не дождался. Так, упоила она слепую бедняжку ликером. Да и он опять же водочки попробовал. Разлил вот только много, жалко… Почти всю бутылку на пол пролил…
Он ушел, жалобно, прерывисто вздыхая, как ребенок после плача, высоко подняв плечи под старым пальтецом, в ночь. Ну вот, получилось так, что он подбросил этой даме – игрушку. Слепую красивую игрушку.
А если все переиграть? Что, если он подбросил госпоже доктору не живую игрушку – а рогатую мину? И через несколько дней, часов, а может быть, минут страшный взрыв потрясет черную непроглядную толщу чужого океана?
ПРОВАЛ
Я вижу.
Я вижу – я, доктор Мишель де Нотр– Дам, по матери Сан– Реми, из городка Сан– Реми, что на юге среди виноградников, переехавший в Лион, а затем из Лиона – в Париж, поближе к королю, вижу через толщу огромных времен, как по улицам огромного чудовищного города, незнакомого мне, где все говорят на чужом, незнакомом мне языке, одетая вся в черное, спешит в ночи из дома в дом женщина. Черный плащ развевается по ветру. Красные волосы бьются у женщины за спиной. Я знаю, что женщину зовут Ангелина; по– нашему это – Анжелин, ангельская. Это имя ей дано в насмешку. Если она ангел, то, скорей всего, черный. Падший ангел – уже Люцифер. Куда она так спешит? Я вижу, я все вижу. Она спешит на назначенную встречу.
Вот она входит в дом. Вот поднимается по лестнице. Вот ей открывают дверь. Зачем я так ясно вижу эту женщину? Судьбы какого мира зависят от нее? Вожжи какой квадриги она держит в своих руках? Сейчас я все увижу – и тогда скажу вам. Вот выпью еще немножко из бутылки, там еще осталось на дне пошлой дешевой водки… пардон, королевского благородного коньяка, мне поставляет его, с премногими почестями, сам король из Лувра, – и все– все расскажу.
Ага… ну, вот так– то лучше… согрелся…
Жаль, последний… Последние капли…
Она уже в комнате. Ее встречают двое. Один – с бородой, и вид у него плутоватый, и маленькие глазки его бегают, ощупывают пришелицу: с чем пришла?.. с добром или с худом?.. – другой – дородный, надменный, у него жирный холеный подбородок, светлые как роса глаза, и видно, он владеет несметными богатствами. Женщина начинает говорить. Так как я не знаю ее языка, я не могу перевести вам, о чем она говорит двум мужчинам. Однако я знаю, о чем им говорит она.
Она говорит так: у меня есть новый товар. Свеженький, молодой. Три месяца. Если маловат – подрастим. И еще один на примете. Больничный. Не такой здоровый, но все же это наш продукт. Поступали ли сведения из Парижа? Бородатый мужик тихо отвечает ей – и я тоже знаю, что он говорит, хотя вижу лишь, как шевелятся его губы: и из Парижа, и из Нью– Йорка, и из Иерусалима. Женщина улыбается и развязывает у горла черный плащ. Дорожный мужчина, по виду – богач, подносит ей рюмку. Лучше бы мне поднес, подлец!.. И она выпивает. Одним махом. Залпом. Как мужик. И втягивает ноздрями воздух. Я вижу, какие у нее красивые, как резцом выточенные ноздри. Она говорит: Георгий, нам надо быть более осторожными. Наше логово надежно защищено. Но не мешало бы еще выдумать одну крепостную стену. Холеный богач пристально смотрит на женщину. Он говорит ей так: весь мир, дорогая, делится на логова, как на материки и на расы. И люди отличаются друг от друга лишь тем, как надежно защищены их логова. Если логово плохо забаррикадировано – гнездо гибнет. Вымирает род. Выбивают сильнейших. Умирает дело. Ты не хочешь, чтобы наше выгодное дело умерло?
И женщина встает перед холеным во весь рост в черном плаще. И протягивает руку: еще налей. И холеный наливает ей еще. И я скрежещу зубами. Ты, сука!.. Если ты мне не нальешь, я двину тебе под ребро!..
Но я далеко во времени. Я далеко в пространстве. Он не слышит меня. Он пьет. Пьет и она. Пьет и другой, бородатый, и скалится.
Они, все трое, так хорошо понимают друг друга.
Я вижу, как женщина поднимает руку ладонью вперед. Я вижу, как она смеется. Я слышу – она говорит так: мы с Георгием занимаемся девочками, ты, Амвросий, – мальчиками. Не пора ли нам объединить наши усилия? Выберете меня командиром? Помните, мы с вами – владыки будущего. Мы держим в руках эту жизнь. Мы ее лепим. Мы строим ее из человеческих кубиков. Это, господа, поважнее клонирования; поглавнее атомного оружия; привлекательнее бессмертия, потому что бессмертия все равно нет.
И она улыбается – я вижу это.
И она обводит обоих мужчин глазами.
Я не знаю слов, что она произнесла. Я не знаю, что такое клонирование. Может быть, это когда с одного человека снимают много слепков, и из одного получается целое войско. Я не знаю, что такое атомное оружие. Быть может, это оружие, которое стреляет не пулями, а мельчайшими частицами бытия, о которых писал еще грек Демокрит, и они пронзают человека насквозь. Зато я знаю, что такое бессмертие. Женщина с красными волосами, в черном плаще думает, что бессмертия нет. И здесь она просчиталась. Она ошибается. Бессмертие есть. Иначе почему же я, Мишель де Нотр– Дам, пьянством страдающий, по времени ночами летающий, до сих пор жив и вижу все это?
– Нас уничтожат! Нас всех перебьют, как котят!
– Нет, нас не уничтожат. Мы – сила. Ты слышал, что сказал Хайдер?! Мы – сила!
– Сила, сила… Хирург тоже играл мускулами! А конец один! Нас перестреляют, как зайцев по осени!
– Нас загонят…
– Нас не догонят! Мы бегаем быстро! А если догонят – будем биться, как той ночью! До последнего! Железными цепями! Кастетами! Давать в зубы! Давать ботинком под дых! И пусть стреляют нам в лицо – мы сдохнем за нашу правду!
– А какая она, наша правда?
Слишком тихий голос.
Скин, сидящий на корточках в углу и курящий сигарету, сказал это слишком тихо, но все услышали. И бросили говорить, кричать и материться.
И уставились на того, кто это спросил.
И бритый худенький парнишка, досмолив окурок, бросив на пол и затоптав его, встал с корточек – и выпрямился, и хотел что– то еще сказать. И сжался под сотней взглядов, расстрелявших его.
… … …
– Больного Архипа Косова ко мне!
– Сейчас, Ангелина Андреевна, будет сделано. – Санитар Дубина ощерился, подмигнул. – Доставлю в лучшем виде.
Она отвернулась к окну. Плафон под потолком мигнул. Дубина ретировался. Она внезапно похолодела. Чутье. У нее всегда было очень хорошее, как у рыси или лисы, чутье.
Поэтому, когда Дубина, с растерянной мордой, снова ввалился к ней в кабинет, она не удивилась тому, что он выдавил из себя, как пасту из тюбика.
Санитар Дубина, мыча, заливаясь густой краской, покрываясь потом, прогудел:
– Это… Ангелина Андреевна… больного Косова… Нет на месте… И вообще… это… нигде нет…
Она вскинула глаза на санитара.
– Как это нигде? В коридоре? В туалете? В подсобках? В ординаторских? Под лестницами? У старшей сестры? В процедурной?
– Нигде. Нет как нет, Ангелина Андреевна. Все обшарили.
Так, хорошенькое дельце. Ну правильно, она же дней десять не показывалась к нему в палату. Похоже, ее бурный романчик с гололобым мальчиком закончился, финила ля комедиа, занавес падает, господа. И, пожалуй, их разрыв она опишет в очередном бульварном романе. Она слишком увлеклась в эти дни своим Вождем. И любовью с ним. И еще кое– кем. Она увлеклась своими делами. Она никогда не забывала про дела. Слава Богу, не было звонков от клиентов, от страдающих разнообразными неврозами богатеев Москвы. Ну– у… если считать, что Георгий Елагин – тоже ее пациент, то тогда такой звонок был… И встреча – была…
– Вы все тщательно обыскали?
Ее голос был сух и жесток.
– Все, Ангелина Андреевна. – Дубина резко, нервно сглотнул. – Испарился.
– Точнее выражаясь, сбежал.
Дубина застыл, вытянувшись во фрунт. Ангелина подошла к нему. Он втянул голову в плечи. Ему показалось – она сейчас даст ему пощечину.
– Убежал! – крикнула она. – Называйте, пожалуйста, вещи своими именами!
– Убежал, Ангелина Андр…
У нее вдруг будто чьей– то когтистой лапой сжало сердце. Кровь бросилась ей в голову. Она видела себя в зеркале напротив – покрасневшую, как во время климактерического прилива, с расширившимися от бешенства, посветлевшими глазами, с рыжей прядью, выбившейся из– под белой шапочки.
– И что! – Она задыхалась от ярости. – Принимайте меры! А я посмотрю на вас! Беспомощные скоты!
Она рванула трубку телефона.
– Да! Спецбольница! Да, пожалуйста, в розыск! Убежал больной Архип Косов, восьмидесятого года рождения, особые приметы…
Она задумалась на секунду. У больного Архипа Косова не было особых примет. Чуть раскосые темные глаза. Чуть торчащие скулы. Чуть вывернутые наружу губы. Как у Хайдера и у этого… сынка Георгия. Она закрыла глаза.
И внезапно, стоя у телефона с закрытыми на миг глазами, поняла: Хайдер и Ефим Елагин похожи. Только у одного подбородок раздвоенный, а у другого – гладкий. У одного есть родинка на щеке, а у другого – нет. У одного нос перебит в драке, а у другого – ровный, как у кондотьера. А так – глаза, губы, лепка лица, это хорошо знакомое ей, надменно– веселое выражение…
Как два яйца в яичнице, вылитые на сковородку.
Нет. Не может быть.
– Особые приметы, – сказала она четко, – раскосый немного, с азиатчинкой. Россия азиатская страна, вы же догадываетесь. Был обрит, но волосы уже отросли. Высокий. Худой. Убежал в больничной пижаме. Полосатая?.. Нет, холщовая. Возможно, – она поморщилась, – кто– то принес ему одежду. Может быть, побег был задуман. Его одежда хранится у меня в больничном шкафу. Она цела. Когда убежал?.. Сегодня?.. Нет, не сегодня. Несколько дней назад. Я была занята и не появлялась в палате, где он лежал. Спасибо, будем держать с вами связь.
Частный сыск все равно лучше любых милиций. Не бойся, друг, далеко не удерешь, найдут. Она положила трубку на рычаги, подошла к шкафу. Вынула из кармана ключ, повернула в замке. Шкаф, где хранилась скинхедовская одежда Архипа Косова, был пуст.
Когда Хайдер, переступив порог Бункера, мрачно сообщил всем, что убит Сашка Деготь, Зубр, витиевато выматерившись, смачно плюнул себе под ноги.
– Фюрер, они отслеживают нас!
– Все кого– нибудь отслеживают в мире. Запомни это.
Он не мог находиться сегодня среди скинов. Они разомкнули черное кольцо, дали ему выйти. Когда он шел к выходу, он спиной чувствовал взгляды, хлещущие его, Вождя, как плети.
Теперь он, дубинноголовый, одержимый, фанат, отомстит ей за смерть Лии. Надо же, как он привязался к этой девчонке! Ну да, она же была скинхедка, она же была ему родная. С ней он нашел общий язык. Санитар Марк донес ей: они по ночам распевали песни, мешали спать больным. Может, он в отместку за Хайдера, соснул с этой чернявой козявкой?! Пусть даже так. Он молодой. У молодых стручки стоят на каждую кошку и собаку. Однако как он ухитрился убежать? И когда? Да, неделю, нет, больше недели, десять дней она точно не появлялась в его палате. Кто же отпер ее шкаф? Кто выкрал одежду? Подобрали отмычки? Умело вскрыли?
Она вспомнила. До нее дошло. Когда она его водила туда, в его Бункер, к его идиотам, она, достав из шкафа его шмотки, закрыла дверь ключом и сунула ключ в карман шубки. Другой ключ остался в кармане ее белого халата. Все верно. Архип залез к ней в карман. Воровское дело нехитрое.
И что? Теперь бояться ходить по улицам? Шарахаться от каждой тени?
Он явно добрался до своих. Причем давно. И они его вооружили.
Нет, Хайдер бы наверняка сообщил ей: появился Бес! Бес, так долго пропадавший!
Хайдер молчит. Он загадочно, тяжело, страшно молчит. Он не говорит с ней об убийствах его соратников. Он запер рот на замок.
И она молчит. Они оба играют в молчанку.
Кто кого перемолчит.
Кто кого обманет.
Кто кого заколдует.
… … …
– Амвросий, приедешь ты или пришлешь людей?
– Я дурак, чтобы сам приезжать, да? Конечно, пришлю людей.
– От Георгия?
– У меня есть своя агентура, ты же меня знаешь. Когда?
– Я сейчас дома. Можешь сейчас.
– Хорошо.
Было слышно, как в соседней комнате, через стену, бьют часы.
Она прислушалась. Она хотела услышать плач. Чтобы из соседней комнаты донесся тихий плач, вой, скулеж. Нет, эта девка не плакала. Эта девка побывала в тех еще переделках. И она еще на что– то надеется? На что? На чудо? Верующие в Бога всегда надеются на чудо?
В соседней комнате было тихо. Каждые полчаса били часы.
В дверь застучали условным стуком. Она вскочила. Кажется, поджидая их, она задремала в кресле.
Она подбежала к двери. Быстро поглядела в глазок. Негромко, быстро спросила, не открывая:
– Север и Юг?
– Запад и Восток, – ответил грубый мужской голос из– за двери. – Открывайте скорее! Почта вам!
Затрещали ее чудовищные, сложные замки с тысячью секретов. Наконец тяжелая дверь отъехала, и в прихожую не вошли – ворвались двое, захлопнули за собой дверь. Измерили Ангелину взглядами, будто прикидывали: хороша – не хороша, наша – не наша.
– Ведите. Где товар?
– В спальне. – Она отчего– то взволновалась. – У вас с собой все, что нужно?
– С собой. – Один из вошедших, голубоглазый, грубо рубящий словами воздух, кивнул на черный чемодан в руке. – Веревки, наручники, кляпы, снотворное, рауш– наркоз, если сама не пойдет, будет артачиться.
Она пошла по коридору. Оба мужчины – за ней. Когда она толкнула дверь в спальню, она поняла, почему за стеной царила тишина.
Дарьи, беременной на третьем месяце, в спальне не было. Окно было открыто. Ангелина, закусив губу, ринулась к окну. Шестой этаж! Проклятье! Неужели… Она высунулась из окна. Бред! Мистика! Не на облаке же она улетела! Далеко внизу виднелись крохотные, как спичечные коробки, машины. Детские песочницы казались игральными картами. Ангелина скосила глаза вбок – и все поняла.
Водосточная труба. Дарья спустилась вниз по водосточной трубе.
У, ловкая бурятская обезьяна! И харю не расквасила… может, искусно сыграла слепую?..
На тротуаре, во дворе, на окрестных улицах никого похожего на нее не маячило. Никакой девушки со смоляной, густо– черной косой.
Двое стояли, ждали. Грубый голос за ее спиной спросил:
– Мы что, не в ту комнату зашли?
Она обернулась к перевозчикам товара. На ней лица не было.
– В ту, господа. Товар убежал. Я возмещу вам расходы по транспортировке инструментария и на бензин. Вы издалека ко мне ехали?
– Из Жуковского. – Грубый мужик с голубыми небесными глазами хмыкнул. – Плохо сторожили, что ли? Давайте нам деньги. Мы за так работать не собираемся.
Косов убежал.
Дарья убежала.
Она усмехалась: не хватало, чтобы Хайдер от нее убежал.
“Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от тебя, лиса, и подавно уйду…”
Кто от нее не убежал?
Ее люди. Те, с кем она давно уже идет в связке.
Георгий. Амвросий. Цэцэг. Александрина. И эта…
Она сама сказала ей: “Если когда– нибудь назовешь кому– нибудь – на допросе, на пытке, на дознании, на дыбе, на костре, на эшафоте – мое имя, я приду с того света и убью тебя”. Она запомнила эти слова напрочь.
Какую прочную сеть они связали!
То, чем занимаются они, гораздо важнее того, чем занимается дурак Хайдер и вся его дурацкая компания.
Вождь… Фюрер… Предводитель… Переворот…
Коловрат над всем миром…
Свастика, черная свастика, черный паук…
Кельтский Крест…
Она вдруг поняла: они прикрываются и свастикой, и крестом, и коловратом – от стихии, от бури, которая идет помимо их, вне их, над миром, над жизнью, над временами.
Хайдер – герой?! Да, она видела его героем. В мечтах – видела.
А что такое герой?
Она задала себе этот вопрос – и, кроме собственного смеха, не нашла ответа на него.
Еще вчера она хотела сделать Хайдера царем. Королем. Вождем. Владыкой. Повелителем. Еще вчера она хотела поднять его – своими руками, на своих плечах – на недосягаемый для других трон. А сегодня она поняла: трона нет. И некуда владыку подымать.
Трона нет, ты понимаешь, дура?! Трона– то нет!
А куда дели трон властелина?! А на свалку свезли.
Сейчас властители мира – другие. Они не сидят на открытых миру тронах. Они идут в толпе меж всеми и носят красивые маски.
И, когда она посмотрела на себя в темное зеркало в своей пустой спальне, она поняла: владыка – это она. Владыка – это Георгий. Владыка – это Амвросий, в миру Николай Глазов. Владыка – это…
Не называть ее имя. Ни в коем случае, даже под пыткой, под плеткой, под наркозом, под…
Она вынула из пачки длинную тонкую сигарету с ментолом, закурила. Где сейчас Архип? Прячется. Может, его уже нет в Москве. Пустился в бега. Хлебнет лиха. Горя хлебнет. Нищенствовать станет. Убьет кого– нибудь из– за денег, когда жрать нечего будет. В тюрягу попадет. В лагерь. И так закрутится новое колесо страданий. Глупых, никчемных людских страданий. У парня, над которым она издевалась так виртуозно и изощренно, будет своя жизнь, но страдать он будет не меньше, а едва ли не больше, чем в ее больнице. В миру, на свободе свои страшные ЭШТ. Свои уколы лития. Свои дубинки дюжих санитаров. Свой запрещенный медициной гипноз, когда человек на твоих глазах превращается в свинью. Он еще вспомнит ее. И ночи с ней. И то, как они однажды, два полных придурка, жарили мясо в мангале – прямо в палате, в его палате, у его койки с гремучей панцирной сеткой…
Звонок. Схватить телефон цепкой лапой. Нажать кнопку.
Цэцэг?! Амвросий? Георгий? Витас из Иерусалима?!
Хайдер?! Соскучился, герой…
А может… Архип?!
“Архипка, – глупая, безумная запоздалая страсть и горечь неожиданно, как девчонку, захлестнули ее, – Архипка, козел, негодяй, а вдруг это ты… А вдруг это ты, мой сумасшедший пацан…”
– Але, здравствуйте, это Ефим Елагин, – раздалось в трубке холодно, весело. – Мне бы Ангелину Андреевну.
Она проглотила слюну.
– Ангелина Андреевна у телефона. Ефим, брось притворяться. Ты же прекрасно знаешь, что я живу одна.
– Честное слово, я не знал, что ты живешь одна, прости. Я думал, это девочка– горничная подошла. У тебя такой молодой голос.
ПРОВАЛ
Перезарядить пистолет. Вот так, так. У пистолета одни достоинства, у револьвера – другие. Самое трудное – выследить того, кого ты хочешь убить. Нет, и не это самое трудное. Самое тяжелое – это метко выстрелить, чтобы не тратить патроны. И опять не так. Выстрелить – и умело, искусно уйти. Убежать. Так, чтобы тебя никто не увидел. Не заметил. Не взял твой след. Не взял тебя на мушку.
Видишь, сколько всяких трудностей ждет того, кто всунул башку в хомут делания смерти. Смерть оказалось делать очень трудно. Утомительно. Она оказалась простой, тяжелой, будничной, обычной. Но от этого не менее страшной. Прицелиться? Пожалуйста. Выстрелить? Как делать нечего. Но когда человек, в которого ты, сжав зубы, выпускаешь пулю, падает – ничком или навзничь, лбом об асфальт, подогнув неловко руку, разевая рот в предсмертном крике, ты все равно испытываешь страх. В смерти, которую ты рождаешь, нет ничего священного. Она проста и подла. Убивая, ты берешь на себя миссию Бога. Ты не дал жизнь, но ты отнимаешь ее. Это уже извращение. А где чистота? А чистоты просто нет. Нет чистой крови. Нет чистой жизни. И чистой смерти – тоже нет. Все выпачкано – в грязи, в обмане, в земле, в крови.
А когда ты уйдешь от погони, самое трудное – не заплакать.
Не плакать, не плакать.
Не ронять лицо в ладони. Не трястись, сгорбившись.
Лучше закурить сигарету. Затянуться – до самых корешков прокуренных легких.
… … …
– Вы видели, как он убежал?!
Больные сжались в комок на своих кроватях.
– Леонид Шепелев! Ты видел, как, когда он исчез?! Говори!
Ленька Суслик вытянул шею, как гусь.
– Да я… да ничего… вроде бы тут мотался… а потом брык – и нетути…
– Больной Стеклов! Вы видели?! Отвечайте! Быстро!
Солдат сидел на койке, как всегда, выпрямив спину. Он держал на коленях миску. Миска была пуста. Еды в ней не было. Солдат смотрел прямо перед собой белым пустым взглядом.
– Иван Дементьич, – зашептал Ленька Суслик испуганно, – Иван Дементьич, вы уж скажите что– нибудь, а то гляньте– ка на нее, на Клепатру, как зырит… Как зверюга…
Солдат повел пустыми глазами вбок. Миска задрожала в его руках.
– Тута был усю дорогу, – проскрипел он наждачно. – Тута парень был. Усю дорогу был. Куда делся? А может, вы его… этта…
Солдат провел себе пальцем по шее.
– Дурак! – Бешенство ненависти к ним ко всем, бессловесным, косноязычным, безъязыким, забитым, захлестнуло ее. – Мы, врачи, по– твоему, виноваты, что больной сбежал! – Она оглядела палату бешеными глазами. – Вы хоть догадываетесь, что отсюда нельзя убежать никому?! Что отсюда – за все годы моей работы – никто не сбегал?!
Толстый Колька, ворохнувшись, подал голос с койки:
– Догадываемся, Ангелина Андреевна… Знаем…
– И что? Где Косов?! Где Косов, я вас спрашиваю? Кто видел его последний раз? Неужели вы такие идиоты, что вы ничего не помните?! Или вас всех, скопом, стадом надо отправить на ЭШТ, чтобы у вас развязались языки?!
В полной тишине проскрипел наждачный хрип Солдата:
– Не обессудь, врачица. Все мы тут солдаты. Все мы идиоты. Кем нас сделали, теми мы и пребываем. Поняла?
И она осеклась.
И обвела палату глазами.
И поняла: никто из них ей ничего не скажет. Даже под током в шесть тысяч вольт.
Если бы его заставили рассказать, как он сделал это, он бы не рассказал. Кто его вел? Что его вело? Как он додумался до всех тонкостей побега? Ведь он еще никогда ниоткуда не сбегал. Он только удирал от ментов после побоищ, что братья– скины называли битвами за святую Россию, вот и все его бега. Он понял: Ангелина больше не его, ее взял Хайдер. Вернее, она взяла его. Взяла хищно, грубо – он уже отлично знал ее манеру сразу подчинять себе людей, присваивать их. Лия умерла. Больше нет их песен в ночи, в стонущей, полной людьми несчастной палате. Больше нет их надежд на то, что мир будет переделан, перекроен по выкройке Кельтского Креста. После разгрома скинхедов, отважившихся, под предводительством Фюрера, на Хрустальную ночь, умерла его вера. Первое поражение отпечаталось черной печатью на его груди. У Леньки Суслика в палате был транзистор, и он, жадно приникнув к нему ухом, слушал новости, где отловленных после Хрустальной ночи скинхедов поливали грязью и мешали с дерьмом. Они что– то делали не так! Не так их вел Хайдер.
А что, всегда в поражении виноват Вождь?!
Он понял: здесь, в этой безглазой жуткой тюрьме, пышно именуемой спецбольницей, с плафонами под голым потолком, с двадцатой комнатой, где сквозь тебя пропускают смертную муку, ему больше делать нечего.
Он не думал, что с ним будет, если его отловят. Он предпочитал не думать об этом.
На худой конец, оставалось последнее средство.
Если его поймают во время побега и вернут обратно в палату, все равно оставалась Ангелина.
И оставался – в ее кабинете – ее стеклянный шкаф с лекарствами.
Пачка снотворных. Любой сильнодействующий яд. Можно отравиться даже обычным димедролом – Санька Клещ, бравый скин, когда какие– то фраера пришили его девчонку на Москворецком мосту, сперва пырнули скобой в бок, потом сбросили в Москва– реку, съел пятьдесят таблеток димедрола и отбросил коньки.
Если он не добудет ключ от стеклянного шкафа, как добыл от шкафа со своей одежкой, он разобьет стекло. Якобы в припадке ярости. Ревности. Она не заметит, как он украдет “колеса”.
Тот наркотик, что Зубр подарил ему перед побоищем на Черкизовском рынке и он ловко приклеил его лейкопластырем за ухом, он искурил уже давно. В больничном туалете. И Лию угощал. Она так благодарно блестела на него своими огромными круглыми черными глазами!
Бежать. Травка выкурена. Любовь выпита. Больница обрыдла. Скины запороли дело. Пустота. Заполни пустоту бегом, Бес.
Ты Бес, помни, что ты Бес.
Ты Бес, Бесенок, и ты еще покажешь им всем…
Он не мог бы точно сказать, как ему приходили в голову всякие точные, верные и четкие мысли, влекущие за собой четко рассчитанные движения. Он пробрался на кухню и состроил глазки молоденькой, как он сам, раздатчице. Пока она, дурында, улыбалась ему в ответ, он незаметно стянул с металлической стойки буханку ржаного, а с ней и нож– хлеборезку. Молниеносно спрятал под пижаму. Потом – под матрац. Выкрасть одежду из Ангелининого шкафа было делом техники. Он дождался в коридоре, пока она выйдет, гордая, в белой шапочке, как в снежной короне, из кабинета, направился вроде как в туалет, а потом прошмыгнул в кабинет – она не закрыла его, значит, отошла ненадолго, и надо было успеть. Он затолкал под пижаму куртку и штаны, изрядно потолстев с виду. Судорожно оглядел “гриндерсы”. Куда их– то девать?! Сейчас из– за угла как высунется какой– нибудь санитар, пойдет вразвалку навстречу – Степан, Дубина, Марк…
Делать было нечего. Он сдернул тапки и засунул ноги в солдатские ботинки. Опустил как можно ниже пижамные порты. И опрометью ринулся в палату.
И юркнул под одеяло – прямо в “гриндерсах”. И замер. И не пошел ни на какой ужин.
А к утру, когда стало светать, он пробрался в захламленную каптерку к сестре– хозяйке, спрятался в шкаф со старым больничным списанным хламьем, в пахнущие хлоркой старые штопанные пижамы и халаты, и, слегка приоткрыв дверцу, стал жить в тряпье, как живут насекомые. Он дышал струйкой воздуха. До него доносились голоса из коридора. Он слышал, как она, стерва, кричит: “Больной Косов! Вы не видели больного Косова?” Пусть она думает, что он уже убежал. Пусть свыкнется с этой мыслью. Их ожидание притупится, и тогда можно будет действовать.
И четыре дня, четыре бесконечных дня он сидел в старом шкафу сестры– хозяйки, и далеко, как в призрачном странном мире, как в наркотическом оттяге, звучали вокруг него голоса, стуки, крики, смех, грубые возгласы, гудки, грохот тележки, на которой из страшной двадцатой комнаты везли потерявшего сознание после ЭШТ; и он говорил себе: ну вот, еще немного, еще один день, и ты можешь начинать.
И, дождавшись пятой ночи, он заявился к себе в палату, чтобы попрощаться с теми, с кем свела его судьба.
Сначала он осторожно, боясь издать лишний шум, прилег на койку. Ему удалось это сделать бесшумно – так же, как войти в палату. Окно прочерчивала черная крестовина рамы. “И здесь Кельтский Крест, – подумал он, – и здесь он глядит на меня из тьмы”. Он привстал на койке и огляделся. Чуть скрипнули пружины. В палате все спали. Суслик похрапывал, вздернув мордочку. Он посмотрел на суровое, как надгробная скульптура, закинутое к потолку лицо Солдата. “Бывай, Дементьич, – сказал он про себя, – хороший ты мужик был тут. Наилучший”. Он быстро переоделся во все свое. Вытащив из– под матраца хлеборезку, он засунул ее под рубаху. Теперь надо было миновать три кордона охраны. Медсестру на посту. Дежурных санитаров. Охранников– дежурных внизу, на лестничной клетке. Он подозревал, что была еще одна охрана – снаружи, за воротами, за высоким каменным забором. И явно там была мощная подсветка, прожектора. На миг он подумал о том, что, если его поймают, он всадит себе нож под ребро. Глупо, зато красиво. И очень больно, должно быть.
Он, озираясь, двинулся по коридору. В животе громко урчало от голода. Он ударил по животу кулаком: уймись, противный. Медсестра дремала за столиком под лампой. Вскинулась на шорох шагов. “А, это ты, Косов?.. – лениво потянулась. – Куда почесал?..” Приспичило, буркнул он. Дверь туалета была рядом с дверью на лестницу. Там, у лестницы, стояли – или сидели на табуретах – дежурные санитары. Их было двое. Кто дежурил сегодня? Он вошел в туалет. Подглядывал в дверную щелку за медсестрой. Когда она, вздохнув, снова склонила голову на руки – дремать, он выскользнул из туалета и выбросил тело в коридорную дверь.
Дверью он зашиб санитара, стоявшего как раз напротив и закуривающего сигарету. Санитар выругался, потер шишку на лбу. Это был Степан. Кроме последних матюгов, он больше ничего не успел сказать. Хлеборезка вошла ему в грудь точнехонько в сердце. Второй был Дубина. И это было плохо. Дубина кинулся на него. Умело захватил за шею, начал давить, душить, яростно при этом выдыхая ему в ухо: “Гад, сявка ползучая, мать твою, мать…” Он собрал все свои силы. Воздуха не хватало. Захват был мощнейший. Кунг– фу, как Ангелина, он не знал. Его нога дернулась, деревянно вытянутые, в судороге задыхания, пальцы попали Дубине в мошонку. Дубина взвыл, ослабил захват, и он саданул хлеборезкой его в живот – снизу вверх. И еще, и еще раз, пока грузная туша на кафельном полу перестала дергаться.
Все – пол, нож, его руки и лицо, оба поверженных тела, стены – было в крови. Он утер лицо исподом кожаной куртки. Слетел по лестнице вниз. Мирно дремлющий охранник в камуфляже не успел пикнуть. Он, налетев, как коршун, резанул его по горлу. Выхватил из его кобуры пистолет и для верности выпустил ему еще пулю в приоткрытый рот.
Вылетел вон – выход был свободен.
Наверху, на лестничной клетке, раздался истошный крик. Это кричала медсестра, увидев трупы. Она уже явно нажала кнопку внутрибольничной сигнализации, надо торопиться.
Весенняя ночь пахнула ему в лицо свежестью, забытым теплом, волей. Воздух опьянил его. Он подлетел к воротам. Они были закрыты, все правильно. Шлагбаум для машин, будка охранника – пропускной пункт. Из будки уже выбегали двое, уже палили в него из своих пушек. Пули свистели мимо. “Я в рубашке рожден, – подумал он зло, – но сейчас, Бес, прострелят твою рубашку за милую душу”. Он вскинул руку с пистолетом и почти вслепую выпустил пули в стрелявших в него. Кажется, он в кого– то попал – раздался крик. Он подбежал к воротам и выстрелил еще, еще. Упал и второй охранник, держась за грудь. Как открываются эти чертовы ворота?! Он ринулся в будку. Ага, пульт, и кнопки. Одна красная, другая черная. Он нажал черную. Ворота стали разъезжаться в стороны, как речные шлюзы. “Ага, в этой игре я поставил на черное, и мне повезло. Нет, Бес, на красное ты тоже сегодня ставил”. Он посмотрел на свои руки, все в крови.
Выбежал в прогал ворот.
Сзади, за ним, уже душераздирающе выла сирена сигнализации.
Он, оглядываясь, побежал. Шатнулся вбок, в первый подвернувшийся переулок. Он не знал, в каком районе Москвы – или ближнего Подмосковья – он находился. Улицы были ему незнакомы. Хорошо бы здесь рядом был какой– нибудь водоем, речка, озеро, подумал он, надо вымыться, почиститься. И выбросить в водоем нож.
Пистолет он выбрасывать не стал. Он прекрасно понимал, что оружие ему еще пригодится.
Очень пригодится.
Стук подошв “гриндерсов” гулко отдавался в каменных трубах улиц. Он выбежал на берег канала. Зашвырнул нож в воду. Пробрался среди голых кустов тальника к плещущей воде. Сел на корточки, отмыл кожаную куртку, скинул штаны, прополоскал их, натянул мокрые. Умылся. Ощупал пистолет в кармане. Жизнь начиналась. Смерть начиналась.
… … …
– Почему гибнут наши командиры?! Почему их стреляют, как зайцев, одного за другим?!
Он стоял на трибуне в Бункере. Он обводил глазами всех, кто набился в Бункер под завязку – так, что в спертом воздухе тяжело было дышать.
Он смотрел на своих бритоголовых солдат и понимал: или это будет твой триумф, Ингвар Хайдер, или низвержение. Тебя могут сегодня низвергнуть с твоего трона. Все будет зависеть от того, куда ты поведешь свое войско.
Ты всегда был хорошим стратегом, Хайдер. Не обломись.
Они уже переварили свое поражение. Они возмущены ожерельем убийств их лидеров. Они хотят возмездия и справедливости. И, голову на отсечение, многие из них вообще не понимают, куда идти, что делать и, как водится, кто виноват. И это ты, ты, Хайдер, должен им это показать.
Или хотя бы сказать.
Иногда два слова решают судьбу мира.
Говори. Не молчи. Иначе они все скажут за тебя.
– Ты что, Вождь, не можешь прекратить этот маразм?! А то мы сами прекратим…
– Может, разумнее было бы податься сейчас из Москвы вон?! Нам есть куда укрыться, пересидеть!..
– Ты, Фюрер… А может, пацаны, нам пора выбрать нового Фюрера, а?!..
Вот оно. Слово сказано.
Этот вожак не устраивает стаю – давай загрызем его и выберем нового.
– А что!.. И выберем!..
– Хайдер, ты слышишь?!.. Ты считаешь, песенка твоя не спета?..
– Эй, брудеры, а это мысляк!.. Если вождь дурак – его скидывают к едрене– фене!..
– Пьедестал свободен, господа…
Он вцепился пальцами в край трибуны.
– Пьедестал не свободен! – Его зычный рык потряс Бункер. – Пьедестал, господа, еще занят! А ну– ка! Вскинули головы! Посмотрели вверх! Да, да, вверх, сюда! На меня!
Они все еще подпадали под власть его рычания.
Они все, по его команде, задрали головы и уставились на него.
Они притихли.
И в наступившей тишине, когда взгляды всех скрестились, сошлись на нем одном, застывшем, как ледяная глыба, на трибуне, он сказал размеренно и четко, тяжело чеканя каждый слог:
– Хотите умереть – умирайте. Я поведу вас на смерть. Или вы хотите жить?
В звенящей тишине раздался одинокий голос:
– Было бы за что умирать! За что жить – всегда найдется!
Хайдер сжал зубы. На его скулах перекатились железные катыши желваков.
– Смерть стоит того, чтобы жить, помните Цоя? А жизнь стоит того, чтобы умирать. Вы хотите нового штурма? Я поведу вас на штурм. И вы умрете героями.
– На штурм чего?! – Крик Зубра, высокий, фальцетный, взвился к потолку. – На штурм твердынь?! Или на штурм фантомов?! Призраков?!
– А вы сами не призраки? Вы сами – настоящие или только снитесь себе?!
Снова воцарилась тишина. В полутьме Бункера слышалось дыхание, сопение, хрипы, шмыганье.
– Ну ты, как это мы можем себе сниться… Мы же все не нарки, шеф…
– Фюрер, Фюрер, что ты мелешь…
Его пальцы, вцепившиеся в доски трибуны, побелели.
– Итак, вы хотите жить! И вы хотите нового вождя! Извольте! Называйте кандидатуры! Я сам буду выбирать его! Нового! Вместе с вами! И я отдам свой голос тому, кому посчитаю нужным!
Гробовое молчание было ему ответом.
– Хорошо. Вы не хотите называть имена. Вы молчите. Тогда их буду называть я!
Он еще раз обвел зал Бункера пристальным, спокойным взглядом. Его чуть раскосые, холодно– голубые, как две льдинки, глаза остановились на этом лице. Вернее, на том, что когда– то было лицом.
– В новые вожди я выбираю… – Он простер руку. Палец безжалостно указал. – Чека!
Уродливая маска дрогнула, перекосилась.
– Не шагай назад! Не прячься! Вперед! На трибуну! Сюда!
Чьи– то руки подтолкнули Чека в спину. Он шагнул вперед и чуть не упал.
– Ну, что же ты? Что, сдрейфил?! Вперед!
Чек поднялся. Хайдер шагнул назад. Чек не успел опомниться, как Хайдер уже впихнул его на трибуну.
И теперь все могли видеть его страшную, исковерканную, порезанную, сведенную многими шрамами рожу.
– Ну! – крикнул Хайдер. Углы его губ приподнялись. – Кто за то, чтобы Чек стал вашим новым вождем! Вашим новым Фюрером! Я – за!
И он поднял вытянутую руку выше головы.
Народ, набившийся в Бункер, хранил молчание. Чек обернулся к Хайдеру.
– Фюрер, я…
Он не дал ему договорить.
– Не слышу! – крикнул он с поднятой рукой. – Не слышу, хотите ли вы в вожди Чека!
И тут словно прорвало плотину.
Скинхеды начали кричать, горланить, размахивать руками, каждый вопил свое, кто– то сквернословил, кто– то пытался что– то недоказуемое доказать, кто– то потрясал кулаками, кто– то рвался, проталкивался к трибуне, и вмиг поднялся такой шум, что Чек закрыл ладонями уши. Хайдер приблизил лицо к его лицу и отчетливо сказал:
– Не бойся. Это они выпускают пар. Они должны выкричаться. Я спускаю пар из котлов, а потом корабль опять пойдет вперед полным ходом. Ты что, поверил в то, что они выберут тебя?
Чек смотрел прямо в ледяные глаза Хайдера. Его растянутый к ушам, изрезанный рот презрительно шевельнулся. Нижняя губа оттопырилась. Он так же, копируя интонацию Хайдера, раздельно сказал:
– Нет. Я не поверил им. Но я не поверил и тебе. С некоторых пор я верю только себе, Хайдер.
И тут произошло непредставимое. Этого не мог предугадать никто. Этого не мог никто предвидеть. На возвышение для Вождя, на трибуну ринулись из зала возбужденные, злые, заведенные нехорошим разговором скины. Такой разговорец запросто мог сделать всех будто пьяными. Они и сделались.
Они рванулись к Хайдеру, к Чеку, схватили их, отбросили в сторону, толкали кулаками в бока, подминали под себя, крутили, швыряли – и отшвырнули прочь. Они все сразу, скопом, лезли на трибуну, стремясь перекричать друг друга. Трибуна зашаталась, рухнула вниз, в зал. Ее живо разломали на доски. Хайдер и Чек наблюдали стихию. Вот она, неуправляемая буря. Хайдер, ты думал – ты управляешь ими?! Еще одна иллюзия развеялась. Это они управляют тобой. Вернее, они не управляют ни собой, ни тобой, ничем и никем. Им нравится быть свободной бурей. Им нравится раскинуть черные руки на все четыре стороны света. Им нравится катиться черным колесом, коловратом – посолонь или противосолонь, все равно. Все равно колесо прикатится в бездну. Все равно колесо разрезало глупый, как пробка, мир на две неравные части. И они все – на той стороне, где кладут камень в протянутую руку. Где целуют раскаленным железом. Где смеются тебе в лицо, когда ты плачешь. Хайль!
– Фюрер, – крикнул Чек, – Фюрер!..
– Я не твой Фюрер. Я уже ничей не Фюрер, – усмешка, как всегда, спокойная, рассекала надвое каменно– твердое лицо Хайдера. – Они низвергли меня. Они погибли.
Вечером он позвонил Ангелине. Он хотел сказать ей: благодарю тебя, дура, идиотка, за то, что ты, убрав моих генералов, сделала так, что они все восстали против меня. Спасибо, ты сделала все с точностью до наоборот. Ты хотела блага мне – а получился позор. Женщина, зачем ты, кляча, суешься в мужские игры?!
Так хотел он сказать ей. Никто не брал трубку. Он набирал номер ее мобильного телефона еще и еще раз. Ни мягкого ангельского воркования: “Абонент временно недоступен…” Ни гудков отбоя. Ни извинений по– английски. Молчание. Космические хрипы. Звучание вакуума.
Он нажимал на клавиши еще сотню раз, прежде чем понял, что телефон отключен.
ПРОВАЛ
Он идет. Вот он идет.
Песенку сквозь зубы насвистывает. И дела ему нет никакого до меня.
Остановился под фонарем. Закуривает. Постоял, покурил. Пошел. И я – за ним. Из фонарного света мы оба переходим в тьму. Потом он опять выходит на свет, а я остаюсь во тьме.
Он идет беспечно, бросая недокуренную сигарету на асфальт, он задирает голову и смотрит на освещенные окна домов; и он не знает, что я иду за ним.
Это моя новая мишень.
И я попаду в нее с лету. В десять очков. В яблочко.
Куда лучше выстрелить? В лицо? В затылок? В спину?
Если бы убивали меня – лучше не бывает получить пулю в грудь. И видеть при этом лицо того, кто в тебя стреляет.
Может быть, мне выйти из темноты, чтобы тот, кого я убиваю, увидел мое лицо?
Рискованный номер. Вдруг у него тоже пистолет, и он станет защищаться?
Моя новая мишень. Моя новая добыча. Моя новая дичь.
Я перестреляю вас всех.
Ведь предсказал же когда– то этот пророк, этот французский дядька Нострадамус, который жил пес его знает сколько лет назад, а он был, надеюсь, далеко не дурак, и, может быть, он действительно видел будущее ярко и ясно, во всех жутких подробностях: пойдет по улицам ночного города женщина в черном плаще, и в руках ее будет оружие, и будет она разить, убивать, мстить, казнить, издеваться и смеяться над всеми, кто…
Женщина? Женщина в черном плаще?
Ну да, женщина… Женщина в черном плаще…
Женщина…
Моя мишень, ты хочешь женщину? Обломится тебе.
Нет, неправда, не обломится. Пуля ведь тоже женщина.
Я вытягиваю руку. Дичь все ближе. Он идет по улице, по которой ходил тысячу раз, и днем и ночью, и не думает ни о чем плохом. А я знаю все улицы, по которым ходят все мои мишени. Все адреса. Я убью и этого… чтобы он больше никогда…
Выстрел! Отдача.
Отдача в плечо.
Плечо болит от выстрела.
У того, кто упал на ночной улице передо мною, уже ничего не болит. Дернулся раз, другой. Затих. Придется сшить черный плащ, чтобы обмануть беднягу Нострадамуса.
И еще кое– кого обмануть.
Того, кто ищет меня.
А тебя разве ищут?!
Ищут, и еще как. Думаешь, нет?
… … …
Убили Люкса. Убили Железного Жеку. Убили Тука.
Убили Сашку Дегтя.
Когда убили Сашку Дегтя, половина тех скинхедов, что были завсегдатаями Бункера, свалили вон из Москвы – кто куда. По друзьям, по родным в разные города и веси. Липучка подался вообще за границу, в Варшаву, завербовался работать. Даллес рванул в Питер – у него в Питере были друганы брата– вора, он кинул на прощанье: “Лучше подучусь фраеров жирных грабить, чем ихние тачки в хлам колошматить. Я сам себе хочу тачку купить!” Паук исчез тихо, не афишируя отъезд; по слухам, он укатил в Сибирь, к новосибирским скинам. Куда сгинул Бес, никто не знал. Он вроде бы торчал в больнице; но он же был тогда на собрании перед Хрустальной ночью, был, все его видели, живьем; а потом он снова куда– то провалился; может, телку нашел, загулял? Та свалка в Бункере кончилась ничем. Никого в Фюреры не выбрали. Никого не убили и не побили. Так, потолклись, как мошкара в столбе света, и разбежались, плюя под ноги, матерясь. По дороге накупили пива, оттянулись. Зубр потерял подтяжки, шел, поддерживая пятнистые штаны руками. Ржал как конь: “Если меня щас убьют выстрелом из– за угла, я, блин, пацаны, такой счастливый буду, бля, мне щас море по колено”.
Назавтра в Бункере поминали Сашку Дегтя, Люкса, Тука и Жеку. Набрали ящиками водки, палками – колбасу, принесли сетку лимонов, пили, пели, ели, орали и плакали, как дети, размазывая слезы по красным от водки лицам. Хайдер в Бункере больше не появлялся.
И этот, Уродец, не появлялся тоже.
И эта его слепая девка, чернушка, раскосая Дарья, тоже как провалилась.
… … …
– И что ты мне хочешь сказать хорошего, Ефим Елагин? – Она постаралась придать своему голосу максимум холодного равнодушия, подпустив для верности в тембр щепотку пряной игривости. – Соскучился? Прости, но я ни с кем, друг мой, больше одной ночи…
– Извини, Ангелина. – Голос в трубке был тверд, на ощупь гораздо холоднее ее голоса. – Мне сейчас не до интима. Оставим это до другого… более спокойного… времени. Ты знаешь, почему я звоню тебе? И так поздно? Извини, что так поздно.
– Да уж извиняю. Что стряслось?
Опять цепкой когтистой лапой сжало сердце.
– Да ничего особенного. В меня стреляли. На улице. Только что.
– Кто? Зачем?
Она с трудом подавила желание закричать.
– Не знаю, кто это. Я увидел – женщина. Черный плащ, ветер рвал его. Такой широкий, как балахон. И, знаешь?..
Он замолчал. Она слышала в трубке его дыхание.
– Ну?!
– Апрельские ночи светлые. Ее лица я не увидал. Я хорошо различил ее волосы.
– При чем тут волосы?..
Ее сердце билось все сильнее, все чаще. Готово было выпрыгнуть из тисков ребер.
– Они были красного цвета. Как у тебя.
Пляска сердца продолжалась. Если бы она могла, она бы посмеялась над собой. Но она не могла смеяться.
– Вот как?..
– Ты сейчас дома, Ангелина?
– Я только что вошла домой. – Она с трудом скрывала от него учащенное дыхание. – Я была в гостях. Это допрос? Ты хочешь сказать, что это я стреляла в тебя?
Она заставила себя расхохотаться – сухо, холодно, отчетливо, будто дробно, мелко застучали кастаньеты.
– Я ничего не хочу сказать. Я слушаю тебя. Я позвонил потому, что я, можно сказать, чудом спасся. Я чудом остался жив, слышишь, Ангелина? Когда в тебя стреляет женщина с красными волосами, в черном плаще, и ты пригибаешься в последний момент, и кидаешься в первый попавшийся подъезд, и звонишь в первую попавшуюся дверь, и тебе, слава Богу, открывают, не боятся, а могли бы и не открыть, сама знаешь наших напуганных обывателей, и у тебя в ушах еще свист пуль, ах, какая дивная музыка, передать тебе не могу, когда все это вот так происходит, и я наконец дома, и самое лучшее, что я могу придумать – это позвонить тебе, что я могу тебе еще сказать? А?
– Значит, ты уже дома.
– Да, я дома. И ты дома. Мы оба дома, ах, как это приятно.
– Отец знает?
– Почему ты спрашиваешь про отца? А не про мать? Тебя интересует мой отец? Отец сейчас в отъезде.
– Где он?
– Кайфует на своей яхте в Средиземном море. Где– то у берегов Израиля… или Сирии. А может, он уже в Греции. Он не звонил дня три. Я его не тревожу. Возможно, он там с любовницей, черт его разберет. А матери я сразу сказал. И пожалел, что сказал!
– Почему?
– Она вся побелела. Я думал, с ней будет инфаркт. Она начала падать. Так и повалилась на пол. Ели бы я не поддержал ее, она расшибла бы себе голову. Навзничь падала. Ты врач, что ей посоветуешь дать из лекарств?
– Ничего особенного не давай. Не пичкай сильнодействующими. Может быть обратный эффект. И только не давай эуфиллин. Он иногда дает странную сердечную реакцию. И импортных снадобий не давай. Дай обычные средства. Корвалол, валидол… можно нитроглицерин под язык. Сосуды расширятся быстро. Она нитроглицерин переносит?
– Вроде да. Она же еще, дурочка, так много курит в последнее время. За меня переживает. Ей все казалось, что меня убьют на улице. Вот – допереживалась. Я на всякий случай выбросил к черту у нее из комнаты все сигареты.
– Глупый. Купи ей сигарет снова. Курильщику нельзя резко бросать курить. Ты говорил, я помню, что она в прошлом была певицей, как же она так много стала смолить? Певцам ведь запрещено.
– Певцы и пьют и курят, знаешь ли. Это их личное дело. Я не знаю, когда она пристрастилась к этому делу. Я с детства помню ее с сигаретой в зубах. Даже когда мы ездили в машине, она курила, а отец ее ругал ругательски. Ангелина!
Она вздрогнула, сжала трубку в руке.
– Да?
– Может, ты приедешь к нам, посмотришь ее? Ты ведь врач.
– Я не терапевт. Я психиатр. Вызывай “скорую”. Посмотри на часы.
– Вижу, полвторого ночи. Если ты можешь прийти из гостей полвторого и еще не раздеться, тебе проще пареной репы сесть снова в машину и ехать ко мне. Адрес я тебе скажу. Коровий вал, одиннадцать…
У нее чуть не вырвалось: “Я знаю!”
– Или ты предпочитаешь, чтобы я заехал за тобой?
– А ты не боишься? – Она сглотнула слюну. – Если тот… та, кто в тебя стрелял, притаился в кустах?
– Я поеду с бодигардом, и он хладнокровно расстреляет любые кусты, которые хоть чуть– чуть пошевелятся. Рояль в кустах разнесем в щепки. Ангелина, я еду или ты?
– Хорошо. Я. Номер квартиры?
Она нажала на отбой. Ее лицо было совсем белым, цвета камчатной скатерти, недавно подаренной ей подлизой санитаром Степаном. Тем самым Степаном, которого убил этот гаденыш.
… … …
Дарья бежала, бежала, бежала по улицам сломя голову.
Она бежала и задыхалась, и ловила ртом воздух. Чуть не сшибла женщину с маленькой девочкой – налетела на них с размаху, женщина закричала: “Куда прешь!” Она бежала на стук, на звук, иногда с тротуара сбегая на мостовую, шарахаясь от шороха и гудков машин, определяя дорогу – по бензинному запаху, тротуар – по разноголосице мимохожей толпы. То и дело грудью налетала на людей, идущих мимо, и ей вслед кричали: “Идиотка! Бешеная!” Наконец ей – она поняла это по тишине, охватившей ее – удалось выбежать в пустынный переулок. Она хотела перевести дух, замедлить бег – и не смогла.
По пустынному переулку она бежала так же, как и по многолюдным улицам – резко дыша, размахивая руками, слегка наклонившись вперед. То, что она была слепа, выдавали лишь руки, время от времени вздергивавшиеся вперед и вверх, ощупывавшие перед собой воздух. Иногда она растерянно покачивалась, едва не падала на бегу. Но потом, распрямившись, опять бежала, и рот ее вглатывал воздух, ноздри раздувались, кровь прилила к смуглым щекам, с висков тек пот.
О чем она думала, когда бежала? Ни о чем. Она хотела спастись. Она знала: Бог есть, если дал ей, слепой, на ощупь спуститься по водосточной трубе, свешивавшейся вниз, с крыши, около окна этой страшной женщины, заманившей ее к себе. Труба не прогнулась под ней, не оборвалась жесть, она не сорвалась с высокого – с какого? шестого? седьмого? пятого?.. – этажа, доползла до земли. Если захочешь жить, жить будешь обязательно. Она знает, за что покарал ее Бог. За то, что она тогда, в Хрустальную ночь, стреляла, смеясь, под руководством Нострадамия в живых людей, и, кажется, кого– то убила. И чуть не убили ее. Еще немного… чуть– чуть… хорошо, что в спальню никто не вошел…
Вперед. Вперед. Надо бежать.
Бежать, пока не остановишься.
Пока кто– то – не остановит.
Пробежав тихий проулок, она, рванувшись вперед, зацепилась ногой за ограду газона и упала больно, плашмя, ничком, в газон, напоровшись грудью на куст шиповника. Шипы порвали платье, оцарапали кожу до крови. Она разбила лицо о камни, выпачкалась в земле, в грязи. Тяжело дыша, сидела в газоне, вытирая щеки слепыми руками. Из глаз ее текли медленные слезы.
Так, сидящую в грязном весеннем газоне, беззвучно плачущую, ее и нашел Витас.
– Девочка, ты чья? Кажется, так говорят, когда маленькие девочки теряются и вдруг находятся?
Витас наклонился над сидящей во вспаханном газоне, прямо на земле, красивой девушкой с растрепанной длинной, густой черной косой. Девушка вытирала грязное лицо руками. По ее подбородку текла кровь. Ее остановившиеся глаза смотрели в одну точку.
– Ну? Будем говорить? Ушиблась? Дай– ка я тебя отсюда выну. Закидывай мне руку за шею. Вот так. О– о– оп!..
Витас, в джинсовом дорожном костюме, с дорожной сумкой через плечо, присел на корточки, подхватил замызганную девчонку под мышки и под коленки – и одним рывком поднял из газона.
Она сидела у него на руках, обнимая его за шею. Ее глаза по– прежнему смотрели в одну точку в пространстве.
“Черт, – подумал Витас, – расселась, как у себя дома. Как на троне. И ни слова не говорит. А сидит как изящно, словно на коне. Может, ее изнасиловали? Непохоже, белый день. Господи, я опоздаю в Шереметьево! Мой самолет улетит!” Он посмотрел в лицо девушки – оно было совсем близко. В незрячих глазах томилась, стыла такая тоска, что у Витаса защемило сердце.
– Ты немая, что ли?..
Она крепко обнимала его за шею рукой. Может быть, она иностранка? Китаянка… кореянка?.. и ни шиша не понимает по– русски…
– Do you speak English?..
Она сидела у него на руках безмолвно. Он вдруг почувствовал странное волнение. Кровь бросилась ему в голову. Сладкая, приятная тяжесть девичьего тела, которое он держал на руках… опасная близость юной груди… эта тонкая алая струйка крови, запекшаяся на подбородке… этот запах черемухи, обволакивающий его всего… Еще неиспытанное им, сильнейшее возбуждение подняло его всего, как коня, на дыбы. Он крепче прижал к себе девушку. Она откинула голову. Ее губы дышали, вздрагивали совсем рядом с его губами. И Витас, не сознавая, что делает, припал жадным ртом к ее окровавленному рту.
Соль крови. Бьющийся рыбой язык. Нежная горячая кожа. Горячая, огненная печать лица. Горячие руки, обвившие его шею.
Когда он оторвался от нее, он снова заглянул ей в лицо – и тут заподозрил неладное. Глаза, эти не подвижные глаза. Как у статуи. Как нарисованные.
Нарисованные на его фреске.
– Ну что, будем говорить… – начал он, как на допросе.
И осекся – быстрые, горячие поцелуи мгновенно, теплым слепым дождем, покрыли его лицо. Девушка целовала его и плакала. Грязь на ее лице, кровавые потеки на подбородке мешались со слезами и поцелуями Целуя его, она шептала. Он наконец разобрал, что:
– Спасите меня… спасите… спасите…
“Отрадно, что она говорит по– русски”, – подумал Витас, стоя с незнакомкой на руках под дождем поцелуев.
– От кого я должен тебя спасти?
– От одной женщины. Она хочет меня убить.
Девушка прильнула к его плечу, сделавшись совсем маленькой, птенцом, просящим защиты у большой птицы. Витас растрогался.
– Ну хорошо, хорошо… – Сумка оттягивала ему плечо. Сладкая тяжесть девушки, сидящей у него на руках, заставляла напрягать мышцы. – Только… куда же я тебя сейчас дену? Господи… куда же? Мне же, душечка, в аэропорт надо успеть. К самолету. В Шереметьево. Я за границу лечу. Что же нам с тобой делать? Ты бежала? Тебя преследуют? Ну хорошо, ладно… поехали пока со мной в Шереметьево, там разберемся…. Я оставлю тебе ключ от своей мастерской… если ты, конечно, не воровка, хм…
Он искоса посмотрел на нее. Она спрятала лицо у него на груди.
– Бог ты мой, сколько телячьей нежности… Ну все, хватит. Можешь стоять? – Он осторожно поставил ее на асфальт. – Погоди, я такси поймаю! Уже никаким рейсовым автобус я не уеду!
Такси тормознуло рядом с ними. Уже в машине Сафонов, с любопытством косясь на девчонку, спросил:
– Ты москвичка или приезжая? Транзитная пассажирка… или?.. Ты россиянка?
– Меня зовут Дарья, – сказала Дарья.
– Это радует. Дарья, значит, – сказал Витас и потрепал себя за русый ус. – А я вот Витас. Только не зови меня Витя, умоляю. Я Витас. Это литовское имя. Дарья, я не спрашиваю тебя, что с тобой стряслось. На тебе и так лица нет. – Он достал из кармана джинсов носовой платок, вытер ей грязные щеки и кровь с подбородка. – Сложность в том, Дарья, что я сейчас улетаю за кордон. Далеко. И надолго. И вся проблема в том, куда тебя пристроить, пока я буду при деле. Ты говоришь, ты не воровка! Это утешает.
Он погладил ее по спутанным черным волосам. Таксист равнодушно вел машину. Серая лента дороги летела под колеса.
– Куда вы летите? – спросила девчонка. Ее голос на звук был тонок и хрупок, как богемский хрусталь.
– В Иерусалим. Ты знаешь, есть такой город – Иерусалим?
В полумгле салона такси он увидел, как просветлело ее смуглое лицо.
– Знаю.
– Пятерка по географии в школе?
– Я там была. Недавно.
– Фью– у! – он присвистнул. Пристальнее поглядел на нее. Эти остановившиеся глаза… Почему она так смотрит… Все вперед и вперед перед собой… Следит за дорогой?.. – И что прелестная мисс там делала?
– Помогала одному человеку.
– Кому?
– Отцу Амвросию. Правда, я плохо помогала ему. Я слепая.
Витас прижал пальцы ко рту. Возможно, она говорит про другого священника! Мало ли на свете отцов Амвросиев! Боже, Боже, она же слепая, как он не догадался…
– У тебя с собой, конечно, паспорта нет?
– У меня его вообще нет. Он остался у Амвросия. Я ушла от него. Я ушла к скинам.
– К кому, к кому?..
– К скинхедам. Я люблю скинхеда. Его зовут Чек. Меня хотела убить одна злая женщина. Кажется, она очень богата. Зачем вы спросили про паспорт?
– Чтобы взять тебя с собой сейчас же в самолет, – твердо сказал Витас, сам не понимая, что с ним происходит. – Хорошо. Сделаем проще. Авось выгорит. Я сильно знаменит, душечка. Так знаменит, что – у– у– у! Еесли в аэропорту я скажу, что я, знаменитый художник Сафонов, срочно должен вывезти в Иерусалим натуру, нужную мне позарез, вот увидел девочку на улице, она мне не то чтобы понравилась – это идеальная натура для центральной фигуры моей фрески, для всей моей композиции… ну, что– нибудь такое я намолочу им, конечно!.. И дело может выгореть… Может, может… – Склонив голову, он исподлобья изучал ее слепое лицо. – Особенно если я вдвину им в окошечко кассы лишние двести долларов… как бы сверху… как бы в нагрузку…
– Вы берете меня с собой?
Казалось, она не удивилась.
– Быстрее! – кинул он таксисту. – Набавляю плату! Мы опаздываем! Мы, с моей натурой…
Слезы, прозрачные светлые слезы текли по ее смуглому грязному лицу.
Она не сказала ему, что она беременна.
Когда из аэропорта они приехали в отель, он взял ее тут же, сразу же, не разбирая отельной застеленной кровати, не сняв с нее ее испачканного платья, лишь задрав юбку. Она покорно отдавалась ему. Как часто платила она мужчинам плату своим телом! За все: за еду, за несвободу, за свободу, за любовь, за ненависть, за жизнь. Когда она устанет жить, она заплатит своим телом плату за смерть.
А когда он, отмыв ее в душе, расчесав ей ее длинные черные космы, купив ей в ближайшей лавке, за пару шекелей, простое платье, белый античный лоскуток, еле прикрывающий зад и бедра, и плетеные сандалии, привез ее в храм, где работал, и где уже огромная, как сама жизнь, фреска закрывала своею мощью, рушащимися и восстающими из тьмы фигурами полнеба и полмира, – и когда он поставил ее, в этом чисто– белом платьишке, около фрески, он понял, что лучшей натуры для центральной женской фигуры – девушки, которую пришедший судить земное человечество Бог – единственную из всех – берет за руку, прикасается к ней огненной дланью Своею – он и не мог придумать.
“Как тут и было! Встань, встань вот так! И протяни руку! Дай руку мне! Да, вот так, вытяни вперед!.. Хорошо!.. Отлично!..” – кричал он в возбуждении, прыгая вокруг нее, махая руками, крича, подскакивая к ней и вертя ее вправо, влево, то отгибая ее стан, то разбрасывая в сторону ее руки, будто бы она была пластилиновая, гуттаперчевая. Она терпела. Вдыхала запах лампадного масла – православные священники из храма Гроба Господня нанесли сюда художнику масла для лампад, он зажигал лампады повсюду, по стенам, чтобы ночами ему не было так страшно, чтобы больше не приходили дикие видения.
Он не сказал ей, что знаком с Амвросием.
Зачем девчонке все знать.
Много будет знать – скоро состарится.
Она позировала долго, терпеливо. Стояла, закусив губу. Слепые глаза в свете лампад блестели красным, зловещим светом. Наконец она изнемогла, уронила руки вдоль тела, сказала: “Витас, я устала. Можно я немного отдохну?” И свалилась как сноп, и упала – прямо около свежезамазанной, сырой фрески, около своей же фигуры, намалеванной им сегодня ночью – в этом белом коротком платье– лоскуте. И уснула, разбросив руки, раскинув бесстыдно ноги, с открытым, как у младенца в колыбели, пухлым ртом.
Витас гадал, моя кисти в банке: с каких пор она была связана с Амвросием? И в чем заключалась ее помощь ему? Слепая же не может переписывать поддельные документы. Слепая не может приходить на явки. Зачем Амвросию была слепая? Вот ужо он ему позвонит. Вот ужо спросит он его. Дарью, мол, такую не знаешь? Возвращение блудной дочери, вечный сюжет, ха– ха?..
Да нет, все очень банально… Жил Амвросий с ней, с этой девчонкой… Соблазнительная она, это верно… Фигурка такая…
Сроки приходят. Сроки исполняются. У него осталось десять дней, чтобы закончить фреску. Он и так с ней долго проваландался. И ему эти ребята, чернорубашечники, заплатят вторую половину гонорара. Аванс был такой, что ни в сказке сказать. Каков будет расчет?
Десять дней. Потом надо поставить Амвросию партию товара.
Москва ждет его.
Ангелина…
Бестия…
Он вымыл кисти. Связал их в пучок. Девчонка спит. Даже слегка похрапывает. У нее слишком много впечатлений. Он глянул на часы. Три часа ночи, ну конечно, как всегда. Апрельские ночи здесь светлы, скоро небо начнет розоветь. А ведь скоро Пасха. Ну да, как он не догадался – эти его заказчики хотят, чтобы он сдал работу перед Пасхой! Сегодня пятница. Через три дня, что ли, – Страстная неделя?
Тихий звон раздался позади него. Шея внезапно налилась чугуном. Он хотел обернуться – и не мог. Звон усилился. У него подкосились колени. Странный голубоватый свет полился из– за его плеча. Медленно, очень медленно, шепча пересохшими губами молитву, путаясь в древних, нетвердо выученных словах, он повернул голову. Голубоватый свет справа обрывался. Его заслонял черный бок тьмы. Темно– красная тьма. Он затравленно перевел взгляд на фреску. Алый нимб над головой воздевшего руки, судящего людей Страшным Судом Христа налился интенсивным светом, горел изнутри. Боже, неужели это я взял такой яркий локальный цвет, подумал он с ужасом, отступил от фрески на шаг – и тут на его плечи легли чьи– то тяжелые, холодные руки.
ПРОВАЛ
Я вижу: он всех впишет в свою фреску, этот сумасшедший художник.
Он имел столько женщин, что они встали куриной костью у него поперек горла, разодрали его изнутри и снаружи, как разодрали когда– то Орфея неистовые менады. Он поймал в свои сети столько юных мальчиков, что из них можно было составить елочный хоровод; он с мальчиками не спал, он продавал их, сбывал задорого – богатым людям, жаждущим развлечений, дарящим богатой подруге или богатому другу на ночь, на день рожденья, на время отдыха, на сколько угодно – попользоваться, а потом вышвырнуть, как обглоданную кость – мальчика, а подвернется под руку, так и девочку: живые подарки стали тогда, в его диком и непредставимом будущем, в моде, в большом фаворе.
А древность? Разве я не вижу, что было в древности?
Разве греки не любили эфебов? Разве Калигула и Нерон не устраивали кровавых пиршеств? Разве скифы не скотоложествовали? Разве султаны не строили себе роскошные гаремы?
Всякий владыка на земле наслаждался, как мог.
И время наслаждений не прошло – я вижу это, я, Нострадамий.
Когда зазвонят колокола собора Василия Блаженного, брата моего, кровича моего, юродивого, когда над землей в ночи подымется Красная Луна – красная, как дикий волчий глаз, – тогда рассечется земля надвое, и из земли выйдут все замученные. Все, кого сделали вещью. Все, кого купили и продали, разрезали и сожгли заживо, предали и оболгали.
И это они, они будут судить людей Страшным Судом – они, а не Господь Бог наш Христос, да простит Он меня за святотатство. Ибо судить должен тот, кто испытал страдание сполна.
Ты нарисуешь на своей фреске всех.
Ты не отвертишься от этого.
Тебе уже никуда не уйти.
Я положил руки тебе на плечи.
Я заставляю тебя. Я вынуждаю тебя. Я приказываю тебе.
Ибо лишь художник – летописец Земли и Луны. И более никто. Аминь.
Ангелина припарковала “форд”, опустившись вниз по каменной спирали подземного гаража. Давно она не была здесь, на Коровьем валу. Прищурившись, оглядела дом. Да, устарел, а когда– то казался последним писком роскоши. Консьерж впился в нее глазами, она ослепительно улыбнулась ему и сказала:
– К Елагиным. Лифт работает?
– Как не работает!.. конечно, работает… – залепетал маленький сухенький консьерж, вздергивая на лоб тяжелые очки, отрываясь от бульварного романа. – Естественно, мадам…
Лишь на миг она задержалась перед дверью.
И резко, коротко позвонила.
И лишь потом заметила, что дверь уже предусмотрительно открыта. Ее ждали.
Она вошла. Пустая огромная, как тронный зал, прихожая. В прихожей – фонтан, в фонтане, играя, плавают золотые рыбки, на дне мозаикой из красной смальты выложено латинское “SALVE”, на стенах – картины Витаса, ах, вездесущий Витас, кажется, ты перекормил собою новую русскую аристократию. Тишина. Она сбросила плащ на руки угрюмого бодигарда, безмолвно, как изваяние, стоявшего у двери. Цок– цок, цок– цок, каблучки. По зеркально навощенному паркету. Вперед. Туда, где она так давно не была.
Тишина. Никого нет. Это обманчивое впечатление, Ангелина. В квартире, где черт знает сколько комнат, неудивительно затеряться. Однажды у нее в гостях был известный писатель с дочкой, ее пациенткой. Она снимала девочке сильнейший логоневроз – бедняжка не просто заикалась, совсем не могла говорить. Папаша– писатель захотел в туалет, пошел – и заблудился. Дочка пошла искать его и заблудилась тоже. Они оба, блуждая по комнатам, коридорам и ярусам, встретились в кофейной комнате, оформленной знаменитым архитектором Борисом Лаврентьевым в мавританском стиле. После долго хохотали. И Ангелина хохотала тоже. И варила им кофе в медных джезвах, в горячем песке, по– сухумски.
– Эй! – крикнула она негромко в дышащую роскошью пустоту помещения. – Ефим! Есть кто живой!
Где– то далеко, она услышала это, зашаркали по паркету мягкие домашние тапки. И все снова стихло.
Она пошла из комнаты в комнату. Она прошла наискосок громадную, как пиршественная зала королей, гостиную с галактикой гигантской люстры над обеденным столом, процокала каблуками по втекающим друг в друга комнатам, оформленным по последнему дизайнерскому слову, отделанным разнообразно – то вычурно, под старину, то в жестком стиле хай– тек, то романтично, то в русском духе, с матрешками и прялками на стенах, то по– старофранцузски, с каминами и плетеными стульями, – нигде никого не было. Ни звука. Ни шороха. Ни стука. Ни голоса. Она оглянулась. Его матушка, верно, в спальне?.. Среди комнат, быстро и нервно пройденных ею, спальни не было. Комнаты были бесконечны, беспредельны, они раскидывались перед нею ожерельем пустого пространства, томили ее, тяготили, нанизывались на нить ее недоумения, ее злости, ее тоски.
– Ефим! – крикнула она громче, требовательнее. – Ефим, где ты!
И далеко, далеко, будто на небесах, на том свете, медленно и мерно забили часы.
И она слушала удары.
И ей стало не по себе.
И, когда раздались шаги сзади нее, она невольно вздрогнула, вся сжалась в пружинный комок. И подумала: надо носить с собой револьвер. Маленький дамский револьвер в сумочке.
– Геля, – раздался за ее спиной голос Ефима, – хорошо, что ты пришла. Я рад. Пойдем к Аде. Она лежит у себя. Я тебя проведу.
“Почему он называет мать “Ада”, а не “мама”? Почему он называет меня, как Цэцэг, – “Геля”, а не “Ангелина”? Что у него с голосом, он что, простудился?” – подумала раздраженно Ангелина – и обернулась.
Сзади нее в дверном проеме стоял Георгий Елагин.
– Жора, – ее губы сделались каменными, – Жора, ты… Ефим же сказал – ты на яхте…
– Да, я был на яхте, – почти беззвучно произнес Георгий Маркович. – Но, как видишь, я уже не на яхте. Не задавай лишних вопросов. Как можно меньше слов. Запомни: для Фимки мы с тобой – врач и пациент. Я твой больной. Я твой богатый пациент. Я отваливаю тебе тысячи долларов за то, чтобы ты излечила меня от психологической импотенции.
Он нашел в себе мужество подмигнуть ей. Она смотрела ему в лицо.
– Как ты? На гребне?
– На гребне. Как всегда.
Георгий Елагин всегда стоял на гребне волны. Он не мог ухнуть в яму, в губительный прогал между волнами. Ни бортовая, ни килевая качка, ни болтанка, ни ураган не колебали его.
Она шагнула к нему ближе. Каблуки перестукнули по полу. Он тоже шагнул навстречу ей. И остановился. Он будто боялся перейти невидимую грань. Черту, нарисованную мелом на паркете.
Кто из них боялся друг друга? Он ее – или она его?
Он боялся, что из ее глаз вылетят лучи и спокойный, холодный голос прикажет ему: “Спать, Елагин, спать навсегда…”? Она боялась, что он шагнет к ней ближе, возьмет ее за подбородок и холодно, насмешливо скажет: “Все, Геля, генеральный прокурор в курсе всех твоих вытребенек, доказательства на столе, спасайся бегством, подруга, только мою яхту я не дам тебе зафрахтовать…”?
Бойтесь, бойтесь друг друга, идущие резво в пристяжке.
А ты думала – снег заметет ваши общие следы? И весенние ручьи смоют кровь, что вы оба пролили?
А как быть с душами, что вы оба погубили? Сложный вопрос.
Внезапно она подумала: что бы сказал обо всем этом Хайдер, если бы знал про все? И слава Богу, что не знает. А если узнает когда– нибудь – она уже будет далеко… далеко.
Они оба стояли в комнате, стены которой были увешаны женскими украшениями. Самыми разными. И дорогими, и дешевыми. И настоящими, крупными и мелкими, брильянтами, и слащавой бижутерией. Браслетами и бусами. Колье и цепочками. Ожерельями и брошками. Даже диадемы здесь были. И колечки и перстни висели, как мелкая рыбешка, на лесках – на тонких гвоздях, по шляпку вбитых в стену. Трофеи.
Полоса серебряного мороза прошла у нее по спине, когда она подумала: их ОБЩИЕ трофеи.
– Как ты тут очутилась, я знаю. Фима позвонил тебе. Я обалдел, когда понял, что Фима знаком с тобой. Я бы не…
– Ты бы не хотел, чтобы Фима познакомился со мной ближе? – Усмешка искривила ее малиновые губы. – Успокойся, мы уже познакомились. И раззнакомились. Ты же знаешь мои обычаи.
– Женщина с обычаями – уже царица. – И его губы усмешливо дрогнули. – Так как? Пойдешь глянуть Адочку?
– Как полностью звать твою жену? Имя– отчество? Я забыла.
– Не лги. Ты прекрасно помнишь, что ее зовут Ариадна Филипповна.
– Где она?
– В своей спальне, разумеется.
– Где Ефим?
– А вот это тебя не должно беспокоить. – Он повернулся к ней спиной. – Это уже не твое дело.
Пошел к двери. Она осторожно, как кошка, пошла за ним.
Когда они выходили из комнаты, женские украшения на стенах, ей показалось, мигнули им злобно, злорадно.
Пожилая женщина с венчиком серебряно– седых, еще густых, несмотря на возраст, волос вокруг лба, с кокетливыми седыми колечками на щеках, выпростав руки поверх одеяла, лежала на высоких подушках. Она смотрела прямо перед собой. В ее больших, прозрачных как чистая вода, светло– серых глазах застыла, будто подо льдом, такая тоска, что Ангелине на миг показалось – глаза у нее не серые, а черные как ночь. Мелкая рыболовная сеть морщин накрывала ее лицо предательской вуалью. Нос заострился, рот ввалился – так бывает при тяжело болезни. Рот, и в старости не потерявший изящества, был весь в рамке морщинистых кракелюр. На туалетном столике рядом с изголовьем лежала пачка папирос. “БЕЛОМОРКАНАЛ” – было размашисто написано на вскрытой коробке. В спальне ощутимо пахло крепким дешевым табаком. Табачный дух стоял возле кровати, исходил от гардин, въелся, застарелый и невытравимый, в роскошный персидский ковер, валявшийся на полу спальни.
– Фу, Адусик, – недовольно сказал Георгий Елагин, сморщив нос, – фу, ну ты тут и накурила… Ты совершенно невозможное создание… Ты что, хочешь загреметь на тот свет? Тебе же сказано было: ни одной табачной соски в рот! Знаешь, что в рот берут в твоем возрасте?.. – Он сверкнул вставными зубами. – Валидольчик, голубушка.
– Я думала, ты скажешь: хрен.
Грубое соленое слово раздалось на всю спальню, упало тяжело, хрипло из нежных сморщенных губ. Георгий Маркович раздул ноздри. Его глаза прощупали лежащую, словно обыскали при лагерном шмоне.
– Адонька, шутки шутками, но я твои гаванские сигары забираю от тебя. Хотя бы на сегодняшнюю ночь. – Он взял пачку “Беломора”, сунул в карман брюк. – Я привел тебе врача. Посмотрите больную, Ангелина Андреевна. – Он подтолкнул Ангелину к ложу, где возлежала седовласая красавица. – Дала сегодня, видите ли, жесточайший приступ, без меня, я только что приехал домой, вернулся из вояжа, и застаю всю эту картину. Сын бормочет что– то невнятное. Я ничего не понял, понял только, что на моего парня кто– то опять на улице покусился, а жена из– за этого, перенервничав, слегла. Адочка, тебе сейчас как?..
Ариадна Филипповна посмотрела на Георгия ненавидящим светлым взглядом.
– И понимать нечего. – Она резко протянула руку к Елагину– старшему. – Дай сюда папиросы! Не самоуправствуй! Может, я ими спасусь, родимыми, а не вашими проклятыми пилюлями! – Она махнула рукой, коробочки с лекарствами полетели со столика на пол. – И понимать тут нечего! В Фимку стреляли! Фимку хотели убить! По– настоящему хотели…
Она осеклась. Прикрыла глаза тяжелыми морщинистыми веками. Закусила мелкими заячьими зубками нижнюю губу. Георгий тяжело, избычившись, глядел на нее, лежащую.
– А бывает, убивают не по– настоящему? Понарошку? Нет, курева я тебе не дам, жена. Доктор, послушайте ее! Поглядите пульс! Может, требуется госпитализация?
Ангелина подошла к кровати. Села на стул, услужливо придвинутый Георгием. Взяла старую женщину за руку. “У, вздрогнула старуха, будто ее запястье змея обвила. Отвращения скрыть не может. Да она не верит, что я врач!”
Глядя на часы, Ангелина считала пульс.
– Тахикардия. И довольно выраженная аритмия, – сухо сказала она. – Думаю, что это типичный приступ грудной жабы… стенокардии. Наполнение пульса слабое. Что вы принимали?
Старуха широко открытыми, ясно– светлыми глазами смотрела на нее. И ей сделалось не по себе от этого распахнутого, широкого и страшного, как метель в полях, взгляда.
– Сын дал мне капли. Кажется, корвалол… или нет, валокормид, меня с него в сон поклонило, – словно извиняясь, нежным и вместе с тем хриплым, как у пьяницы из подворотни, голосом сказала она. – Напичкал валидолом, я три таблетки уже высосала, анаприлином… Я просила его сделать мне камфару, у меня в аптечке и шприцы есть… он не стал, испугался. Сказал: я позвоню врачу, врач приедет… В больницу я не поеду, – она приподнялась на подушках на локтях, Ангелина инстинктивно, чтобы поддержать ее, просунула ей руку под затылок, чтобы поддержать ее, и ее пальцы ощутили на затылке, на старой исхудалой шее, странный, толстый и грубый шрам, шедший от спины к лицу, под челюстью – к глотке. – Я буду умирать дома. Позвольте мне умереть дома!
– Адочка, что ты мелешь чушь, – Георгий скривился, и нос у него сделался похож на ястребиный загнутый книзу клюв, – попридержи язык…
– Да время пришло! – Она снова вскинула веки. И снова Ангелину ожгла неприкрытая, яростная ненависть, мгновенно, как белая молния, выплеснувшаяся из светлых глаз и хлестнувшая Георгия наотмашь. – Времена ведь приходят, Жорочка! И приходится платить по счетам!
– По каким счетам, душечка? – Он сделал вид, что не понимает. Обернулся к Ангелине, понизил голос. – Ангелина Андреевна, нет ли здесь симптоматики потяжелее…
Белокурая морщинистая женщина выгнулась на роскошной кровати коромыслом, силилась подняться. Под рукой поддерживающей ее голову Ангелины страшно бугрился скрытый пушистыми седыми волосами шрам.
– Не делай из меня шизофреничку! Я слишком хорошо все понимаю! – Она прерывисто дышала. “Похоже не чейн– стоксово дыхание, как у коматозных больных, но ведь она же в коме, – бесстрастно отметила Ангелина, – скорей всего, это просто затрудненное дыхание старой курильщицы”. – Подумай лучше о сыне! О том, что он идет по канату… над пропастью!..
Она опять упала в подушки. Ангелина поднялась со стула. Она не смотрела на Георгия.
Она смотрела на маленькую иконку святого Анатолия Восточного, а под ним – иконку святого Игоря Святославича, великомученика и великого князя, висящие прямо над изголовьем Ариадны Филипповны.
– Успокойтесь оба. – Их обоих окатил ледяной ушат ее голоса. – Никакого курения. Никаких скандалов и расстройств. Легкая еда, обильное питье. Как можно чаще – горячий чай. Сердечные капли, настойка пустырника. Гомеопатические средства. Если будут беспокоить боли – можно принять обзидан, он снимает аритмию и связанные с ней неприятные ощущения. Подушки как можно выше. Вы выздоровеете, – она обернулась к Ариадне. – Вам скоро станет лучше. Вы слышите меня? Вам уже лучше. Вам уже хорошо. Ваше дыхание ровное, спокойное. И вы совсем не хотите курить.
Под ее пристальным взглядом, под расширенными и пульсирующими кошачьими зрачками Ариадна Филипповна размягчилась телом, расслабилась, вытянулась под одеялом. Ее рука бессильно лежала на одеяле, и Ангелина приметила и на этой, бессильно брошенной на кружева белья руке, грубые шрамы. “У нее шрамы как у бандита, – неприязненно подумала она. – Или как у зэчки”.
А в комнате, затерянной за анфиладами других сияющих великолепием комнат и залов, в маленькой спальне, оформленной в стиле “клуб Коттон”, сгорбившись, сидел на кровати, застеленной зеленым шелковым японским покрывалом с вышитыми по нему красными и розовыми пионами и белыми хризантемами и поющими длиннохвостыми птичками, Ефим Елагин и плакал. Он плакал и держал в руках маленький золотой браслет в виде змейки с изумрудными глазами, что так и не взял тогда, забыл – или не захотел с собою взять? – этот уродец; он сжимал его в пальцах и повторял шепотом: “Дина, Дина, Дина. Какой же я был идиот все эти годы! Дина, Диночка, у меня бы был ребенок, ребенок от тебя… Дина… где ты… они убили, убили тебя… я теперь знаю это… знаю…”
Десять минут назад ему позвонила Цэцэг Мухраева.
Цэцэг весело, будто бы о предстоящей увеселительной поездке на Майорку или на Канары, сообщила ему, что позавчера она сделала аборт и что они теперь месяц или даже больше не должны встречаться.
А когда он швырнул мобильный телефон на кровать, задыхаясь от ярости, он увидел на полу под кроватью сложенную вчетверо бумажку. И он встал перед кроватью на колени и вытащил ее. И развернул. И прочитал. Бумажка была старая. Прислуга плохо убирала квартиру, напрашивалась на расчет. Он узнал почерк Цэцэг. Он не смог бы спутать его ни с каким другим почерком. Витиевато, каракулями, похожими на старомонгольские иероглифы, Цэцэг нацарапала наспех: “ПРОСИ У СТАЙЕРА ЗА ПЛОД ПЯТЬДЕСЯТ. И ЗА ДВУХ МОИХ ТЕЛОК – ПО ДВЕСТИ. МЫ ОБЕ ОСТАВЛЯЕМ НАШ ПРОЦЕНТ ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ТЫ ПОДНИМЕШЬ СТАЙЕРУ ЦЕНЫ”.
ПРОВАЛ
Дайте, дайте выпить мне! Помру…
Пиво без водки – деньги на ветер…
Я приспособился: бутылок пустых насобираю, продам, пива куплю по дешевке, а господам в Александровском саду задорого продаю – и так я зарабатываю себе на жизнь, не всегда ж милостыней жив будешь… Благодарствую, господин хороший! А что ж у тебя слезы в глазах стоят?.. Баба изменила?.. Девка загуляла?.. Или у тебя, родимый мой, милую – убили?.. “Ах, убили, ах, убили, коса вьется по земле… Красна рана на груди да кровь на белом подоле…”
Я, великий Нострадамий, не глядите, что пьян всегда, пророчу: наступят времена на земле, когда будут торговать людьми, как мясом и хлебом, как маслом и рыбой – разрезая их надвое и натрое, отчленяя от них лучшие куски.
Скажете, раньше тоже торговали, да еще бойко как?!.. Да, и ранее бывали времена… Бывали дни веселые!.. ах, громко, пардон, не буду… оглушил…
Я про другое пророчу. Я говорю вам истинно, что уже времена наступили, когда продавать будут плод во чреве матери; и мать будут убивать, чтобы извлечь из нее здоровый зрелый плод, готовый к рождению, и дорого продать; и жена будет рожать, чтобы из– под нее взяли младенца, рожденного ею в муках, и умертвили, для того, чтобы сделать из новорожденного человеческого тела снадобья, и теми снадобьями излечить и омолодить тех, кто на земле стал слаб и стар, но баснословно богат; и нежных мальчиков будут отлавливать, как карасей или осетров, и гнать гуртом на бойню, где каждая часть их нежного молодого тела пойдет на вес золота, заменяя отживший член богача, и будут их дарить друг другу на праздник, как драгоценную брошь или пустячную безделку, и будут меняться ими, развлекаясь, и будут истязать их безнаказанно, ибо нет ничего слаще ненаказуемого издевательства и пыток, причиняемых другому; и это все я вижу, провижу, чувствую и предчувствую, и что хотите вы со мной делайте, а это все так и будет. Или – уже – есть?
Страшные вещи я говорю, да?.. А вы не обращайте внимания. А вы не верьте. Хотите – верьте, хотите – проверьте. Думаете, старый Нострадамий соврет? До чего тихо! Аж в ушах звенит. Сижу у Храма Христа Спасителя, ночь, апрельская теплая ночь, слишком тепло в Москве для апреля, даже жарко. Звездочки в небесах яркие горят, как жемчужинки. Красив Божий мир! А человечек в нем – чертова скотина. Чего ему, суке, надо, человечку? Страстная неделя началась. В пятницу Его распнут. В субботу Он будет мертв. В воскресенье Он воскреснет.
… … …
Тяжелые, холодные руки лежали на его плечах.
На миг у него помутилось в глазах. И он перестал сознавать мир и себя в нем.
Потом, когда к нему вернулся разум, он прошептал голосом, дрожащим, как овечий хвост:
– Кто… это?..
И незнакомый ему голос сказал сурово:
– Витас Сафонов, обернись. За все ответишь. Сам написал свой Страшный Суд, сучонок. Только скамью подсудимых не написал. И себя на ней. Ничего, твой автопортрет впереди.
Он повернулся. Колени его подгибались. Перед ним стоял незнакомый ему человек. Старик. Высохшее лицо, жесткие скулы. Под скулами катаются желваки. Квадратный лоб. Подбородок чуть рассечен надвое. Черты грубого крупного лица словно вытесаны лопатой. Во мраке храма, подсвеченном затухающими лампадами и старой керосиновой лампой, привезенной им из Москвы для пущей экзотики, все– таки видны были резкие глубокие морщины, избороздившие вдоль и поперек это лицо, глядящую на него маску Времени.
– Какой… автопортрет?..
Старик стоял перед ним, как грозный судия. Витас понял, что он смотрит на фигуру Христа с красным нимбом над затылком, раскинувшего руки у Витаса за спиной.
– А ты думал, ты Христа напишешь, как себя, и обелишься? Приделаешь ему свои длинные космы, свою бородку и усы, свои черты придашь – и все, дело в шляпе? Дурак. Бог – это не маска. Его не наденешь на грязную звериную морду. Маску все равно сорвут, и под сусальной улыбочкой увидят тебя. Тебя, задница, фраер.
– Как вы… смеете…
У него отнялся язык. Старик, стоявший перед ним, не сделал ни шага к нему, не поднял руку, не ударил его, не пригрозил ему открыто, но он так бил, хлестал его словами, что Витас от боли закусил губу, чуть не застонал, и потом, это тюремное, лагерное “фраер”…
– Прекратите, – выдавил он через силу. – Вы меня с кем– то путаете!.. у меня никогда не было никаких знакомых из блатного мира…
“Сейчас денег попросит. Пригрозит и попросит. На обратный билет из Иерусалима в Москву. Все на свете всегда начинается и кончается деньгами”, – подумал он. Напугал, поседеть можно…
– Нет, я не путаю тебя ни с кем, сука Витас Сафонов, дрянь, – старик выматерил его жестко, жестоко, пригвоздил к его же фреске глазами– гвоздями. – Так же, как ты, надеюсь, ни с кем не путаешь своего преподобного отца Амвросия, Кольку Глазова. И свою суку госпожу Мухраеву. И иже с ними, аминь.
Витас смотрел на него и видел, как шевелятся его губы, дальше говорящие что– то, но уже не слышал ни слова. Уши его заложило вязкой смолой дикого страха. Все! Это конец. Это полный провал. Все раскрыто, все взрезано, взломано, захвачено. Все предано и продано. Все выпущено наружу, как… как кишки из мертвого брюха.
Перед его глазами на миг встало ТО САМОЕ.
Видение страшное, как морок, как невероятная заумь, нет, на земле не могло быть такого, не могло… Он это видел – и не умер. Он это видел – и остался жить. Бьющееся под ножами, усыпляемое тело, запах лекарств, потоки крови по столу, по кафельному полу, стерильные ящики, куда кладут то, что могло бы стать на свете человеком… ножи, белые простыни, красное, алое, нет, это не кровь, это малина, брусника, бузина… калина, рябина… Распинаемая женщина… Распятый на кресте Бог… и эта плоть, дымящаяся, выпущенная наружу, на волю, убитая тайна, поруганная смерть… И его крик. И нашатырь – к его носу.
ЭТО – НАПИШИ!
“Нет, Господи, ЭТО – не смогу…”
Этот старик… Неужели…
Он рухнул перед стариком на колени.
– Господи, – его губы не слушались его, он прижимал руки к груди, он весь превратился в одну сплошную противную, липкую и едкую дрожь, – Господи, прости меня, Господи, не ведал я, что творил… Господи, время такое тяжелое, Господи… Я выжить хотел, Господи… жить!.. Я не своею волей, Господи… я… меня втянули… заставили… бабы, гадины… у меня их были тучи, как комаров, как собак нерезаных… я с ними спал… и одна из них… так вышло… так получилось… я не хотел!.. клянусь тебе, Господи!.. Ну прости же, прости, прости меня!..
Он ползал по грязному полу храма на коленях у ног старика. Старик стоял как каменная глыба. Сжимал тонкие губы. Озирал фреску, раскинувшуюся, как людское море, у Витаса за спиной. Да, умеет пройдоха кисть в руках держать, ничего не скажешь. Ловко малюет. Да гляди– ка ты, знакомые лица! Старик сглотнул, пристальнее уставился на намалеванные широкой кистью фигуры. Вон лицо генерала Грошева. А вон – лысый Петушков. А вон, вон – вереница, хоровод, за руки схватились, рожицы испуганные, боятся, стервы, Суда! – столичные дамы и девицы, и как же малеванец их похоже намалевал! – и Карина Стасюнайте, и эстрадная дива Люба Башкирцева, уже покойная – убили беднягу в своей постели, – и Фрина Земская, и эта, раскосая гадюка, Цэцэг Мухраева, вон, вон она… А это кто?.. Рядом с Христом?.. Христос протягивает руку, чтобы взять ее за руку… в белом коротком, как рубашка, платье, голоногая, тоже монголка, что ли, косоглазая девчонка, молоденькая совсем… утенок…
Спящая в углу, под фреской, на старом тряпье, приготовленном Витасом для вытирания кистей, Дарья пошевелилась, застонала во сне. Старик перевел взгляд на нее. Натуру невозможно было не узнать.
– Хм, позируют тебе, зверю… А потом ее – тоже туда же, куда и остальных?..
– Нет, нет, Господи, нет…
Старик вскинул голую, как у скинхеда, голову. Брился? Или облысел по старости? Среди скопища людей на фреске он заметил еще одну фигуру.
Женщина с ярко– красными, медными волосами стояла отдельно от всех, на склоне горы. Черный плащ развевался за ее плечами. От нее веял ощутимый ужас. Черный ангел, ангел смерти. Черные крылья за спиной. Длинные, подведенные к вискам, как у египтянок, желтые глаза горели болотными огнями. Губы приоткрылись, обнажая перламутровые хищные зубы. Она была вся похожа на большого хищного зверя, готового прыгнуть с обрыва – в пропасть – на шею жертвы; а если промахнется, разбиться в прах. Старик двинул кадыком. Сжал руки в кулаки.
Он узнал, кто это.
– Господи, прости!.. Прости, Господи!..
Старик отмахнулся от ползающего у него в ногах, как от мухи. Дарья опять простонала во сне.
– Ну, Андреевна, здравствуй. Вот где привелось свидеться. Он тебя тоже знает?.. Веревочка у нас одна?.. Взорву я все– таки твою двадцатую комнату. Со всеми твоими санитарами впридачу, – тихо, глядя на красноволосую нарисованную бабу в черном плаще, сказал старик.
ПРОВАЛ
Они тащили его туда не на носилках, не пешим ходом по коридорам вели, как покорную овцу – волокли волоком. “Больной Анатолий Хатов – это, блин, ребя, булыжник! – вопил Степан, выпучивая, как рак, из– подо лба крошечные злые зенки. – Необломный!.. Даже я с ним, ексель– моксель, не сразу совладал!.. а уж я– то бывалый…” Они вешались на него гроздьями, санитары, двое, трое, четверо, и силком волокли в двадцатую комнату, на ЭШТ. А он не шел, упирался. Он дрался с этими ублюдками, дрался по– лагерному, классически, показывал им, как надо валить ударом в лицо, сбивать с ног болезненным, быстрым ударом в печень. Они отбивали ему почки – он, отлежавшись, выстонав свою порцию стонов под выламывающими мышцы, мутящими мозг уколами, встречал их железным кулаком, на сторону сворачивающим скулу. Марку вправляли челюсть. Степан месяц не являлся на работу – он сломал ему руку. Крепче всех отделал он Дубину. Дубина измолотил его тоже. Но и сам пострадал. Еще немного – и он выпустил бы Дубине кишки. Больные, наблюдая эти бои, хлопали в ладоши, восторженно орали: “Ты, Хатов, бля!.. давай, поднажми, сделай, сделай его, вошь!.. Он нас мучил – ты ему навешай как следует, слышишь?!..”
А потом опять бил вдоль по растянутому на цепях телу ток.
И терялось сознание, как теряется последняя монета из кармана.
А ведь на эту монету можно было доехать прямо в рай.
По крайней мере, ему так казалось.
Его рай и ад, все вместе, был его сын. Игорь. Гошка. Хулиган. Повеса.
Гошка, которого он спас оттуда, откуда не спасаются. Вытянул из вечной мерзлоты и колючего снега, как вытягивают из огня, как тянут – за волосы – тонущего – из воды. Мал Гошка был тогда… стручок, перчик. Только что рожденный на свет…
Видать, крепко он насолил кому– то – опять его упекли в застенок, на этот раз не в лагерь, а сюда, в спецбольницу. Кто– то сильный, за кем стояли черными призраками большие деньги и тайные сговоры, глумился, хохотал над ним. Кому– то была сильно неугодна его, Анатолия Хатова, жизнь. Он догадывался, за что и кому. Кто– то очень не хотел, чтобы знали о том, что Гошка Хатов спасся, маленький червяк, и живет на свете. Начали с отца. Кончат сыном, он знал. Еще как кончат. Тем более, что Гошка Хатов стал Ингваром Хайдером. И нацепил на рукав знак, черный крест в круге, который он называл – Кельтский Крест, а иногда – коловрат. Коловрат… Около ворот…
Он всю жизнь стоял около врат рая. И не смел войти.
Его раем была его жена. Его любимая жена.
Он думал, что она умерла там, что зарыта там – в вечной мерзлоте.
Она выжила. И вышла замуж за другого.
Она была жива и целовала другого – вот уже много, много лет. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Лучше сорок раз по разу, чем ни разу – сорок раз…
“Больной Анатолий Хатов! На ЭШТ!”
Скрип зубов. Вы ответите. Вы за все ответите, суки. Я– то не ссучился. Я– то там выжил. И здесь выживу. И от тебя, рыжая лиса, и подавно уйду. Молодая, да ранняя.
В одно прекрасное утро его срочно, будто бы испугавшись, выписали. Выпустили на свободу.
Он не понимал, в чем дело, за что ему пожаловано такое счастье.
Он отвык от свободы; от изумлялся синему небу; он шатался по улицам, как пьяный, ощупывая в кармане штанов ключ от своей бедняцкой квартиры на окраине Москвы. Что Гошка? Где он?.. Как он тут жил – без него… Как– то ведь жил… Что ж, уже взрослый, самостоятельный парень… Справился… смог…
Дома раздался звонок. Он снял тяжелую, старую трубку похожего на черный гроб аппарата времен Сталина. “Времен Гитлера”, – обычно поправлял его сын. Спятили они все на этом Гитлере, что ли?.. “Здравствуй, Толя, – раздался в трубке голос, от которого слезы прихлынули к его глазам – и затопили всего, без остатка. – Это я. Это я тебя оттуда вырвала. С корнем. Ты больше никогда туда не попадешь. Я… теперь стала сильная, Толя… Я все теперь могу… Я нажала на нужные кнопки… Ты прости меня… Простил?..”
Он слышал, как она тоже плачет там, в трубке, в неведомой ему комнате, в чужой неведомой жизни, на конце провода. “Простил, лапонька, ну конечно, я тебя сразу простил, как услышал, что это ты. Жива?.. Здорова?.. И слава Богу… А как ты…”
“Только ничего не спрашивай сейчас, ладно?..”
И она закашлялась в трубку, и он понял – это кашель курильщика, она, певица, курит беспощадно, легкие хрипят и гудят, как органные меха.
– Хватит! – Резкий окрик заставил Витаса вздрогнуть, поднять голову. Он смотрел на старика, закинув голову, как собака. – Кончай спектакль! К стенке!
– Вы меня… расстреливать… будете?!..
Дикий, жестокий ужас выкатился вместо голоса из его горла – и покатился по пустому гулкому храму, вкатился в черные углы.
Старик вскинул руку. Это было похоже на нацистское приветствие. Витасу показалось, что лысый старик сейчас завопит: “Хайль!”
– Ты сам себя расстреляешь, – сказал он глухо. – К стенке!
Сафонов попятился к расписанной им самим сырой цветной стене. Прислонился задом, спиной, плечами к свежей краске.
– Руки! – крикнул старик.
Витас поднял руки. Все в нем ходило ходуном, как на шарнирах. “Так вот, оказывается, какой пошлый, поганый последний час, – подумал он, – а все обожествляют последнюю минуту, стремятся напялить на нее нимб… нет, это невозможно, я не умру!.. нет, нет, нет…”
– Простите… простите…
– Нет тебе прощения, – твердо сказал старик. – За такое, за то, что ты делал и твои подельники делали, нет тебе никакого прощения никогда и нигде! Страшного Суда вам ждать не надо! Мы судим вас – человечьим судом!
Витас прислонялся всем телом к фигуре Христа на фреске. Над его головой сейчас сиял красный нимб. Старик усмехнулся.
– А красиво, в бога душу мать, – сурово сказал он. – Нет, ошибся я, слабак ты, сам себя ты не сможешь. Пистолет тебе дать – ты, трус, обрадуешься, не к своему виску поднесешь, а в меня скорей всю обойму выпустишь. Так я тебе и дался! Не– ет… я по– другому помогу тебе.
Старик огляделся. Цапнул высохшей железной рукой толстую, похожую на канат веревку, на которой была подвешена люлька, где Витас качался под потолком, малюя храмовый заказ. Подтянул люльку к себе. Рванул, отдирая люльку от веревки. Нахмурясь, крепко затягивая узел, сладил петлю. Обернулся к похолодевшему, застывшему Витасу.
– Ну! – крикнул. – Ты сам! Давай! За все надо держать ответ!
Витас шагнул к старику. Взял у него из рук дрожащими руками петлю.
– Я не смогу…
– Сможешь! Убивать смог? Продавать живых детей на распил – смог?! И это сможешь!
Один человек, дрожа губами, выбивая зубами дробь, накинул себе на шею петлю. Другой человек пронзал его насквозь штыками жестких глаз.
– Ну, все?.. А молитва?!
– Да воскреснет Бог и расточатся врази…
Старик не дал ему дочитать. Дернул вниз веревку. Тело Витаса с грохотом поползло вверх, к куполу иерусалимского храма Второго Пришествия. Петля затянулась сразу и сильно, перебились шейные позвонки. Старик смотрел, как он еще немного, в вышине, в небесах, посучил руками, ногами, затих.
Старик обернулся. Раскосая девушка проснулась. Она не видела ничего. Она слышала все. Она сидела на полу, как волчонок, на четвереньках, вздернув голову, ловя ухом звуки смерти. Ее черная коса развилась, смоляные пряди струились по плечам, по белому платью на грязные каменные плиты.
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ. ОСТ
“Смерть стоит того, чтобы жить,
а любовь – того, чтобы ждать”.
Виктор Цой
Георгий дал ей недвусмысленно понять: за ними слежка. Правда, следящие пока не вылезли наружу, не показали над водой перископа. Тщательно и очень профессионально таятся. “Предупреди Цэцэг и Амвросия, – сказал он сухо и холодно, – с подсобной мелкотой я сам разберусь”. Она безмолвно спросила глазами: а Ефим? Он так же, глазами, ответил: наплюй. Ефим думает, что он шишка на ровном месте. Он – карта в моих опытных руках. Я похожу им тогда, когда мне вздумается. Когда сочту нужным.
Она заставила Ариадну выпить еще сердечных капель, втиснула ей сквозь зубы таблетку обзидана. Она так и не увидела Ефима, хотя чувствовала – он тут, рядом. Она хорошо ощущала присутствие живого человека в помещении даже за толщей многих стен. Многими дарами была наделена она, Бог не поскупился. Бог?.. Проходя мимо массивного, от пола до потолка, зеркала, она придирчиво обсмотрела себя в нем. Доктор без халата, в платье декольте, с соблазнительно выпяченной грудью. Сидя там, в спальне, у кровати больной, она приказала ей глазами: спасть, спать, спать. Дождалась, пока совиные морщинистые веки Ариадны Филипповны закрылись, пальцы перестали вздрагивать на груди.
Две иконки. Два образка. Такие раньше надевали на грудь солдатам, уходившим на войну. Анатолий и Игорь. Игорь и Анатолий. Почему Игорь, кольнуло ее внезапно. Почему Анатолий? Почему не Георгий и Ефим, черт побери?!
Игорь… Ингвар…
Хайдер…
Стоя перед зеркалом, царственно отражавшим ее, она помотала головой. Чушь, бредятина. Мало ли Игорей на белом свете. Мало ли Анатолиев. Вот Ефимов наверняка уже меньше. Явно это ее любовники. У певицы Большого театра да чтобы не было хоровода любовников! Певица, какая она певица, к черту, ха– ха… Жалкая хористочка, не больше… Попискивала где– нибудь в хоровой толпе, в сопрано или альтах, а то и просто ротик разевала свой изящненький, ленилась взять высокую ноту, горлышко берегла… А потом с этим Анатолием или с этим Игорем – там, за кулисами – или на правительственных дачах – или на квартирах уехавших в командировку родственничков – задирала ноги выше головы… Знает она этих благообразных старушонок с внешностью недобитых дворянок… с ангельским носиком, с ангельским ротиком… А глазки– то у старушки совсем не благообразные. Искры так и мечет в Георгия. Всю жизнь прожили, видно, как кошка с собакой, под старость ненависть уже неприкрыто лезет… но хорошую мину при плохой игре сохраняют оба… стараются…
Она не спрашивала Георгия, где Ефим. Когда она собралась уезжать, он появился сам, на пороге прихожей. Она вскинула на него глаза и сказала наигранно– весело: “О, Ефим Георгиевич! Мое почтение! Кто там на вас напал?.. Не пора ли усилить охрану?..” Ее поразила пещерная, подземная чернота его лица, прежде здорового, пышущего сытым весельем и довольством, широкоскулого, запавшие щеки, темные круги вокруг глаз. И опять она поразилась его сходству с Хайдером.
“Братья, – вдруг подумала она, и эта мысль хлестнула ее бичом. – Братья?! Братья… Ты съехала с катушек, Ангелина, тебе надо заняться самогипнозом, аутогенным внушением… раджа– йогой…” Ефим строго смотрел на нее. Она могла бы поклясться: в его глазах светилась ненависть – та же, что хлестнула из глаз Ариадны, когда муж наклонился над ее постелью.
Ефим переводил взгляд с нее на отца, с отца на нее. “Ангелина, как вам мой отец?” Она отшутилась: и вашего отца, и вас вся страна знает, вы уже получили свою долю и восхищения, и ярости. Чтобы не вызывать у Ефима лишних подозрений – слишком пристально, слишком интимно Георгий глядел на нее, застегивающую черный плащ у горла, – она скомкала прощание, гордо вышла за дверь. На первом этаже показала тридцать два зуба консьержу. Заведя машину и стронувшись с места, бросив руки на руль, скользя мимо огней ночных ресторанов, мимо киосков с пивом и сигаретами, мимо одиноких, ежащихся на ветру эскортниц, мимо спящих домов, в которых – внутри – горели и сгорали человеческие страсти, как сухие дрова в печи, она неотступно думала о том, как же они оба похожи. Хайдер и Ефим. Ефим и Хайдер.
Добравшись до дому, она нашла на столе факс от дочери, из Парижа. Евдокия писала, как всегда, торопливо, наспех, два слова, как курица лапой. “Chere mama, когда ты будешь в Париже? Мои экзамены заканчиваются в июне. Может, прилетишь на Пасху, и мы смотаемся в Камарг не летом, в жару, а весной? Там, между прочим, миндаль уже отцвел. Привези мне из Москвы черной икры. Здесь kaviar очень дорогая. Как поживают твои шизики? Целую тебя, киска моя. Твоя Дуська”. Она рассеянно отложила факс. На ее лоб взбежали морщины раздумья, уродуя его, чистый, белый, гладкий. Братья. Братья. Похожи. Похожи. Такое сходство нарочно не придумаешь. Случайно не сделаешь. Может быть, Хайдер сделал себе пластику, чтобы походить на знаменитого магната Елагина и сыграть на этом? Как? Каким образом? Нет, все это домыслы.
Сбросив одежду и надев длинную, в пол, ночную сорочку, расшитую французскими кружевами – подарок Дуськи из Парижа, – она расхаживала по своей огромной квартире из комнаты в комнату, меряя пространство шагами. Бедный Ефим, как же он испугался. Как его передернуло. Другой человек. Хайдер, что он за человек? Она с ним спит. Она сделала его своим постоянным любовником – небывалое для нее дело. Но она не знает его совсем. Вся загадка – в Хайдере. В Хайдере вся загадка. Не зря этот сумасшедший пацаненок привел ее тогда на их сумасшедшее сборище. Она разгадает эту загадку.
А может, разгадка проста? И все они – сумасшедшие?
“Ты переработала в своем диком госпитале, Ангелина. Тебе действительно пора смотаться в Камарг. На Кипр. В Египет. Куда угодно. Кстати, как там в Иерусалиме Витас?”
Она взяла со стола пульт дистанционного управления, бездумно нажала кнопку. На огромном экране возникла внутренность пустого храма. Она вздрогнула, подобралась. Она не могла не узнать храм Второго Пришествия в Иерусалиме. Камера оператора тщательно ползала в полутьме туда– сюда, запечатлевая сделанную Витасом фреску. Хм, почти доделал, неплохо…
Из ее рта вырвался короткий крик. Она прижала руку ко рту.
Камера наползла на качающееся в вышине, под куполом, тело. Длинные волосы свисали с бессильно упавшей на плечо мертвой головы. Длинные ноги торчали, как костыли. Быстрой скороговоркой закадровый голос тележурналиста объяснял: “Знаменитый художник Витас Сафонов, расписывающий в Иерусалиме вновь отстроенный храм Второго Пришествия, повесился сегодня ночью прямо в храме, в виду своей неоконченной великолепной фрески… Отчего художник наложил на себя руки, навсегда останется тайной… Витас не оставил ни предсмертного письма, ни записки, ничего… Драма художника – часто скрытая от посторонних глаз драма… Художественный мир потерял…”
Ангелина дальше не слушала. Резко нажала кнопку. Экран погас. Она швырнула пульт на паркет. Он заскользил по гладкому паркету, как черная лодка.
Покончил с собой?! Не такой уж он дурак, чтобы уходить из жизни в расцвете сил… в разгаре живописной работы, славы, больших гонораров. И других доходов, в орбиту которых его втянули те, с кем работает она сама. Его точно убрали. Убили! Сто процентов!..
Простая и жестокая мысль поразила ее. Так молния ударяет в угол деревенской избы, рассекая надвое зеркало, печь, кровать.
С НЕГО НАЧАЛИ.
Да, с него начали. И подберутся к ней. Если, конечно, будут вести себя умело, сочетая осторожность с наглостью.
Убийца всегда должен быть одновременно нагл и осторожен. Только тогда у него может получиться задуманное.
Она сгребла в кулак кружева на груди. Ее длинные хищные крашеные ногти зацепили, поцарапали нежную белую кожу. Красная прядь упала на плечо, стекла на грудь кровавым сгустком. Она не сразу поняла, что в дверь стучат. Не звонят – стучат условным стуком.
Заплетаясь в длинной, обнимающей щиколотки сорочке, она босиком пошла к двери. Так она велела стучать Хайдеру. Только ему одному. Нагнувшись к дверному глазку, она заглянула в него. Кто– то снаружи закрыл глазок ладонью. Она почувствовала противную дрожь в коленях, липкий пот на лопатках и пояснице.
– Кто?..
Голос Хайдера отчеканил за дверью:
– Открывай.
Она загремела замками. Ее руки дрожали.
Широкое скуластое лицо полетело в нее с порога – так сикхи в Индии, она видела, бросают в свою жертву остро отточенные смертельные диски.
– Хайдер… Что случилось… Почему ты без звонка…
Он вошел быстро. Властно закрыл дверь за собой. Подпер спиной. Глядел на нее, прижавшись к двери, не двигаясь, не моргая.
Они глядели друг другу глаза в глаза.
И он разлепил сжатые губы и сказал:
– Это ты убила всех моих. Ты, Ангелина.
– Я ждала. Я знала, что ты мне это скажешь.
Они стояли друг против друга, как на дуэли. Желание волной поднялось в ней. Она протянула руку и положила руку ему на пояс. На черный кожаный пояс, затянувший черную рубаху. Почувствовала, как сильные мышцы напряглись. Ее рука скользнула ниже. Он схватил ее за запястье. Оторвал ее руку от себя.
– Не надо. Я не за этим пришел.
Она сама крепко сжала рукой его руку.
– Ты пришел, чтобы казнить палача? Мудро.
Вырвала руку из его руки. Повернулась. Пошла в комнаты быстрым шагом, и кружевная ночная сорочка летела, развевалась за ней. Хайдер шел за ней. Желваки на его скулах вздувались. Мышцы под черной рубахой бугрились. Она чувствовала, слышала спиной: он еле сдерживал ярость.
Она остановилась около старинной японской гравюры, оформленной под стекло, в стильном багете черного дерева, висящей у нее в гостиной. Она купила себе эту гравюру после того, как получила гонорар от банкира Дикова, излечив его от навязчивых ночных страхов. У банкира убили брата и жену, и он чувствовал себя обреченным. Хотел убежать из страны. Она посоветовала ему усилить охрану и провела с ним всего пять сеансов гипноза. Страхи как рукой сняло. Его никто не убил, и он благополучно женился на молоденькой. Он заплатил Ангелине чертову прорву денег. Она положила деньги на счет, часть отправила Дуське в Париж, часть вложила в дизайн жилья и купила старинную восточную гравюру по совету Цэцэг. Кажется, это был Утамаро.
Гравюра изображала акт. Неприкрытый, грубый, все наружу – чудовищно огромный темный, как у осла, уд мужчины, бесстыдно вывернутые срамные губы женщины. Лица любовников были на удивление бесстрастны и изящны, будто фарфоровые. Любовница тонко улыбалась; у мужчины углы рта были опущены вниз, будто он плакал. Женщина смеется, мужчина плачет. Вполне справедливый расклад.
– Порнография, – раздался голос Хайдера. Она подняла голову.
– Только тупоголовые бараны не могут отличить банальное порно от высокого Эроса.
– Понял. Я тупоголовый баран. Только я люблю святость тайны. Я люблю красоту. Я не люблю безобразие.
– Ты любишь тайны? Тогда люби и мою тайну тоже. Что тебя не устраивает в твоем нынешнем положении? Твой путь расчищен. Ступай по нему.
Она тяжело дышала. Он тоже. Они оба дышали так, будто бы пробежали стометровку меньше чем за десять секунд.
– Ангелина!..
– Я всю жизнь Ангелина. Что дальше?
Хайдер сделал шаг к ней. Она стояла не двигаясь. Он взял ее за плечи.
И только взял – как все, что было в нем огненного, взыграло и покатилось ярким колесом, срезая все живое на пути, сметая все, что запрещало, что мешало им принадлежать друг другу.
Схватить ее вот так, за талию, сильнее. Прижать, пьянея. Исцеловать ее лицо, ее щеки, ее шею, забраться губами под ее закинутый подбородок, приникнуть к ключице, и ниже, ниже… разорвать грубыми сильными пальцами кружева, найти вставший дыбом темно– вишневый сосок, впиться в него губами, зубами… всосать, вглотать, как ядовитую сладкую, волчью ягоду… И опять, подняв голову, найти губами ее губы, ее податливо размыкающийся, вожделенно раскрывающийся перед ним рот, сплести язык с ее языком, играющим, как рыба, в его жадном рту… Его руки скользили у нее по спине. Он рвал кружева, не сознавая, что делает. Он выпрастывал из белой пены кружев ее всю, голую, горячую, надменную, уже отдающуюся, уже раздвигающую ноги перед ним, перед его живым острием, что вот– вот порвет штаны, и он испытывал опять сильнейшее вожделение, какое посещало его когда– либо в жизни, и жадно целовал ее, закидывая ей голову, и сходил с ума.
– Ангелина… я не могу…
– Я тоже… Иди ко мне…
Они оба рухнули на пол. На навощенный паркет. Он сорвал уже с нее всю сорочку, разбросал лоскуты по углам. Она была вся голая. Сама раздвинула ноги. Его рука скользнула вниз, два пальца воткнулись в нее, ощупывая вечный жар ее узкого лона. Она стиснула бедрами его руку. Всасывала в себя его язык, кусала зубами, а ее руки быстро, умело расстегивали его черные джинсы, звенели пряжкой ремня, сдирали, стаскивали плавки. Он понял: она хотела его сразу и бесповоротно, отчаянно и гневно, без ласк и прелюдий. Он поднялся над ней, разбросавшей голые ноги по полу, на руках – и с напором, мощно, не сдержав стона, ударил в нее, прободал ее, как бык корову, влился в нее всем естеством – и застыл, замер.
И она, всаживая ногти в его спину, в его взбугренные лопатки под черной потной рубахой, простонала властно:
– Скорее… скорее!..
И его как прорвало. Он задвигался в ней сильно, зло, мощно, резко, причиняя ей боль, унижая ее, мучая ее, разрезая ее, прокалывая собой, и от этого вожделение увеличивалось, росло, становилось невыносимым, и они оба, вцепившись друг в друга, сотряслись в страшной судороге мгновенного, острого наслаждения. Перед его глазами встала муть, черная стена. На несколько мгновений он потерял сознание, ослеп и оглох.
Радость, острая, страшная, как смерть…
Когда он очнулся, он понял – он все еще в ней. Она все еще держит его собой, своим жадным, хищным нутром. Ее губы горели, искусанные им. Совсем близко он увидел ее темно– желтые рысьи глаза. И утонул в них. И снова ее губы легли на его губы, вызывая в нем истому новой волны желания, способного извести, погубить его.
– Ангелина… ты убийца… убийца…
Ее пальцы играли на его бритом затылке, гладили, щипали его шею. Ее огненное тело снова ритмично подавалось навстречу ему. Снова приглашало к страшному и радостному танцу.
– Молчи…
– Ты убийца… ты всех их убила… зачем?!.. я же тебя не просил…
Он почувствовал, как там, внизу, все снова налилось силой. Он всадил себя в нее, как в открытую рану, по рукоять. Она, чуть откинувшись назад, глядя на него дикими медовыми глазами, провела рукой по его потной щеке, по губам. Он поймал ее пальцы ртом. И она снова, в этот миг, вспомнила того бритого мальчишку, ее пациента, его подопечного. Того, что убежал из ее так тщательно охраняемой больницы. Убежал так нагло, так непредставимо дерзко. Так могут бежать только смертники или идиоты. Где он сейчас? Как это он звал себя – Бес?.. Бес… Бесенок… А этот, что сейчас лежит на ней, – бритый Сатана?..
– Я?..
– Да, ты… Ты же мне сама говорила… Ты так хотела… Ты говорила: я расчищу тебе путь, Хайдер, и ты станешь единственным, кто поведет за собой огромную армию… Ангелина… Твои убийства… ты зря… ты зря все это сделала… Они… они хотят меня убрать… скинуть вожака… они не верят мне больше… Ты… ты пробила слишком большую брешь… много дыр… Я бы предпочел… чтобы ты убрала только одного Баскакова… ну, может быть, Хирурга… Хирург нахал… и за ним шло много ребят, они его любили, он мог стать моим соперником… Ангелина!.. Ты сделала глупость… ты… как тебе это удалось…
Он снова привстал над ней на руках. Ощупывал, хлестал, бил ее лицо глазами.
– Как тебе это удается?!
Она дернулась под ним. Он крепко придавил ее к холодному паркету животом, расплющил грудью. Навалился на нее всей тяжестью. Она задыхалась.
– Хайдер… я…
– Меня не интересует, как ты это делаешь технически! Я теперь знаю, что ты стреляешь хорошо! Не только бьешь пяткой в рожу по– китайски! Меня интересует, как ты профессионально выслеживаешь их! Кто дает тебе адреса! Как и где ты их подстерегаешь! Откуда ты знаешь о них обо всех! Я же тебе ни слова не говорил о Люксе! О Туке! О Васильчикове, наконец!
Он смотрел на окружья ее век. Лежа под ним, она закрыла глаза. Улыбка четче обрисовала ее губы. Она отвернула от него лицо, и он видел ее чеканный профиль на фоне медово– желтого паркета.
– Я не знаю, кто это.
– Ты!.. – Он грубо повернул ее лицо к себе, ухватив пальцами за подбородок, сминая его в своей руке, как вату. – Как у тебя язык поворачивается!..
Она закинула ему ноги за спину, обвив бедрами, лодыжками, на миг прижала его к себе всего; потом внезапно резко, сильно оттолкнула от себя, и он чуть не отлетел по полу в угол. Он вспомнил прием кунг– фу, который она продемонстрировала ему при их знакомстве в Бункере.
Теперь они лежали на полу розно: он – один, и она – одна.
И смотрели друг на друга.
Так волки глядят друг на друга. Соперники? Самец и самка?
Убийца и жертва?
На мгновение перед ней опять закачалось тело Сафонова, висящее в веревочной петле под куполом иерусалимского храма.
Кто– то из них всегда – следующая жертва. Кто– то всегда – будущий убийца. Или – настоящий?
– Если ты не веришь мне, – сказала она, не поворачивая лица, куда– то вбок, прижимаясь щекой к холодному паркету, – если ты так хочешь, если я мешаю тебе жить, а не помогаю – убей меня, Хайдер. Я счастлива буду умереть от твоей руки.
И она повернула лицо.
И ее глаза вошли в его глаза.
И он почувствовал, как его освобожденная от оков приличий, от кандалов воспитания, от цепей жизненных правил, дикая, великая природа вырывается наружу и захлестывает огненным вихрем его и ее, их обоих, без остатка.
ПРОВАЛ
Она все– таки забрала меня к себе, эта красивая женщина в черном плаще, опасная, как яд. Я, великий Мишель де Нотр– Дам из Сан– Реми, так и знал, что это произойдет! Что я не отверчусь от нее! Ах, играют со мной, как кошка с мышью; а я и рад. Интересно мне все, что происходит со мной, так же, как интересно все, что происходит с моей землей. Чем отличается жизнь человека от жизни земли? Просто один умрет раньше, а другая – позже.
Она шла мимо меня, эта райская птица, эта райская гурия, эта дикая рысь, вышагивала по Красной площади, и увидела меня, и сверкнула глазами, и, не успел я оглянуться, как она уже держала меня под руку, и называла тысячью ласковых имен, и ворковала мне в ухо: пойдем, пойдем, драгоценный мой, золотой, да ты такой хороший мужичок, да если тебя отмыть и почистить, да приодеть как следует, ты будешь просто загляденье! Идем, идем со мной!..
И заворковала меня, заворожила… и я пошел за ней, как телок на веревочке, пошел – прямо в ее машину, в ее железную повозку, в распахнутую блестящую дверь…
И захлопнулась за мной, Алешкой Юродивым, дверь.
И рванулась железная повозка с места. И оказался я в мышеловке. И захлопнулась крышка шкатулки. И ключ повернулся в замке.
И привезли меня в страшный дом. Я подумал – я уже в аду. Люди в палатах плачут. Орут, визжат, по коридору их на каталках дюжие дядьки возят; бьют дубинками; закутывают в длинные черные балахоны и завязывают на спине тесемками, чтобы несчастные не могли шевелить руками; вливают в глотку какие– то снадобья, о которых я, знаменитый врач Мишель де Нотр– Дам, и понятия не имел в свое время! И красотка моя сделалась тут же тигрицей. Гляжу – она уже в белом халате, и отдает распоряжения и приказы, и все ей подчиняются.
И указала она на меня пальцем, и крикнула: “Ты, дрянной пьянчужка! Ты хвастался, что ты провидишь будущее! Ну– ка! Быстро, живо мне все предскажи! Что со мною будет!”
И я засмеялся, захохотал, скаля беззубый рот, зашелся в смехе: как, ты назвала меня – меня! Мишеля де Нотр– Дам, великого Нострадамуса, провидящего времена, дрянным пьянчужкой?!.. да кто ты после этого, женщина!.. ты отброс, отребье, ты женщиной называться недостойна!.. – а она, вспыхнув, подошла ко мне близко, близко – да как размахнется, да как даст мне пощечину!
И сбила меня с ног – я ведь маленький, чахленький, кривое я деревце.
И вот лежу я на полу у ее ног. У ног ее, обутых в изящные туфли на высоких каблуках. И, скорчившись, гляжу на нее снизу вверх.
А она подходит ко мне, взглядом сжигает, испепеляет меня – и наступает мне ногой на грудь. И давит, давит стопой. И острый каблук врезается мне в кожу, под ребро, вот– вот проколет меня, хуже кинжала.
И я пытаюсь отодрать ее ногу от себя. И лицо мое перекашивается болью. Я кричу: “Ты мне делаешь больно, больно, красивая дамочка!.. Эй, эй, тише, я же не дерьмо, а человек!..”
И она шипит, шепчет злобно: “Нет, ты дерьмо. Ты не человек. Это ты, а не я – отброс и отребье. Ты только возомнил, что ты Нострадамус. Погляди на себя в зеркало. Ты поганый бомжара, и ты спишь в метро, раскатывая по кольцу, чтоб не выгнали на конечной станции, и ты старый алкаш, ибо ты охотишься за рюмкой и стаканом везде, где тебе повезет, и ты вор, ибо ты деньги из карманов у людей крадешь, чтобы тебе хватило на опохмелку. Пророчь, или я проколю тебя каблуком! Хочу знать свое будущее!”
И я, корчась под каблуком, прокалывающим меня насквозь, выкряхтел: все верно, пусть я бродяга, пусть я сплю в метро и охочусь за водочкой. Но я никогда вором не был и не буду им. Вор не может просить милостыню! Вор не может общаться с Богом напрямую! Вор не может быть пророком! А я – пророк!
И тогда она ударила меня подошвой в лицо. И закричала: “Пророчь!”
И я выхрипел: “Как ты унижала – так унизят тебя. Как ты била – так ударят тебя. Как ты убивала – так убьют и тебя! Вот мое тебе последнее слово!”
И она побелела вся, как больничная простыня, и закусила губу, и глаза ее сверкнули, как у припадочной. И я испугался: я подумал, что она сейчас вспыхнет изнутри и сгорит белым пламенем, как звезда.
И я видел, будто бы издали и сверху, из невообразимой дали времени: это я, маленький, лежу у ног злой красивой женщины, сжавшись в комок, и она заносит снова ногу надо мной, чтобы ударить, и открывается дверь, и на пороге – обритый налысо мальчишка, пацан, весь в черном, и держит в руке пистолет, и целится в нас обоих. И кричит – кричит страшно, пронзительно, на всю эту богадельню или уж тюрьму, не знаю:
“Ты последняя! Последняя на моем счету, Ангелина! Повернись! Повернись, чтобы я мог видеть твои глаза!”
И она оборачивается медленно, так медленно, что я вижу – отсюда, сверху, из далекой дали, – как из– под ее белой шапочки выбивается красная прядь и стекает по белой шее вниз, как струйка крови.
… … …
– Кто такой Стайер, Цэцэг?!
– Не твое дело!
– Что такое пятьдесят за плод?! Пятьдесят тысяч долларов?!
– Не твое дело, тебе говорят!
Она даже не стала отпираться. “Да, это писала я”, – кивнула она равнодушно, взглянув на записку. И Ефим взбеленился. Он схватил ее за грудки. Он кричал на нее. Он вытрясал из нее то, что – он видел это – вытрясти было невозможно. Даже если бы он ее пытал, вздергивал на дыбу, кромсал ножами, поджаривал на медленном огне.
– Это старая записка?!
– Тебе же сказали – не твое дело!
– А что – мое дело?! Я сплю с тобой, значит, это мое дело!
– Я сплю не только с тобой, – лукавый темно– алый рот изогнулся в усмешке. Пучок дегтярно– черных волос оттягивал голову назад. Скуластое раскосое лицо лоснилось от ночных кремов. По щекам пошли красные пятна гнева. – Я сплю с тем, с кем пожелаю! И ты мне тут не указ! И я не твоя собственность! Запомни это! Хоть ты и Ефим Елагин!
– Цэцэг, – его голос внезапно упал до шепота. И он сделал непоправимое. Он встал на колени перед расстеленной кроватью, где сидела Цэцэг и мазала на ночь кремом широкоскулое холеное лицо. И взял ее за руку – так нежно, как только смог. – Цэцэг, милая, деточка моя, – он говорил все ласковые слова, какие могли излететь из него здесь и теперь, – Цэцэг, солнце мое, нежность моя… скажи мне… что общего может быть у тебя с моим отцом? Ведь эта записка не мне же адресована! И не моей матери! Она же адресована ему! Что у тебя с ним за шашни?.. Ты плохо кончишь, золото мое… моя Золотая Тара… мой отец занимается не совсем безопасными вещами… я хочу тебя предостеречь… уберечь…
– О да, твой отец рисковый парень. – Она вынула гребень из пучка, вытащила шпильки, взяла их в зубы. Смоль волос скользнула на спину черной волной. – Семья Елагиных – одна из ста семей, которые правят планетой. Ты можешь гордиться тем, что ты его сын. Что ж, такой бык, такой конь с яйцами не нарожал тебе от твоей мамаши еще славных братиков и сестричек? То– то весело вы бы делили наследство! То– то перегрызлись бы все! Поубивали бы друг друга! Вот была бы потеха! А то ты один как перст, даже скучно.
– Правят планетой, – он передернулся. – Да, мы повязаны с финансовой элитой мира! Да, мой отец ворочает неслабыми делами! Да, он знает, как, где и когда и на какие нажимать рычаги! Да, он азартный игрок! Но мне кажется, он переигрывает, Цэцэг! Он блефует! Он шулерствует! Он мухлюет в ставках! Не попалась ли ты не его удочку, дорогая?! Не будешь ли ты завтра съедена за обедом... зажарена до розовости, до приятной вкусной корочки, и съедена?!
– Ну, буду съедена, что из того. – Цэцэг стала расчесывать черную косу, освобожденную от шпилек. Волосы заструились, заискрили под гребнем. – Тебе– то какое дело. Или ты хочешь сказать, что…
– Да! – крикнул он и не узнал своего голоса. – Да, я идиот! Но я люблю тебя! И хочу тебя спасти!
– От своего отца? – Цэцэг, не вставая с кровати, измерила его презрительным взглядом узких, как стрелы, глаз. – Ты хочешь спасти свою шкуру, выражайся точнее.
Он все еще стоял на коленях. Вздрогнул, когда маленький, как рыбка, мобильный телефон Цэцэг издал кошачье мурлыканье вальса Штрауса. Она, держа в одной руке гребень и продолжая расчесывать волосы, другой рукой лениво взяла трубку.
– Да?.. Ах, это ты, Александрина… Мяу, мяу, милая!.. Ну как же, я безумно, безу– у– умно рада тебя слышать… Ах, ты меня – и видеть тоже?.. Когда?.. М– м, сейчас я не могу. У меня гости. Мя– а– ау!.. Сама знаешь… Как?.. Уже в Париж?.. Завтра?.. После Пасхи?.. А когда ваша Пасха, а?.. я ведь, извини, милочка, – буддистка… Ах, послезавтра?.. Это скоро… Ты там Судейкина увидишь, в Париже?.. Гаврику привет… у него там вернисаж, даже два, по– моему, в Центре Помпиду и в Гран– Пале… поцелуй старого бэби за меня… Да, да, я слышала про Витаса, конечно… такое несчастье… Да, завтра! Да, в двенадцать! Да, буду одна!.. Ча– а– ао!..
Она бросила телефон в подушки. Волосы тихо потрескивали под гребнем.
– Назначаешь свиданку своей лесбиянке? – Ефим чувствовал, как у него немеют, словно под наркозом, губы.
– Назначаю, а что? – Гребень по– прежнему двигался равномерно, плавно, зубья пронзали смоляную чернь косы. – Тебя это волнует?
– Я только что признался тебе в любви!
– В любви? – Рот Цэцэг изогнулся алым монгольским луком. – Какая чепуха! Ты еще веришь в любовь, мальчик? Я не узнаю тебя, Ефим Елагин. С каких это пор ты стал таким сентиментальным? Не осложняй себе жизнь. Бери от нее все удовольствия. Я приношу тебе удовольствие? Да? И ты даришь его мне. Мы квиты. Мы расплачиваемся друг с другом по счетам. Разве этого недостаточно? Ты хочешь кровавых страстей? Извини, милый. – Она вынула гребень из косы. – Я на них не способна. Если я тебя не устраиваю как любовница – брось меня. Если ты хочешь превратить меня в свою жену – тогда я умываю руки. Мой муж дает мне полную свободу. Если ты станешь моим мужем, я не увижу и кроху моей свободы.
– И для того, чтобы быть свободной, ты избавилась от моего ребенка?!
– Да. И для этого тоже. А потом, ты знаешь, я не люблю детей. Дети вызывают у меня чисто физическое отвращение. Когда я вижу маленького ребенка, меня тошнить. Рвать тянет. Вот такая я, уж извини, дорогой. Дети писают… какают… орут, визжат… корчатся, как червячки… ф– фу!..
Он вскочил с колен. Схватил ее обеими руками за щеки. Ее брови испуганно, изумленно поползли вверх, влажный алый рот приоткрылся. Его пальцы скользили по намазанной кремами смуглой коже.
– Цэцэг, ты животное! – крикнул он. – Скажи, чем вы занимаетесь с моим отцом!
Ее узкие глаза от страха округлились, сделались большими, как черные вишни. Она закусила перламутровыми заячьими зубками нижнюю губу.
– Ну хорошо. Ты отстанешь, если я скажу? Мы ловили беременных девок и продавали их и их икру. В хорошие руки. За рубеж. Очень дорого.
– Продавали?!
– Ты полный кретин, Ефим. – Она оттолкнула его руку от своего лица. – Конечно, продавали! Ведь все в мире продается и покупается! Ты же сам знаешь это! Да, продавали! На запчасти. Разве тебе не нужна будет свежая здоровая девственная почка, когда твоя откажет? Или другие, свежие и здоровые, потроха?!
Он сделал шаг назад. Он попятился от кровати.
Она сидела на кровати в своей роскошной хате на Якиманке такая ухоженная, такая молодая, красивая и здоровая, а ведь ей, наверное, уже было много лет, он же никогда не спрашивал ее о ее возрасте, ну да, она же тоже омолаживалась, она тоже питала, подкармливала себя свежими и здоровыми потрохами – тех женщин, тех детей, тех мальчиков и девочек, которых они убивали… они… она и его отец?!
Дина. Дина Вольфензон.
Они убили ее. От нее осталась только эта золотая змейка с изумрудными глазами.
Комната отца. Та комната, где висели женские украшения.
Браслеты… кольца… броши… колье… подвески… серьги… и даже золотые крестики на золотых цепочках… и мусульманские полумесяцы… и буддийские медальоны с маленьким золотым Буддой внутри и санскритским иероглифом “счастье” на золотой медальонной крышке…
Украшения… Женщины… Убитые…
Тьма вспыхнула перед ним золотой молнией разгадки.
Это все были украшения с убитых женщин! С их добычи! С их убитой, взрезанной и распотрошенной дичи…
Но ведь можно было выкупить детей… оформить документы… так делают, продают за границу – для усыновления… или для чего иного?.. Нет, нет, этого они не стали бы делать… Хлопотно… платить деньги… и потом, мать остается жива… и растет гора официоза… и она может подать в суд, если что не так, если ее обожаемого ребеночка не воспитывает зажиточная бездетная семья в Америке или во Франции, а давным– давно разделали и продали, и денежки эти уже проели, определили, проиграли в рулетку… Да и мать – тоже товар, и ее потроха на что– то дельное сгодятся… а анализы все они брали, с больными не возились… все было чисто, правильно… красиво… стерильно…
– Что с тобой?! – крикнула Цэцэг как припадочная.
Он уже шел на нее. Он шел на нее, раскинув руки, будто бы хотел ее обнять, но она, глядя в его лицо, все поняла превосходно: он сейчас ее задушит.
Она поняла, что он понял все.
– Ефим! – крикнула она и подняла перед собой руки, чтобы защититься. – Ефим! Не надо!
Красное бешенство плыло, вертелось перед его глазами. Он потерял рассудок. В нем, внутри, осталось только пламя. Красное, бешеное пламя, оно билось, бушевало, рвалось наружу. Он пытался руками, головой затолкнуть его внутрь. Напрасно. Оно вырывалось из него, затопляло с головой его, комнату, сидящую на кровати смуглую женщину с искаженным от ужаса лицом. Все охватилось красным пламенем. Зрения больше не было. Слуха не было. Он не слышал, как женщина кричала. Как визжала, страшно, на высокой ноте, умоляя, заклиная. Не видел, как закидывалось кверху, будто бы к небесам, будто в мольбе, ее лицо, как она хватала его за руки, внезапно ставшие каменными, железными. Не чувствовал, как под его пальцами сминается, гнется, пружинит, как тесто на опаре, мягкая плоть, как напрягаются сведенные судорогой мышцы, как хрустят, будто стеклянные, позвонки. Он давил и сжимал, бессмысленно скалился и тяжело дышал – до тех пор, пока красный огонь внезапно, враз отхлынул, освободил его лицо, вернул ему бедный, дрожащий, растерянный разум. Он увидел на кровати лежащую навзничь, бездыханную женщину. Ее черные волосы разметались по подушке. Ее красивое раскосое лицо синюшно вздулось. На ее нежной шее отпечатались красные пятна его пальцев.
И он снова упал перед кроватью на колени.
И ужас, красный ужас опять, от маковки до пяток, затопил его.
… … …
– Ты последняя! Последняя на моем счету, Ангелина! Повернись! Повернись, чтобы я мог видеть твои глаза!
Она обернулась к двери. Пьяница с Красной площади, нагло называющий себя пророком Нострадамусом, сбитый с ног ее пощечиной, скрючившись червяком на полу, поднял щетинистое лицо и тоже обернул его к вошедшему. Из беззубого рта пьяницы текли слюни на подбородок.
На пороге стоял Архип Косов с пистолетом в руке.
С тем самым увесистым “магнумом” последней модели, что он отнял у убитого им больничного охранника.
Он целился в Ангелину.
Заросший щетиной человечек, валявшийся у ног Ангелины, прохрипел:
– Брось, брось пистолетик, парень… Не балуй…
Вместо лица у Архипа была маска.
Тяжелая белая, застывшая, будто гипсовая маска. Неподвижные черты. Бледные щеки. Белый лоб. И только черная отросшая колючая щетина на черепе подчеркивала болезненную белизну кожи, обтягивавшей костяк лица.
– Архип, – голос Ангелины тоже превратился в хрип, – Архипка…
– Больной Косов прибыл по вашему приказанию, сударыня, – не опуская пистолета, он слегка поклонился, как паяц. – Что вам исполнить? Соло под током? Арию под дубинками Дубины? Песню, которую мы пели с Лией? О том, как меня похоронят под снегом, а на снегу разожгут костер… Ты! Наконец– то! Я тебя нашел! И я выпущу в тебя пулю! В тебя! В последнюю тебя!
– Архип… почему… в последнюю…
Человечек у ее ног застонал, перевернулся на полу с боку на бок, как кот.
Архип оскалил зубы. Теперь его исхудалое лицо совсем походило на череп. Глаза глубоко ввалились. Щеки втянулись, как у истощенного, как у узника. Зубы почернели. Но пистолет он держал твердо, бестрепетно.
– Ты последняя на моем счету. Я всех убил. Я убил их всех. Тебя я приберег напоследок. На закуску. Ты думала, что ты вечная, Ангелина?! Маленькая пулька – и тебя нет.
Она расширила глаза. Подняла руки ладонями вперед.
– Архип, – сказала она, приказывая, повелевая, – посмотри мне в глаза. Мне! В глаза!
Он, наставляя на нее пистолет, смотрел ей в глаза.
Она сосредоточилась. Она послала из своих глаз в его глаза все смертоносные токи. Напрасно. Она не чувствовала, что он их принимает. Она чувствовала: он защищен невидимой броней. Страшной, неразрубаемой, неразрушаемой ничем, никаким ее мощным гипнозом, броней собственного бесповоротного сумасшествия.
“Что значит “всех убил”? Кого – всех? А, да, всех… С ума сойти… Так это он! Он, беглец, сучонок, пацаненок, лысый щенок! Он убежал от меня… он убил моих санитаров, моих охранников… он один, герой, стручок… и он взял пистолет у мертвого охранника! А то и два! И дал деру с ними! И…”
Мысли слагались в стройную и страшную мелодию. Она, как песня без слов, звучала в ее голове.
“И он, вооруженный пистолетом, обозленный на мир, сделавший его таким, какой он есть, пошел на них на всех войной. Он, сходя с ума, стал Мстителем. Он стал убивать их. Всех. Хладнокровно. Выслеживая. Подстерегая. Одного за другим. Свой – своих. А Хайдер думал… Хайдер, бедный… Он думал – это я… Но я была так близка к этому… Я так опьянилась им, героем, что я уже была к этому готова... Я даже хотела этого!.. Хотела!.. А сделал – он…”
– Архипка, – сказала она необыкновенно мягким, вкрадчивым голосом, самым мягким и нежным, на какой только была способна, – Архипка, славный мой, родной… – Ей тяжело было выговаривать слова, какие она не произносила ни разу в жизни. – Ты сделал все правильно. Я тобой довольна. Ты правильно убил их. Их всех. И Баскакова. И Люка. И этого… Хирурга…
– Я бы перебил всех. Всех скинов. Всех, кто их ведет. Всех, кто! Нас! Обманывает! – Его визг ввинтился в потолок кабинета. – Всех! Кто нас! Якобы ведет! Верной и единственной дорогой! Потому верной и единственной дороги нет! Нет! Нет!
Он быстро вскинул руку, прицелился в плафон над дверью и выстрелил. Плафон раскололся, лампа взорвалась, посыпались осколки. В полумраке осталась гореть одна настольная лампа на столе главврача. На Ангелинином столе.
– Скажи мне… – Мелкая, еле заметная дрожь стала колыхать ее, трясти ее. Ей казалось – она танцует чечетку. – Скажи мне, почему Хайдер думал, что это делаю я? Почему в Ефима Елагина стреляла женщина? Это ты стрелял в Ефима Елагина? Или кто– то другой… другая?..
– Я очень умный, Ангелина. – Косая, как косой черный дождь, улыбка перекосила, разделила надвое его белое лицо. –Я чрезвычайно умный парень. Ты меня недооценила. Я стал тобой.
– Как… мной?..
– Да, так. Я стал женщиной! Я переоделся в тебя! Я хотел почувствовать то, что чувствуешь ты, когда ты охотишься, зверь. Я купил черный плащ – такой, как у тебя. Я купил красный парик. И потом, это заметало следы. Я не хотел, чтобы меня сцапали. Меня, скинхеда Архипа Косова, совершившего побег из твоего вонючего нужника. Чтобы убивать, я должен был жить! Жить! Слышишь, жить!
Она молчала. Она почувствовала – волосы у нее на голове зашевелились, как змеи на голове Медузы Горгоны.
– И в Ефима Елагина стрелял я!
– В него– то зачем?.. – Язык отяжелел у нее во рту, налился чугуном.
– Затем, что я хотел убить всех, с кем ты спала! Я не смог убить только Хайдера! Его – не смог…
– Откуда ты знаешь про Ефима?..
– Я видел вас вместе! На улице… Я шел за вами… Он брал тебя за руку…
– Ты… ревнуешь меня?!..
Ее смерть ревновала ее. Это было смешно и страшно.
Ее смерть ревновала ее к ее жизни.
Дверь осторожно подалась. В нее просунулись две рожи. Санитары. Архип быстро перевел на них прицел. Рожи, округлив изумленные рты, исчезли. “Ничего, Ангелина, крепись, держись. Он непробиваем для гипноза, он как под анестезией, но говори, говори, говори с ним. Главное сейчас – говорить. Не дать ему выстрелить. Иначе тебе крышка. Тебе – и этому… пьянчужке… А ты, козлиха, действительно поверила, что он – пророк?!..”
– Ты правильно сделал, Архип, что выстрелил в лампу, – нежно пропела она. – Хорошо, когда полумрак. Я люблю полумрак.
Она почувствовала, как постыдно дрожит кожа у нее над желудком. Там, где солнечное сплетение. Как жутко, тоскливо сосет под ложечкой.
“Говори с ним. Не молчи! Ты замолчишь – и он выстрелит. За ним не заржавеет. Он перебил их всех. Они стали его врагами. Все обернулось для него на сто восемьдесят градусов. Он раскусил людской обман. Он впервые не поверил знаку, под которым его и ему подобных вырастили, вскормили. Он не поверил знаку ненависти, придуманному чужими и далекими. Он поверил знаку своей собственной ненависти. Родной. Незаемной. И обратил ее против тех, кто вел его за собой. Молодец! Поэтому он не поддается гипнозу. Он не поддастся сейчас ни моему гипнозу, ни чьему– либо другому. Важно выиграть время. Важно оттянуть момент нажатия на курок. Важно не дать ему выпустить пулю. Что я должна сделать?! Хайдер! Вот твой выкормыш! Хайдер! Это ты, ты сделал его таким! Сделал – их – такими!”
– Полумрак? – спросил Архип. Его почернелые зубы блеснули в свете настольной лампы. Ангелина смотрела, как играют отсветы в черной вороненой стали пистолета. –Ты любишь полумрак? Ты любила полумрак тогда, там, в палате, когда мы трахались с тобой прямо на полу? А помнишь, как мы жарили мясо прямо в палате? Какая экзотика! Ты ведь всегда делала что хотела, Ангелина! Ты меня захотела! Беззащитного! Игрушку! Экзотику! Но я не игрушка, Ангелина! Я оказался не игрушкой! Я оказался солдатом! И я понял, что я хорошо умею стрелять! Я всех убил! Я пришел к тебе! И ты умрешь!
Она побледнела почти как он. Вот сейчас она поняла – он пришел действительно убить ее.
– Сумасшедший, – пробормотала она, – сумасшедший, ты сошел с ума, Архип, ты…
– На колени! – крикнул он и наставил дуло ей в лоб.
Она смотрела на него расширившимися, ярко– желтыми рысьими глазами, и зрачки ее пульсировали, черно вспыхивали и тут же сужались.
Черное дуло черным глазом глядело на нее.
– Я? На колени?.. – Ей внезапно стало дурно. Ее замутило. Этот щенок с пистолетом, эта лысая погань вздумала приказывать ей встать на колени! Ей, Ангелине Сытиной!
Ей хотелось крикнуть: “Ты спятил окончательно! У тебя поехала крыша! Я никогда не встану перед тобой на колени! Лучше убей меня!”
Ведь крикнула она тогда, дома, пришедшему к ней Хайдеру: убей меня, если хочешь… Она крикнула это ему потому, что знала: он никогда не убьет ее! Потому, что любит!
А этот щенок ненавидит ее! Ненавидит лютой ненавистью! Поэтому он сейчас нажмет на курок. Нажмет, голову на отсечение!
– Как? Прямо так и встать?..
– Быстро!
Он приблизил пистолет к ее лбу.
Маленький человечек на полу обнял колени руками, съежился, превратился в клубок грязных тряпок, дрожащей плоти.
– Ты хочешь, чтобы я встала на колени?.. Сейчас, сейчас… Я сейчас встану… Видишь, – она сделала шаг к нему, – я уже встаю…
Она медленно расстегнула халат. Халат упал к ее ногам.
Она медленно расстегнула сзади, на затылке, застежку на платье. Платье медленно, как сухая трава с обрыва, сползло к ее ногам.
Она стащила сорочку. Она расстегнула и отбросила прочь лифчик. Она сбросила туфли. Она сняла колготки. Она стянула трусики – последнюю защиту, последнюю заслонку, закрывавшую ее от голой, стоявшей прямо против нее смерти.
“Правильно, ты все делаешь верно, Ангелина. Только продолжай говорить. Умоляю тебя, дура, говори. Болтай языком. Пока он еще слушает. Пока он еще способен слушать”. Она стояла перед своей смертью тоже голая, и ее губы дрогнули, и она чуть высунула язык между зубов, и положила руку себе на лобок, покрытый рыже– золотистым шелковым руном, и всунула палец в расщелину, и выставила вперед грудь с темно– красными напрягшимися, вставшими торчком сосками. Она соблазняла свою смерть, и смерть смотрела на нее во все глаза.
И смерть, кажется, дрогнула, как ее хищные полуоткрытые губы.
И смерть, кажется, чуть опустила пистолет.
И она, Ангелина, сделала шаг вперед. Всего лишь шаг. Полшага.
И смерть на шаг отступила к двери.
– Архип, – сказала Ангелина, обращаясь к своей смерти, – Архипка… Погляди… Я же хочу тебя… Я же люблю тебя… Иди ко мне… Последний раз… Мы будем с тобой вместе здесь последний раз… так, как мы любили с тобой… на полу… а потом ты меня убьешь… если сможешь…
Архип облизнул губы. На его пергаментно– белые щеки взбежала краска. Он смотрел на лобок женщины. На расщелину, преддверие ее лона, куда он входил, дрожа, откуда выходил, тоже дрожа, потому что не хотел оттуда выходить никогда. На ее палец, то погружавшийся внутрь, то вылезавший наружу. Палец дразнил. Глаза дразнили. Губы дразнили. Вся женщина, подаваясь к нему всем телом, дразнила, завлекала, манила его: иди! Иди ко мне! Смерти нет! Есть только жизнь! И жизнь надо любить хищно, жадно, красиво! Иди!
И он шагнул к ней.
И она шагнула к нему.
И тут лежащий на полу пьянчужка пробормотал:
– Север, Юг, Запад, Восток… Кельтский Крест…
И Архип, уже расстегивающий одной рукой пуговицы, уже сбрасывающий черную рубаху, остановился. Он услышал. Он услышал пьяное бормотание. Он замер.
Пистолет, опустившийся было, снова взметнулся.
Он стоял перед ней голый до пояса. Мышцы играли под его исхудалыми, торчащими ребрами. Он сказал одними губами:
– Кельтский Крест. Вот он, Ангелина. Восток, Запад, Юг, Север. Весь мир. Мир будет наш. Не сейчас. Много лет спустя. Много столетий. Все равно будет. Погляди сюда. Крест на моем плече. Видишь? Ты помнишь, как ты целовала его?
Она приблизилась к нему. Наклонила голову над его плечом, над татуировкой. Тихо сказала:
– Помню. И сейчас хочу поцеловать.
Она прикоснулась губами к вытатуированному Кресту, и Архип вздрогнул всем телом. Она скосила глаза. Пистолет. Так рядом. Так близко. Она слышала учащенное дыхание Архипа. Она видела: под черными замызганными джинсами вздувается, шевелится зверь, которого она разбудила. Поднимается упрямая жизнь – внутри ее смерти. Пистолет близко. Наброситься. Выхватить. Дать подножку. Нет, лучше захват “лапы тигра”. Нет, лучше прыжок снизу вверх – позиция “обезьяна”. И сразу повалить его на пол. И локтевой захват. И – душить, пока не потеряет сознание. Да. Так. Она сделает все так. Быстрее!
– Архипка, милый мой, желанный мой… Я так хочу тебя… Здесь… и сейчас…
Она положила руку ему на джинсы, туда, где нагло, томяще бугрилась вздыбленная жизнь. Он положил свою руку поверх ее руки. Пистолет он держал возле ее виска. Холодная вороненая сталь прикасалась к виску, и внутри нее все обрывалось, ухало в бездну, как при сильнейшем оргазме с потерей сознания, и она готова была взять в рот это черное, длинное холодное дуло, лизать его языком, всасывать, гладить губами.
– Кельтский Крест, – снова, уже отчетливей, сказал пьяный человечек, распростертый на полу. – Огненный Крест! Он горит!.. горит… И на нем сгорает душа… И на нем сгорает тот, кто не увидел… кто не услышал…
Архип отшагнул назад. Ангелина тоже отшагнула назад. Ее приоткрытый рот свела судорога желания. Играть со смертью оказывалось даже приятно. Зачем она, смерть, так далеко попятилась? Так строго встала в караул – и больше не приближается к ней, не дразнит ее собой?
– Прощай, убийца людей, мучительница, – он вытянул руку с оружием. – Если знающие люди не врали мне, то мы с тобой там встретимся. Там. Далеко. На черном небе. В черном круге с огненным крестом. Хайль!
Она не успела прыгнуть. Не успела захватить. Не успела дать подножку. Не успела испытать наслаждение. Она уже ничего не успела.
Он выстрелил.
Падая, Ангелина увидела над собой огромный красный круг в черном небе. Красная Луна всходила над миром. В красном круге стоял, нарисованный сиеной жженой, любимой краской покойного Витаса, огромный черный крест. Только не припасли люди нового Бога для него.
Последнее, что она успела проговорить, и Архип ее услышал:
– К Хайдеру… к Хайдеру меня, скорее…
Человечек забился в угол кабинета. Архип белыми слепыми глазами посмотрел на него. Поднес пистолет к виску.
– Ты, Нострадамий, слышишь… я ни во что не верю… Меня все обманули… И первый – Хайдер… И все гитлеры, и все вонючие люксы, и все новые правые, и все черные жопы, и все раскосые стервозы… Все, все на свете – мразь… все – дерьмо… я не могу жить в дерьме… она… она лгала мне, что меня любила… она брала меня обеими руками, как берут цыпленка табака – и ела, ела, грызла, обсасывала мои косточки… Все жрут друг друга… Все… Не хочу больше участвовать в вашем грязном спектакле! Не могу! Живите без меня! Одни! Я… пошел…
Он посмотрел на Нострадамия. Нострадамий подполз к нему. Ближе, еще ближе. Обнял его ноги заскорузлыми руками. Уткнулся лбом ему в колени. Под потной, будто масленой, кожей перекатывались железные веретена мускулов. Нострадамий выдохнул восторженно:
– Ты до того красив, парень…
– Паря, у нас в Сибири говорят, – тихо сказал Архип и поднял пистолет. И приставил его к своему виску. И улыбнулся криво, зачумленно. И внезапно – неожиданно ясно, радостно.
– Откуда радость? – забормотал Нострадамий. – Откуда счастье?.. Оно всегда приходит само… Когда его не ждешь… Оно – не из нашего мира…
– Я не боюсь смерти, – сказал Архип, и его лицо еще больше просветлело, – она слишком быстрая, короткая, чтобы можно было ее так долго бояться. Всю жизнь.
Он нажал на курок. Негромкий выстрел раскатился по кабинету.
Когда в кабинет вбежали милиционеры, санитары и запыхавшиеся, перепуганные дежурные медсестры, а за ними в дверях толклись, тупо уставясь в пространство, охранники с оружием наизготове, они нашли в кабинете два тела, истекающих кровью, мужское и женское, и одного живого человека. Человек сидел над убитыми в молитвенной позе, сложив руки, подняв глаза к потолку, будто к небу. Он бормотал что– то нечленораздельное. Судя по всему, это был больной психиатрической спецбольницы Ангелины Сытиной, настоящий сумасшедший, а как же иначе, хоть он и был одет не в больничную пижаму или казенный балахон, а в грязные брючишки и пиджачок как с чужого плеча. Санитары скрутили его, замотали в черную ночь смирительной рубашки, крепко затянули черные ремешки за спиной, – там, где из– под лопаток должны расти крылья. Тело молодого бритого парня, обнаженного по пояс, в черных джинсах, унесли на носилках, чтобы отправить в морг для опознания. Парень выстрелил себе в висок. Он и мертвый не выпустил пистолет из руки. Женщина еще была жива. Она была ранена в грудь. Она стонала, и изо рта у нее выбрасывались, под напором последнего судорожного дыхания, сгустки ярко– алой артериальной крови. Крови было много и на полу. Видимо, тот, кто стрелял, пробил ей пулей аорту, и вся кровь, бившаяся в женщине, одним, двумя толчками через рот вылилась, выплеснулась на кафельный больничный пол.
… … …
Дарья дрожала. Она мучительно морщила лоб, пытаясь понять, услышать, прислушаться, догадаться. Не могла. Она чувствовала кожей: происходит страшное. Незнакомый человек присел перед ней корточки и взял ее за холодную руку.
– Ребенок, – сказал незнакомый ей голос – тот, что разговаривал с Витасом, пока тот внезапно не умолк. – Совсем еще ребенок. Что ты здесь делаешь?
Тускло, красно горела ягода лампады, трещал фитиль, масло убывало. Дарья смотрела прямо перед собой неподвижными раскосыми глазами.
– Э, ребенок, – сказал старик Хатов и потрогал ее шершавым пальцем за щеку, – да ты, ребенок, кажется, слепой… Ты ничего не видишь, девочка?.. Или видишь?.. Как тебя зовут?..
– Дарья, – сказала Дарья.
Хатов провел ладонью ей по волосам. Ощутил, как она дрожит.
– Не дрожи, заяц, – сказал он тихо. – Чему надо было быть – произошло. Теперь нам надо делать отсюда ноги. Да поскорее.
– Сейчас ночь? – спросила Дарья.
– Ночь. Часа три. Скоро рассвет.
– Кто вы?
– Я? – Старик рассматривал слепое лицо, как картину. – Я мститель.
– Кто, кто?..
– Тебе незачем знать мое имя. Впрочем, ты и так не сможешь меня опознать, потому что ты меня не видишь. Мы должны уходить отсюда. Скорее. Ты любовница этой сволочи? Натурщица? Где твои вещи? В гостинице?
– У меня нет вещей, – сказала Дарья. – Я не его любовница, хотя он меня изнасиловал. У меня нет ни вещей, ни документов. Он дал взятку в аэропорту, наверное, очень большую, потому что я полетела сюда без билета. Где он? Почему он молчит? Почему так тихо?
– Я повесил его, – сказал старик. – На веревке его люльки. Знаешь, куда пошла его душонка? Прямиком в ад. Страшный Суд для него уже начался. Ему несладко придется.
– За что вы… его?.. – Ее голос дрожал так же, как она сама. Сидя на каменных плитах, она крепко обняла себя за колени, чтобы не дрожать.
– За все хорошее. Он много погубил людей. Преступнику полагается казнь.
– Вы… его… без суда?.. сами?..
– Суд? – Старик поглядел поверх ее головы, туда, во мрак, где над затылком грозного Христа горел красный лунный нимб. – Ты считаешь, что всегда нужно прибегать к человеческому правосудию? Я есть орудие возмездия. Я, живой. У меня есть голова, которая мыслит, ноги, чтобы достигать, и руки, чтобы осуществлять.
– Откуда вы знаете, что он сделал? – Ее голые ноги крючились на холодных плитах. Смуглые руки обхватывали плечи, шею. – Может, ничего особенного… ничего такого страшного?..
– Молчи, слепая девочка. – Старик шагнул к ней. Взял ее за руку. Поднял с полу. – Идем. Если у тебя в гостинице действительно ничего нет из вещей, едем сразу в аэропорт. Мне тебя будет сложнее вывезти без документов, чем этому… – Он посмотрел на качающееся под куполом тело. – У меня нет, может быть, таких денег, что он сунул в кассу за тебя. Хотя деньги у меня есть. И их может хватить. Посмотрим. Светает. Сейчас вся проблема – найти коня, чтобы доскакать до аэропорта.
– Коня?..
– Машину, неужели не поняла.
– Какой сегодня день?
– Пятница. – Он снова заглянул в слепые глаза. – Страстная пятница.
Старику удалось заловить сонного водителя, дремлющего на руле своего потрепанного “альфа– ромео”, в тени огромных платанов, около ближайшего к храму ночного ресторанчика. Старик рванул на себя дверцу машины, наклонился, на ужасающем английском сказал: “Аэропорт, плиз. Ай хэв мани”, – и похлопал себя по карману рубахи. Водитель встряхнулся, провел рукой по лицу, сгоняя остатки сна, и проворчал по– русски: “Не утруждай язык, папаша, валяй по– русски, Иерусалим наполовину русский город, ты что, не в курсе?” Старик скупо улыбнулся. Резче обозначились его морщины. Он втолкнул Дарью в машину, сел рядом, сжимая ее руку. Водитель, трогая с места, покосился на странную парочку: старик и его милашка, китаянка, что ли?.. в Иерусалиме завелись восточные притоны?.. Они домчались в аэропорт “Бен– Гурион” в мгновение ока. Старик открыл свой паспорт, вынул свой билет, рассмотрел его чуть ли не на просвет, вынул из кармана толстую пачку долларов, послюнявя палец, брезгливо пересчитал деньги. Глянул на слепую. Дарья покорно стояла рядом. Ее прекратила бить дрожь. Она сторожко, как зверек, прислушивалась к тому, что происходило вокруг нее.
“Да, девчонка, – выдохнул старик, – денег– то у меня густо, но вот как быть с этим аэропортовским народцем?.. Не умею я с ним говорить. Политесу не обучен. Однако попробую”. Дарья вздрогнула от этого сибирского “однако”. “Однако попробуйте”, – улыбнулась она. “В Москву– то хочешь обратно?.. Что над моим “однако” смеешься?.. Сибирячка, что ли, сама?..” Дарья отбросила рукой волосы за спину. “Из Улан– Удэ”. Своя, значит, кивнул старик, потрепал ее жесткой рукой по щеке.
Они оба пошли к кассам, и старик крепко держал ее за руку. Он сунулся в первое попавшееся окошечко, залопотал что– то по– русски, на своем чудовищном английском, жестикулировал, взывал. Через минуту к ним с Дарьей подошел переводчик. Красивый еврейский мальчик спросил у старика по– русски: “Какие проблемы?” Старик нашелся моментально. “Вот, спас девочку из ночного бара. Наша, из России. Молоденькая дурочка. Клюнула на объявление о работе… а попала в бандитское логово, прямиком к сутенерам. Заставляли пахать денно и нощно, издевались… Бросилась ко мне, случайному человеку, с просьбой – спасти… вернуть обратно в Россию… а документы– то у нее все украли! Или уничтожили эти… кто использовал ее…” Красивый мальчик посерьезнел, озабоченно пересказывал на иврите сосредоточенно слушающим аэропортовским работникам слова старика. “Почему вы не обратились в посольство?” Старик побледнел. “Потому что это лишние хлопоты… проволочка. Ее могут вообще не выпустить. Вы представляете, с чем это все связано! У бедняжки ни гроша! Они грабили ее… били… Пожалуйста, господа, будьте людьми…” Корявая рука старика сунулась в карман – за деньгами. Красивое библейское лицо мальчика напряглось. Кассирша что– то сказала из– за стекла. “Билет на рейс, на котором полетите вы с девочкой, стоит двести восемьдесят долларов. Когда будете садиться в самолет, предъявите стюардессе вот эту бумагу”, – библейский мальчик вежливо протянул старику листок, на котором были поставлены замысловатые закорючки иврита. “Спасибо. Вы оказались людьми”, – старик наклонил голову, отсчитал триста долларов, положил на стойку и низко, в пояс, поклонился мальчику и кассирше за стеклом.
В самолете они ничего не говорили друг другу. Когда летели над морем, старик взял Дарью за руку. Сжал ее тонкую хрупкую лапку в своей тяжелой, костистой, морщинистой руке. Она не обернулась. В ее слепых глазах, сияя ей в лицо из иллюминатора, отражалось бирюзово– голубое небо.
… … …
Отец Амвросий, в миру Николай Глазов, занимался любимым делом.
Он настраивал гитару.
В часы одиночества он любил побрякать на гитаре, изобразить пару– тройку старинных русских романсов, душещипательно возвести глаза к небу: “Ах, ямщик, не гони лошадей!.. Мне некуда больше спешить…” – а потом, для смеху или для контраста, забить по струнам, заблажить: “Йе– а– а– а!.. Ай лав ю, май бэби, ай лав ю– у– у– у!..” Амвросий щипал струны, склонял голову, как филин, прислушивался, прижимал струну пальцем, прижимал другую, соседнюю, сравнивал чистоту тона. Он мог просидеть за настройкой гитары долго. В это время он отдыхал. В это время он обдумывал дела.
Дел у Амвросия накопилось невпроворот.
Витас отчего– то заглох. Как заткнули его пробкой. Он не звонил из Иерусалима, хотя, по расчетам Амвросия, он должен уже давно был вернуться в Москву. Он набирал его московский номер. Он набирал номер его мобильника. Он набирал номер Цэцэг. Все телефоны молчали. Господа развлекаются?.. отдыхают– с… Вит привереда, баловень, закончил фреску, махнул на Канары… Какие Канары, он устал в Иерусалиме от жары… рад будет вернуться в московский апрель… Завтра, кстати, Пасха… Давно ли он служил Пасхальную службу?.. Литургию Василия Великого… литургию Иоанна Златоуста… Все кануло во тьму…
Он ударил по струнам и запел, изгаляясь, корча рожи, посматривая на себя в зеркало:
– А завтра Пасха, Пасха, Пасха,
Ах ты Пасха ты моя!
Жизнь моя такая сказка,
Что не надо ни…
Он с наслаждением, громко пропел скверное слово и подумал про себя: “Ах, какой же я святотатец, какой я поганец, и почему меня до сих пор не разразил громом Господь? А потому что нет на самом деле Господа– то, нет, и делу конец”. Небеса не разверзались над ним и тогда, когда он это думал. И тогда, когда он делал все то, что не заповедал Господь чадам Своим.
– Ах ты Пасха, Пасха, Пасха…
Он мягко тронул, перебрал одну за другой струны. Отличный тон у “Кремоны”! Ну вот, настроил, лучше не бывает. Он вспомнил, как, после концерта мужского хора Новодевичьего монастыря, где он одно время был регентом, они все, мужики и парни, развязав подрясники, пили водку, он играл на гитаре и пел переложения псалмов: “Хвалите Господа моего”, “Живый в помощи Вышняго” и разные другие, чуть ли не всю Псалтырь. Бас, Лев Панкратов, гудел: “Николушка, ну это ж что ж такое, негоже псалмы царя Давида в светском изложении исполнять!.. Игры с дьяволом это, запомни!..” Если б они все знали, бедные, наивные, милые идиоты, с каким всамделишным дьяволом он играл! И не собирался бросать игру, между прочим. Кто не рискует – тот не выигрывает.
А что он, Амвросий, выиграл?
По самому крупному счету – что?
Ми, соль, си, ми. Ми– минорный аккорд. Потом ля– минорный. Потом доминанта – си, ре– диез, фа– диез. Что споем, отец? Да ничего. Настроил, нервы успокоил, и будет баловаться. Дела. Надо звонить мужикам– чистильщикам и Георгию. И этой… Сытиной. Вит сказал – у Сытиной много материала, и мужского и женского. Бери не хочу, завались. Вся штука в том, чтобы разработать хитрые, безупречные и беспроигрышные ходы похищения, продажи и переброса этого материала туда, куда надо. Телефон Цэцэг молчит. Набрать номер Сытиной?
Сытина… Сытина… Кажется, он помнит ее… Да, похоже, тогда это была она…
ПРОВАЛ
Красные волосы, забранные в пучок. Склоненная голова. Женщина пристально всматривается в то, что делается внизу. Глаза горят хищным любопытством. В них – никакого страха.
Черные волосы, забранные в пучок. У этих мегер и прически похожи. Правильно сделали, что забрали густые космы на затылок – чтоб не мешали.
Красноволосая любопытно наблюдает. Ее ноздри, дрожа, жадно раздуваются. Она обоняет противный сладковатый запах крови. Она врач, ей все это привычно. А вторая? Второй все тоже – как с гуся вода. Будто смотрит ужастик по видику. Будто бы все это не настоящее.
С рук той, что лежит, распластанная, на столе, снимают перстни, браслет, золотые часы. Они поймали брюхатую девку на улице? Нет, они выслеживали ее долго, это дочь богатых родителей, новых русских. Прикинута девочка по высшему разряду. Французское нижнее белье. Сережки из драгоценного австралийского опала. Кольца, браслеты, цепочка – все чистое золото. И красивой выделки, делал явно частный ювелир. И плод почти доношенный, ее отследили и выловили на сносях. Вот– вот родит. Полноценный человечек. Дорого будет стоить на их рынке.
Он переводил взгляд то на одну, то на другую. Черная смуглая породистая лошадь. Белокожая, желтоглазая, с красной гривой. Две породы – две масти. А кровь одна. До него вдруг дошло, что эти обе – тоже женщины. Как и та, что распята на столе, чей рот заклеен крест– накрест черным скотчем.
Черный крест. Они закрестили ей рот вечным молчанием. Они не дадут ей крикнуть перед смертью последнее слово. А ведь всякий человек, умирая, имеет на него право.
Кто они такие, чтобы отнимать у живого человека его право, данное ему Богом? Отнимать у него данную ему Богом жизнь?
Бога нет, нет, Амвросий. Ты же прекрасно знаешь это.
У них классные хирурги. У них высокопрофессиональные чистильщики. У них надежные анестезиологи. Однако они экономят наркоз. Часто все делают без наркоза. Лекарство – тоже яд, оно действует на плод. А органы должны быть свеженькие, не отравленные, не загрязненные, не замученные. Пусть мучается мать. Она все равно же отработанный материал, шлак. Хотя все в дело идет. Фабрика– кухня не знает простоя.
Красная женщина. Черная женщина. Красное. Черное. Рулетка. Где крупье? На кого он, Амвросий, из них поставит?
На черную лошадку?
Норовистая. Дикарка. Чужачка. Восточное копытце. Такие – гнали плеткой рабов, захваченных Чингисханом.
На красную?
Эта покруче будет. Пошибче бежит. На эту кобылу ставят герцоги, генералы и олигархи.
Шеф– папа сказал – она практикующий психотерапевт, ее пациенты – богатейшие господа. Не теряется бабенка в жизни. Да еще, по слухам, какую– то оригинальную диссертацию кропает. Научная косточка. Классный материалец для своих изысканий она здесь почерпнет. Ишь как жадно смотрит. Так и впилась глазами.
Женщина, распятая на столе, дернулась под иглой анестезиолога. Шура Коновал виртуоз, как классно всадил иглу. Блестяще. Прямо в вену попал, даже и без того, чтобы руку резинкой перетянуть. Глаз наметанный.
Красноволосая вперилась в глаза лежащей на столе. Вонзила взгляд в ее сумасшедшие, расширившиеся зрачки.
“Боже, – говорили глаза, глядевшие снизу вверх, – Боже, если Ты есть, помилуй меня в мой смертный час!”
“Ты, – говорили глаза, глядевшие сверху вниз, – ты, козявка, насекомое, животное, человечек, зародивший в себе другого человечка, иную жизнь, видишь, как все просто на самом деле. Бога нет, и я – твоя хозяйка. Мы – властелины твоей жизни. А если Бога нет, то и тебя нет. Поняла?”
Глаза, глядевшие снизу вверх, оставались открытыми широко – до самого последнего момента, когда тело, живое, страдающее, напрягшее в борьбе с дикой болью все свои мышцы, не перестало дергаться под ударами скальпелей, безжалостно кромсавших ткани и сосуды, и ноги, задрожав в коленках, вздрогнули и вытянулись, и ступни странно вывернулись пятками наружу.
И глаза, глядевшие сверху вниз, погасли, потухли, веки дрогнули и чуть призакрылись. Красноволосая выпрямилась. Выгнула усталую спину.
Госпожа Сытина просмотрела весь фильм ужасов до конца. Не издав ни звука. Не шелохнувшись. Не оторвав глаз от происходящего.
А он, входя и выходя в комнату, все смотрел и смотрел на красивый гордый профиль, на круглый красный пучок тяжелых волос, оттягивавший назад царственную голову.
В дверь стукнули. Стукнули, а не позвонили.
Он слишком хорошо знал этот стук.
Так стучали все исполнители. Так стучал Витас. Так стучала Цэцэг. Так стучал Шеф– папа.
Он бросил гитару на диван, быстро пошел к двери. Бросил взгляд на часы. Полдвенадцатого ночи. Страстная суббота. А им что, им все равно. Он не удивится, если и завтра, в Пасху, Шеф– папа что– нибудь новенькое придумает. Он прилетел из Греции на днях, и уже впряг их в новое дело. Такое же прибыльное, как торговля живым товаром. Не менее опасное. Но они привыкли работать без лонжи. Привыкли кувыркаться под куполом. Не храма, а цирка.
Щелкая замком, он подумал о дурацком сегодняшнем звонке Шуры Коновала. Шура Коновал позвонил ему утром и дрожащим голосом изрек: “Амвросий, атас, кажется, Вита в Иерусалиме убрали!.. Я новости слушал… Брешут, что сам повесился… В храме…” Он не поверил. Посмеялся над Шурой. “Очередная утка, старик! Точно тебе говорю! Вита сколько раз отпевали! Помнишь, однажды на яхте Шеф– папы оргию устраивали с греческими блядями?!.. так потом папарацци растрезвонили, что он с борта яхты упал, сиганул прямо в Эгейское море, козлище!.. Брось, выкинь из головы… Через две недельки Вит воскреснет из мертвых, как ни в чем не бывало…” Он рванул на себя тяжелую внутреннюю дверь, загремел замком наружной, железной, подумал миг – и открыл.
Он все– таки открыл.
Зачем он открыл дверь!
На пороге стоял не исполнитель. Не чистильщик. Не посыльный. Не анестезиолог. Не курьер от Шеф– папы. И даже не Витас.
На пороге стоял незнакомый старик, рослый, костистый, мрачный, худой, и смотрел на Амвросия взглядом Иоанна Крестителя пророчествующего. И вместе со стариком на Амвросия смотрело дуло.
Черное дуло пистолета.
– Назад, – тихо сказал старик. – Быстро назад! Я убью тебя у тебя дома.
Амвросий, сглотнув, отшагнул назад. Старик, не сводя с него пистолетного дула, шагнул за ним, закрыл обе двери за собой.
– Назад, назад, в комнату. Молчать. Не орать. Молитву знаешь, собака? Любую. Знаешь ведь, отец… – старик показал зубы в страшной усмешке, – Амвросий. Помолись. Две минуты.
Амвросий ринулся к нему – выбить пистолет из руки. Не получилось. Старик мгновенно отшвырнул его назад вполне профессиональным бандитским ударом. “Так дерутся прожженные урки… блатные на зоне…” – подумал он, падая на пол, закрываясь рукой от занесенной над ним чужой ноги в мощном сапоге.
Старик опустил ногу. Дуло по– прежнему бесстрастно глядело на Амвросия дикой пустотой.
– Нет, бить ногами тебя, как собаку в брюхо, я не буду, – сказал старик с отвращением, – ты не собака. Ты хуже. Собака – благородная тварь. Ты – гиена. Ты – пиранья. Встать! Встать, чудовище!
Амвросий, держась за ушибленный локоть, встал. Его рот приоткрылся. Борода мелко тряслась. Его лицо от страха будто потекло белым мучнистым киселем.
– Откуда вы узнали… наш условный стук?.. Я бы никогда… никому…
– Тебя это заботит? Молитву! Иначе я выстрелю сразу, и ты, дрянь, не сможешь даже покаяться перед небесами, как человек! У тебя еще есть шанс! Читай!
Амвросий медленно подогнул ноги, медленно опустился на колени. Его зубы стучали друг об дружку. “Узнали, узнали, узнали, – стучало молотками в висках. – Сначала Вит… потом я. А Цэцэг?! А Сытина?! Их телефоны тоже молчат. Значит, они… Их уже нет! А Шура Коновал?! А все остальные?! А… Шеф– папа?!”
Он забормотал, подобострастно глядя на старика с пистолетом в руке:
– Отче наш, иже еси на небеси… да святится имя Твое… да приидет царствие Твое… да будет воля Твоя яко на небеси, и на земли… Хлеб наш насущный даждь нам днесь… И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим… И не введи мя во искушение, но избави мя от лукаваго…
– От лукавого? – Старик крепче сжал пистолет. – Да уж, лукавый пообнимал тебя, гнида, вволюшку. И поимел. Козел ты был, расстрига, козел, а то и петух. Подмяли тебя под себя, а ты всем и давал. А потом и втянулся. От лукавого, сказано в молитве? Пуля тебя от лукавого избавит. Лишь она. Сам ты не вырвешься. Аминь!
Амвросий рванул скрюченное отчаянием тело вперед, к старику: не надо! Пощади!.. Он понял краем сознания только вспышку адской, нечеловеческой боли, мысль: вот так же все они умирали, так же им всем было больно, – а потом ощутил блаженную и сладкую, потустороннюю тьму, в которой пропало навсегда все сущее и он сам.
… … …
Чек ничего не понимал.
Он давно уже ничего не понимал, что к чему. Так же, как многие братья– скины.
Хайдер как сквозь землю провалился. Фюрер, так его мать! Кинул их, как форменный кидала! Сначала мозги им запудрил, а потом – в кусты… Многие слонялись без дела. Многих забирали в колонии, в детдома, в распределители, на зону. Многие подсаживались на иглу, уходили из скинов – в настоящие нарки, забывали великие идеи, что вели их к победе, и опьянялись сиюминутным острым кайфом. Многие становились ворами, добывая деньги из карманов у прохожих, пассажиров, покупателей, и их ловили и сажали в тюрьму. Хайдер, где ты?! Ты же так хорошо вел нас, Хайдер! Ты знал цель! Ты знал, куда идти! А теперь мы ничего не знаем без тебя. Мы потеряли нить. Мы заблудились. Оказывается, если нас много, нам непременно нужен – поводырь?!
Чек ничего не понимал, что происходит, как быть, что делать. И самое главное – где Дарья. Ефим отпустил его, насовав ему в карманы хренову тучу бабок, за это взяв с него обещание работать на него. Проще говоря – стать его слугой… или даже осведомителем. Ох, цистерну коньяка они с ним выпили в тот раз! Пить мужик здоров. Но и он тоже не облажался. Он наврал ему с три короба, что да, он с ним, они скорешились, он уже не будет шантажировать его, вытрясать из него деньги на чужих дядей, лучше путь Ефим ему денежки дает на него самого, да только бы поскорее отпустил его! И он был отпущен, а как же иначе. Сговор есть сговор. Где Дарья? Дарья где, эй вы, люди, я вас спрашиваю?!..
Никто не знал, где Дарья.
Никто не знал, где Хайдер.
И опять же хренову тучу скинов и их маленьких вождей, их любимцев и лидеров ухлопали почем зря всего лишь за какой– то вшивый последний месяц. Уметь надо. Кто это проделал? Один? Многие?
Зубр брехал: какая– то баба. Вроде бы, когда Люкса убивали, соседи в доме видели какую– то странную высокую бабу в черном плаще. Все может быть. Маньячка. Да нет, конечно, подосланная. Агентша. Это ясно как день.
Неужели она, сучка, всех и замочила?! А где же тогда Бес?! Неужели и Беса – тоже…
Улица. Фонари. Ночь. Шаги. Его шаги по асфальту. Кажется, сегодня Пасха. Так тоскливо звонят колокола. Тревожат душу. И ночь, гляди, такая бурная – ветер срывает с крыш кровельное железо, гнет водосточные трубы, черные рваные облака летят по безумно– светлому небу, апрель, бешеный апрель, безумная весна. В России что зима, что весна, что лето и осень – одинаково безумны. Все с ума сошли. Все мечутся и бьются – а с кем? Может быть, с собой? И за несущимися по небу лоскутьями облаков просвечивает Луна. Она розово– оранжевого цвета, как срез апельсина. Тьма сгущается – Луна краснеет. Стыдится. Все перестали верить в Бога, а Пасху справляют. Куличи пекут, творог с яйцами и изюмом мешают, яйца красят. Крашеное яичко бы сейчас! Чек сглотнул слюну. Черт, голоден. Голоден, как всегда. Баксы, что всучил ему этот богатый придурок, он уже положил на банковский счет. И, между прочим, ни одному своему дружку, ни одному бритому скину ни слова про это не сказал. Это было его личное дело. Деньги – личное дело каждого! И делу конец!
Деньги… Деньги… Деньги…
Колокола звонят…
Зачем они звонят так томительно?.. так надрывают душу…
Откуда звонят?.. С храма Христа Спасителя?.. С церкви Вознесения?..
Искромсанное ножами, страшное лицо глядело на черноту реки. Москва– река перекатывала легкие, мрачно– черные волны. В воде отражались береговые фонари, огни высотных домов, огни машинных фар, огни мостов. Город, в который его забросила судьба. После стольких странствий… после ужасов и мытарств… И мытарства продолжаются. А разве они кончаются когда– нибудь? “Только с жизнью”, – подумал он.
И только он успел это подумать, как сзади на него набросились. Скрутили ему руки. Дали по шее. Сунули в бок. Он стиснул зубы. Голова его свесилась набок, как ватная.
– Вы, – прохрипел он сквозь зубы, – полегче… Что надо?!
– Заткнись. Ничего не надо. Не дергайся. Давай в машину.
Его втолкнули, с руками, на которых защелкнулись наручники, в машину, и он, раздув ноздри, узнал этот запах. Он узнал голос человека, говорившего с ним, хотя в ночной тьме он не различил его лица. Телохранитель Ефима Елагина Михаил. И машина – его. Елагинская.
И он немного успокоился. Его выследили. Его поймали. Его везут. Везут к хозяину. К хозяину, заплатившему ему деньги. Правда, пока неизвестно за что. Может, просто по пьяни мужик прикололся. Его везут к Ефиму Елагину, ну и что тут такого? Что тут за хипеж? Что за бодяга? Что за тусняк?!
– Эй, Миша, – подал он голос, глядя вперед перед собой в несущуюся за окнами тьму, прорезаемую огнями, – это ты, что ли, чувак?.. Дай закурить, курить хочу жутко, башка кружится с перебуху, а ручонки– то, увы, заняты!
– Ты, падаль, – голос бодигарда был гладок и идеально ровен, как черное полированное стекло, – заткни гроб и не греми костями. Тебя везут, ну и сиди, дыши глубже, на месте покуришь. – Он хмыкнул. – Приговоренный имеет право на последнюю оправку и на последнюю сигарету.
– Зачем ты меня хотел видеть?
С него уже сняли наручники. Ефим опять поразился дикому, вызывающему страх, жалость и отвращение уродству его лица. Жестоко обошлись с парнем. С парнем?.. А сколько ему, в сущности, лет? Он не знает. Может быть, этот Чек – старик. И у стариков бывает такая подобранная, худощаво– подтянутая, нагло– тореадорская фигура. Да, фигура у мужика что надо. Девки дохли бы, валились штабелями. Может, и сейчас дохнут? Баба на лицо не смотрит, если хрен могуч.
– Зачем?.. Зачем, зачем, зачем…
Чек не узнал Ефима. Он не узнал этого придурочного богатея, что набил ему карманы баксами ни за что ни про что, просто так, внушив себе, что Чек будет якобы работать на него. Будто бы этот мешок с деньгами нацепил на себя другое лицо. Будто бы пластическую операцию сделал. Так похудел, бедняга. И побледнел. И как– то странно потемнела рожа. Что с ним стряслось? И зачем он, Чек, так внезапно ему понадобился, что он заставил отловить его, Чека, своих людей?
– Зачем, зачем, зачем… – Ефим шагнул к нему. Чек слишком близко увидел светлые глаза, широкие скулы, ямку на сильном, дергающемся в тике подбородке. – Затем, что я боюсь. Я боюсь. Я приказал тебя поймать именно потому, что я боюсь. Чтобы излечить свой страх, я должен смотреть на тебя. Чтобы мой страх прошел… Да! Да! Я гляжу на тебя и думаю: нет, не все потеряно. Я еще не все потерял. Я еще красивый, сильный… молодой… богатый… я – на другом полюсе… а ты – в яме… в заднице… И я боюсь меньше. Гораздо меньше.
– Чего ты боишься? – Чек ничего не понимал. “Тронутый богачик– то”, – пронеслось у него в голове. – Что ты темнишь? Я ничего не понял, если честно.
– Я боюсь! – крикнул Ефим страшно, и от его крика зазвенела, сотряслась люстра. – Тебе говорят, я боюсь! Я… боюсь, что меня все равно убьют!
Он огляделся по сторонам. Теперь Чек видел: его богатый кореш определенно сходил с ума. Все признаки. Трясется, орет, оглядывается, будто его преследуют. Он– то тут при чем?.. Уродливое лицо перекосилось. Чек ухмылялся. Ему– то нечего было бояться. Ну, смерть так смерть, убьют так убьют. Сколько раз он нюхал смерть – не сосчитать! Бодигард Миша сказал же ему: перед смертью покурить дадут все равно.
– Эй, Ефим, у тебя сигарет нет? Мои все кончились. Вот, только зажигалка.
Чек вытащил из кармана зажигалку, подкинул на ладони. Ефим вытащил из кармана пачку. Протянул Чеку. Чек осторожно, деликатно вытянул сигарету двумя пальцами, как червяка из земельного кома.
– Уф, – выдохнул он, затягиваясь, – кайф нетривиальный… Чо ты трясешься, кореш? Не трясись так. Затрахал тебя кто до усрачки, что ли, нет, а?.. Чо ты так мандражируешь, брат?
Урод называет его братом. Что ж, человеческая жизнь полна чудес. И юмора. Ефим тоже вытянул из пачки сигарету. Руки его дрожали.
– Чек, – сказал он изменившимся, утробным, жалким голосом, – Чек… Слушай, Чек… Ты у меня будешь вроде дупла… Ты ведь никому… Тебе одному скажу… Я…
Он втянул сигаретный дым. Чек курил, терпеливо ждал. У Ефима руки тряслись, будто он стоял на эшафоте.
– Я…
– Ну?! – “Рожай скорей”, – подумал Чек уже зло.
– Я…. Убил человека…
– Убил? – сказал Чек, затягиваясь, выдыхая сизый дым. – Эка невидаль. Я народу поубивал – и не считал. Это только первый раз трудно. Потом привыкаешь.
– Я убил женщину, которую я любил, – сказал Ефим, не вынимая сигарету изо рта. Она моталась в углу его рта, как белая присоска. – Я… знаешь, я не могу сейчас один… И ни с кем из домашних тоже не могу. Знаешь… Чек… все страшно… Чек, мой отец… Я понял, кто он…
– А что тут понимать? – Чек с наслаждением затягивался, выпускал дым из ноздрей, как Сивка– бурка. Дым обволакивал его жуткую маску, затягивал ее белой пеленой, будто метелью. – Чо понимать– то тут? Урка твой папаша, и все тут. Только высокопоставленный. На верхушке горы сидит. И ножки свесил. А другие урки на зоне в картишки режутся. Вот и вся разница. Твой тоже будет резаться, если сцапают. Да и… – Он снова затянулся, закрыл глаза. – Да и сам ты такой. Уж извини. Вы все яблочки от одной яблони. Далеко не откатитесь.
Он глядел, как тряслись руки Ефима, как он не мог попасть огоньком зажигалки в потухшую сигарету.
– Может, ты и прав. Чек! – Ефим исподлобья взглянул на него. – Чек, ты урод. Тебя изуродовали люди. Я богат. Счастлив. Все при мне. Но ты понимаешь… Чек… – Он дернул кадыком. Искривил рот. – Я смотрюсь в тебя… в твое лицо… как в зеркало… потому что я тоже урод… Я… тоже… урод! И ты… – Он задохнулся, припал губами к сигарете, как к женской груди, долго молчал. Выдохнул сизый шмат дыма. – Ты… мне нужен… Как воздух… Как никто…
Чек бросил окурок прямо под ноги, на паркет. Затоптал подошвой тупорылого тяжелого ботинка.
– Что– о– о– о?! Я… тебе… нужен?!
– Да, Чек. Ты мое зеркало. Ты один, кто может… – Он тоже швырнул сигарету на пол. – Меня понять. Меня… полюбить… Меня никто не любит. Никто!
– Даже мать? – глупо спросил Чек. – У тебя ведь есть мать, да?.. Она тебя что, в детстве лупила крепко?.. Вот у меня матери нет и не было. Я сам по себе появился. Из кучи дерьма. Х– ха!
– Мать, – сказал Ефим, и его губы задергались. – Мать! Она живет своей жизнью! У нас в доме каждый живет своей жизнью! У нас каждый баснословно богат! И моя мать тоже богата! И у нее свои деньги! А свои деньги – это своя жизнь, запомни! Мать… Если бы мать…
Он наклонился, спрятал голову в ладони. Чек тупо глядел на него, скорчившегося напротив. В огромной комнате никого не было. Только погасшая люстра над большим круглым столом. Только тусклый огонь светильника на оклеенной гобеленными обоями стене. Только странное множество разномастных женских украшений по стенам, на коврах, на кусках черного бархата, розового атласа, – браслеты и броши, кулоны и серьги, подвески и ожерелья в три, в пять ниток, жемчужные и аметистовые, алмазные и стеклянные, – и стразы сверкали рядом с алмазами, и золото поблескивало рядом с сусальной подделкой. Зачем так много женских побрякушек, подумал Чек, черт знает что такое! Видимо, хозяйкина причуда. Увлекается тетка камешками да золотишком, блестит все, к едрене матери, как в турецкой лавке…
И тут заиграла веселая музыка.
И Ефим дернул из кармана мобильник.
– Да, – сказал он совсем другим, официально– надменным, ледяным голосом. – Да, Ефим Елагин! Чем могу служить? Я весь внимание.
– Что ж, Ефим Елагин, – сказал твердый мужской голос в трубке, – пора бы встретиться. Я пытался вытрясти из тебя небольшую горстку монет на нужды моего движения. Ты оказался не из пугливых. Я понял – с вами, с богатыми, надо иначе. Ты знаешь, почему я тебе позвонил?
– Почему?
Он слышал свое дыхание.
– Потому что я нашел номер твоего телефона в бумагах Ангелины Сытиной. Она мертва. Я вызвал ее дочь из Парижа. Я хоронил ее.
Они все это время молчали. Когда дверь хлопнула, они оба подняли головы.
Ефим и Чек смотрели на вошедшего в комнату.
Хайдер смотрел на них обоих.
– Как тебя пустили бодигарды? – наконец разлепил губы Ефим.
– Очень просто. Я оставил оружие у них. Они обыскали меня. Я сказал им: ваш хозяин ждет меня, мы созванивались. Нет проблем.
– Что стоишь? Садись.
Хайдер приказал себе ничему не удивляться. Он не удивился, увидев здесь Чека. В конце концов, он сам посылал Чека сюда, к Елагину. Как знать? Может, Чек справляет здесь свой собственный праздник жизни.
Он сел. У него слегка кружилась голова, будто он выпил. Перед его глазами все еще стояли мрачно– пышные, жутко– нарядные похороны Ангелины. Он пришел к ней в тот день, когда ее привезли домой из больницы, убитую, и дверь вскрывали милиционеры с понятыми, а он явился, тут как тут. Он увидел ее тело на носилках – и мгновенно понял все. Больничные санитары перебрасывались словами: “А куда того бритого пацана отвезли?.. Нашли, где он живет?..” – “Да вроде нет… Чернорубашечник, скинхед, что ли, или как они там называются, эти?..” Он понял: вот он и Бес, нашелся. Вот они все и трупы его соратников, друзей– врагов – выстроились в ряд, как на плацу. Их убила не Ангелина. Их убил Бес. Несчастный Бес. Ранен?.. Убит?.. Он вошел вслед за санитарами, милиционерами и понятыми в апартаменты Ангелины. Его спросили: кто вы? Он ответил: я любил ее. Ему позволили сесть рядом с ней, смотреть на нее. Он смотрел и молчал. Потом, спустя полчаса, пришла очень красивая женщина. Возможно, одна из богатых пациенток Ангелины. Она остро, пронзительно посмотрела на него. О чем– то говорила с милиционерами. Он не слышал. Он смотрел на Ангелину. Ее лицо на поставленных на пол носилках выглядело мраморным, алебастровым. Волосы казались совсем красными. Как бывший флаг родной страны. Как приклеенные к резине парика космы клоуна. Красивая женщина, видимо, пациентка убитой, была похожа на баранчика – мелкокудрявая, золотая головка, дерзкая травяная зелень больших смеющихся глаз. Соседство смерти не заглушило смех в ее взгляде. После ее ухода на видном месте появилась толстая записная книжка Ангелины. Он не видел ее на столе, когда пришел. Взял ее, стал листать. Наткнулся на фамилию: “ЕЛАГИН”. Вздрогнул. Зачем здесь, в ее книжке, телефон этого богатея? Ему не удалось его раскошелить. Ангелинин друг?.. Пациент?.. Любовник?.. Он всмотрелся. Запись была свежая, из последних. Он переписал его мобильный телефон в свою книжку. У него был только его домашний телефон. И адрес, по которому он однажды послал Чека – на шантаж.
А потом были похороны Ангелины. Он вызвал факсом ее дочь из Парижа – он нашел на столе факс от девочки. Бросила свою Сорбонну, приехала хоронить молодую мать. Судьба. Он и верил и не верил, что это Бес, Архипка Косов, мог убить ее. Да, другому никому не дано было. И даже ему. Хоть она его однажды и просила об этом. Прием гипноза, всего лишь, не больше.
Пышный богатый гроб; роскошный памятник; место на Ваганьковском кладбище, где могила стоит Бог знает сколько. Дочь заплатила за все. Дочь купила все. Он смотрел на ее дочь, на Евдокию Сытину, и искал в ней сходства с Ангелиной. Никакого. Белобрысая девчонка, с чуть кривоватыми, выгнутыми ногами заядлой наездницы, с чуть утиным носом, с чуть заметной щербинкой между резцов. Некрасивая. И совсем не дьявольская. Обычная девчонка. Только внезапно ставшая очень богатой.
Голова продолжала кружиться. Ломило в висках. Куда– то неделю назад исчез отец. Он слышал из своей комнаты, как отец звонил кому– то по телефону, жарко спорил с кем– то – кажется, с женщиной, потому что все время кричал: “Наверное, не надо так, родная!.. А я смогу, родная?..” Ему было все равно, кого старик отец называл “родная”. Старое поколение любило ласковые слова. Его папаня мог и едва знакомую бабу поименовать “родная”.
Ефим протянул ему пачку сигарет. Хайдер вытянул сигарету жестом резким и властным, выдернул из пачки, как сорную траву – с корнем вон. Всунул в зубы. Ефим поднес зажигалку.
И они с Чеком закурили тоже. По новой.
Теперь все они, втроем, сидели и курили.
И дыма стала полна комната.
И Хайдер, глядя на Чека, произнес, глядя сквозь дым в его искореженное лицо:
– Нравится сидеть у богатых в гостях, скинхед Чек?
И Чек, не вынимая изо рта сигарету, процедил сквозь зубы:
– Ничего, пойдет.
И дверь, отделанная лепниной, скрипнула.
И в комнату легкой, бесшумной походкой, будто бы ступая не по паркету, а по облакам, вошла Ариадна Филипповна Елагина.
Она оглядела всех троих. Ее светлые, прозрачные глаза на сильно морщинистом лице просветлели еще больше.
– Ах, вот вы все где, – сказала она, как пропела музыкальную фразу. Ее нежный голос, совсем не старческий, отдался под потолком комнаты, будто под сводами храма. – В комнате с украшениями!.. Фимочка, ты сам выбрал эту комнатенку?.. А почему вы собрались не в гостиной?.. Не в чайной комнате?.. Не в восточном уголке?.. Почему именно здесь?.. Ну, здесь так здесь!.. Значит, так суждено!..
Хайдер словно слушал арию из оперы. Он смотрел в большие, под выщипанными седыми бровями, светло– серые, прозрачные как чистая вода глаза старой женщины. Хозяйка. Богачка. Мамаша Елагина. А красивая была когда– то, курва, должно быть. Говорит как поет! Отчего– то сильно, больно сжалось сердце. Ему хотелось еще и еще слушать этот голос. Это нежное, прозрачное, воздушное пение. Будто бы пение ангелов. Будто бы трепет крылышек эльфов из забытой, никогда ему не рассказанной детской сказки.
Ефим обернулся к Хайдеру.
– Моя мать…
Ада шагнула к Хайдеру. Шаг. Еще шаг. Еще шаг.
Хайдер смотрел на изящное шелковое домашнее платье, сидящее на ней, как концертный наряд. На сборки и складки на стройной, не старушечьей талии. На кружева на высохшей груди. На уложенные валиком вокруг головы серебряные волосы. Когда– то были красивые, густые косы. От женщины пахло дорогими духами. Терпко – табаком. И еще чем– то родным. Таким теплым, таким тревожащим сердце… чем?.. детством?.. пирогом?.. ласковыми руками?..
Никогда он не говорил: мама. Никогда ему не говорили: сынок. Никогда ему не пекли праздничный пирог. Никогда не рассказывали на ночь сказку про дивных легкокрылых эльфов.
Старая красивая женщина сделала к Хайдеру еще шаг. Она совсем близко видела его крутолобую голову, широкоскулое лицо, светлые, как две льдинки, глаза, неотрывно глядящие на нее. Ближе. Ближе. Еще ближе.
– И твоя тоже, сынок.
Протянутые руки. Протянутое к нему лицо. Она вся протянута к нему.
И он идет прямо в эти руки. И он глядит прямо в эти глаза. И он ничего не видит, не слышит, не чувствует, кроме того, что это – родное, теплое, брошенное, найденное, единственное – теперь уже навсегда.
– Мама!..
Ефим Елагин в ужасе смотрел, как незнакомый ему человек, предводитель запрещенного в России движения “Neue Rechte”, шантажировавший его, преследовавший его, зачем– то пришедший к нему сегодня, именно сегодня, когда он места себе не находил после того, как сломя голову, не помня себя, убежал из дома Цэцэг, так крепко обнял его мать, что она чуть не задохнулась в его руках.
И она тоже крепко, так крепко обняла его, что он тоже чуть не задохнулся.
“Мои руки – у него на шее. За его плечами. Не могу представить. Не могу еще понять. Но все уже случилось. Милый, милый, милый! Сынок мой! Ты, первым рожденный… Я так, именно так хотела вас свести… Ведь это я, я все подстроила так, чтобы ты, Ефимка, вкусил муки, сомнения, страдания… Ты, избалованный, выращенный в неге и холе, не страдавший никогда… Ты, не знавший, что такое голод и холод, нужда и лишения, знавший другую, иную борьбу за существование, чем мы… И я хотела, чтобы ты, Игорь, тоже кое– что понял… Александрина сделала все правильно… Она хорошо вела вас обоих… Она следила за вами и страховала вас… И давала мне советы – как быть, что сделать… И вычисляла каждый шаг тех, кто творил ужас рядом с вами… рядом со всеми нами… Александрина чудо, она мне так помогла, чем я отблагодарю ее?.. Деньгами?.. У нее их куры не клюют, так же, как и у меня… Дети, детки мои… Игорь… моя плоть и кровь… Я не знаю твой дух… Чем ты занимаешься?.. Я догадываюсь… Я боюсь тебя… Ты уже взрослый… Ты старше Фимки, потому что ты родился – первым… Но остается еще некто в моем пасьянсе, что не до конца разложен. Я должна разложить все карты. Все выложить на стол. До конца. Остается еще Георгий Елагин. Мой муж. Чудовище. Тот, кого ты, Фимка, считаешь своим отцом”.
– Фима, – обернула Ариадна Филипповна лицо к Ефиму; Хайдер все еще не выпускал ее из объятий, что казались ему сном. – Фима, это твой брат.
Ефим не двигался с места.
Ариадна Филипповна высвободилась из рук Хайдера. Взяла его за руку. Подошла к Ефиму. Взяла его за руку тоже. Подвела их обоих к зеркалу.
Они, все трое, стояли перед зеркалом и смотрели в зеркало на себя.
– Видите, – сказала Ада почти беззвучно, – ну, что тут говорить… Вы же все видите сами…
Одно лицо.
Одна – на двоих.
Две жизни.
А все смерти – за кадром?
Будущее и прошлое превращаются в кадры. Их просматривают – в воспоминаниях или в мечтах. Жизнь всегда – только настоящая. И только в настоящем бывает настоящая смерть.
Хайдер смотрел в зеркале на Ефима. Ефим смотрел в зеркале на Хайдера. Он вспомнил фотографию, подброшенную ему на достопамятном вернисаже Гавриила Судейкина.
– Ты… знала?.. И ты… молчала?.. – Он перевел взгляд на мать. – Ты притворялась? Что ничего не знаешь?.. Ты изображала испуг?.. Ты нарочно пила лекарства?.. А ты действительно волновалась, что меня убьют, когда в меня стреляла та баба на улице?.. Или тоже играла?.. Актриса, актриса… ты всегда была актриса… зачем, зачем тебе нужен был весь этот спектакль… вместо того, чтобы нас просто познакомить… свести… крикнуть: вы братья, вы оба мои… А если… – Он схватил ее за плечо. Повернул к себе. Заглянул в светлые глаза под седыми крашеными дрожащими ресницами. – А если я – не хочу такого брата?!
Хайдер взял Аду за плечи, стоя за ее спиной. Чувствовал, как она вся дрожит.
– Ефим, – у него пересохло во рту, – Ефим, я тебя умоляю. Ей же сейчас будет плохо. Возьми себя в руки. Я все понял. Может быть, я тоже не хочу такого брата, как ты. Все может быть! Но сейчас не время! Я даже не предполагал, что все так получится… Что все это… – Он закусил губу. – Правда… Но, видимо, все это правда… Достаточно посмотреть на нас обоих вместе… в этом зеркале… И доказательств никаких не надо… Групп крови, хромосом, ДНК, анализов… Это наша мать… Наша мать, Ефим, слышишь!..
Он прижал Аду к себе. Она поцеловала его в щеку, ее рука взлетела, провела по его бритой колючей голове, она вышептала: “Игорь…”
– А отец дома?! – крикнул, вне себя, Ефим. Он был очень бледен. Ада отчетливо, как на сцене, произнесла:
– Отец дома. Он сейчас придет. Я все рассчитала точно. Я сказала ему, чтобы он пришел сюда, в комнату с украшениями, ровно в двенадцать часов ночи. Я сказала, что хочу поздравить его с Пасхой Господней. Ефим, сними салфетку с кулича! Он на столе! Под другой салфеткой – крашеные яйца, кагор… и пасха, я ее сама готовила! Я хотела… – Нежный голос дрогнул, сорвался. – Я хотела, чтобы все было именно так! В Пасху! Чтобы Бог полюбовался на чад Своих и на деяния рук этих чад! И путных… и беспутных…
Ефим шагнул к столу. Сдернул салфетки. Сильно, сладко запахло куличом, изюмом. Горка крашеных, ярко– красных яиц лежала в деревянной миске. Длинная бутылка темного кагора стояла, как смоляной факел. Ефим машинально сосчитал глазами рюмки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Он. Мать. Хайдер. Отец. А зачем еще три? Для кого?
– Для кого лишние рюмки, мама? – тихо спросил он, указывая на блестящий хрусталь.
Ада улыбнулась. Морщины собрались вокруг ее губ маленькими веерами.
– Бог сам знает, для кого. Для тех, кто в море. Но может приплыть в любое время.
– Или для тех, кто не приплывет никогда?
Она посмотрела на него.
– Может быть.
Она вскинула глаза. Увидела молча сидящего на стуле в углу Чека. Чек исподлобья, как бычок, смотрел на странную старуху. Ада вздрогнула, рассмотрев в полумраке его страшное лицо.
– Кто это, Фима?.. – Ее голос упал до испуганного шепота. Она просто не заметила его. Страшного зрителя. Постороннего наблюдателя. Жуткого урода, равнодушно созерцающего невероятную семейную сцену.
– Это?.. – Ефим оглянулся на Чека. – Это Чек.
Ада закинула голову и всмотрелась в настенные часы с позолоченной лошадкой.
– Без десяти двенадцать. Скоро он придет. – Она обернулась к сыновьям. – Это не твой отец, Фима. Это не твой отец, Игорь. Это не ваш отец. Это мой муж. Это человек, совершивший тягчайшее преступление. Страшнее того, что он и его приспешники сделали… делали много лет, и безнаказанно, я не знаю ничего. Они хорошо таились. У них все было продумано. Тот, кто сейчас сюда придет, – легкая улыбка тронула ее тонкие изящные губы, – не знал, что за ним следит его собственная жена.
У Ефима тряслись пальцы, когда он закуривал очередную сигарету.
– Я, кажется, догадываюсь, что он делал.
– Отлично, сынок, – сказала Ада и протянула к Ефиму руку. – Дай сигаретку. Не могу без курева. Хоть я твои и не смолю, детский сад, мне мой “Беломор” нужен.
– В лагере была?
Это Чек из угла подал голос. Ада мгновенно обернулась. Ефим уже всовывал ей в сухие длинные пальцы сигарету. Она прикурила, низко наклонившись к подставленной Ефимом зажигалке, прищурилась, поглядела на Чека.
– Как узнал?
– По повадкам, мамаша, – сплюнул Чек на пол сквозь зубы. – Стреляную воробьиху сразу видно. За что брали– то?
– За арию Снегурочки, – ответила Ада таким же внезапно хриплым, как у Чека, голосом, глубоко затягиваясь, щурясь, отводя далеко от себя руку с горящей сигаретой. – Не чисто верхнее “до” взяла. Вождю не понравилось. Вожди, они ж всегда такие привередливые.
Она курила и смотрела на часы.
Часы стали бить двенадцать раз.
Хайдер считал удары. Ефим считал удары. Чек ничего не считал. Он смотрел, как играет свет настенного светильника, сработанного под старину, в огранке хрусталя. Сизый призрачный дым вился от сигареты в руках Ариадны Филипповны. В коридоре послышались шаги. Дверь распахнулась резко, со стуком.
– А вот и он! – отчаянно– весело, как молодая, крикнула Ада. Седая вьющаяся прядь выбилась из венчика ее уложенных волос и белым ручьем скользнула по щеке. – Христос воскресе, Жорочка!
Георгий Елагин обвел всех с порога изумленным взглядом.
Ада подняла ему лицо навстречу. Несла на лице улыбку, как яблоко на блюде.
– Воистину воскресе, – сказал Елагин– старший, подходя к Аде и троекратно, холодно прикасаясь губами к ее щеке. – Я гляжу, вы тут не скучаете в Пасху? Ну– ну… – Он внимательно, остро глянул на Хайдера. Кровь отлила от его лица. Ефим и Хайдер стояли рядом, и невозможно было не заметить их сходства.
– Здравствуй, отец, – сказал Ефим, пытаясь придать голосу твердость. – Говорят, что ты мне не отец.
Елагин– старший проколол глазами жену. Ада по– прежнему безмолвно улыбалась.
– Что это значит, Ариадна?!
Громоподобный крик Георгия Елагина потряс стены комнаты. Ювелирные изделия отозвались еле слышным звоном.
Ада, чуть покачиваясь на каблучках, шелестя шелком платья, подошла к Елагину– старшему близко, очень близко. И сказала – тихо, но отчетливо, чтобы все, кто был в комнате, услышали ее:
– Это значит, что твоя песенка спета, Георгий Маркович Елагин, мой второй законный муж, владелец холдингов, концернов, корпораций, трестов, банков, яхт и иной недвижимости. – Она задохнулась. Ее глаза прожигали его, как два угля, выброшенные кочергой из печи. – Пошла на хрен вся твоя недвижимость, все твои деньги… вся твоя жизнь… и ты сам. Я обращаюсь к вам, дети мои! – Она возвысила голос. Ее морщинистые щеки заалели. Ефим, когда– то в детстве, давным– давно, видевший ее на сцене, сейчас потрясенно смотрел на нее – перед ней словно бы лежал партер Большого театра, и она сама, примадонна, пела в этой трагической опере заглавную партию. – Оглядитесь! Вы стоите в замечательной, уникальной комнате! Это музей смерти! Видите, сколько женских украшений на стенах?! Вы их видите?!
Ефим глядел на стены зло, тяжело, исподлобья. Хайдер – непонимающе. Чек из темного угла, из– за спинки дивана, скалил свою страшную рожу.
Георгий побледнел. Рванулся к ней.
– Ада, ты спятила, я прошу тебя…
Она отшагнула от него, как от ядовитой змеи.
– Не затыкай мне рот! Я хочу, чтобы они это услышали!
Георгий, с искаженным лицом, обернулся к Ефиму и Хайдеру.
– Эта женщина опасно больна, – выдавил он. – Не слушайте ее! Я сейчас вызову психбригаду…
– Тебя опередили, Жора, – лицо Ады разгоралось еще больше, глаза блестели, седые волосы выбились из пучка и развились по плечам. – Я уже вызвала кое– кого. Не психбригаду. Покруче наряд. Для тебя. Только для тебя, любимый. – Она обернулась к близнецам. – Все эти украшения, все эти золотые бирюльки и цветные камешки – думаете, из ювелирных лавок? Они все сняты с женщин, которых он убил!
Ефим шагнул к Георгию Марковичу. Схватил его за руку.
– Это правда, – прохрипел он. – Отец ты мне или кто… но это правда! Я знаю это!
– Ты?! Знаешь?!.. Ха– ха– ха– ха– ха!.. Откуда?! Что?!
– Цэцэг, – только и смог произнести Ефим. И отвернулся, и спрятал лицо в ладони.
И теперь побледнел Георгий. Он побледнел мгновенно и страшно. У него лицо стало цвета простыни. Холеный двойной подбородок дрогнул, как студень.
– Так… Значит, Цэцэг… Цэцэг… – Он неслышно прошептал: “Сука…” И крикнул:
– Но ведь Цэцэг мертва! Как, что она могла тебе сказать?!
– Она сказала мне все… отец. И я не выдержал. Я… задушил ее. Как собаку. Как шелудивую, паршивую собаку. Я любил ее. Она забеременела от меня. Она сделала аборт и продала плод. Твоими руками. И еще двух несчастных вы продали с их потрохами. Я нашел записку. Это была ее записка тебе. – Он дернул ртом вбок, его лицо пошло красными пятнами, как при кори. – А сколько вы женщин убили, изувечили, искромсали и продали?! Сколько?! Когда?! Куда?! Кому?! Теперь не найти концов, я понимаю! Скажи… – Он подскочил к Георгию. Вцепился в его плечи под шикарным пиджаком от Армани. – Скажи, зачем ты это делал?! Тебе хотелось денег?! Как можно больше денег?! Или чего другого?! Может, ты испытывал сексуальный кайф, когда ты делал это?! А ты… ты сам… при этом – присутствовал?!.. или…
Георгий сбросил с себя руки Ефима, как двух скорпионов. Смахнул. Ожег его глазами. Он видел – отпираться бессмысленно. “Они знают все. Черт знает что уже смогла сделать Ада. Стерва. Возможно, она уже вызвала оперативников. Или – на пушку берет?.. Как все тонко, хитро было подстроено. Эти двое – ее ублюдки, это понятно. А я растил этого парня как своего… я усыновил его, дал ему все… раскрыл перед ним огромный мир денег… дал ему имя, образование, воспитание, богатство… это мой наследник, мой, мой… был!.. Все рухнуло в одночасье… А от меня… от меня эта стерва так и не родила… не хотела… предохранялась, ехидна, как могла…”
– Я? Присутствовал, конечно. – Подбородки колыхались. Он пригладил потный лоб ладонью. – Присутствовали же ваши эсэсовцы, которых вы изучаете как классиков, – кивнул он на обряженного в черную рубашку и черные штаны Хайдера, с нашивкой – Кельтским Крестом – на рукаве, – на допросах, истязаниях и казни своих пленных. Кстати, многие пытки и казни у них делались на благо их науки, вы знаете об этом?
– Человек не кролик! – Голос Ефима сорвался на фальцет. – Человеку жизнь дана Богом!
– Богом? – Георгий глянул на Ефима сверху вниз. – Ты очень ошибаешься, мальчик. Если бы твой отец не поспал однажды на зоне с твоей матерью, тебя бы и не было никогда. Тебя… и этого. – Он стрельнул глазами в безмолвного Хайдера. И неожиданно заорал:
– Проваливайте отсюда все! Ублюдки! Выблядки! Суки! Вам все равно не взять меня голыми руками! Здесь полон дом бодигардов! Они перебьют всех, кто только сунется сюда! Они перестреляют всех вас! Тут, в этой комнате, как в ловушке! Сейчас я скажу им по телефону… и они выполнят любой мой приказ! Мой, а не твой, – он обернулся к Ефиму, – сучонок!
– Вот как, я уже и сучонок… Вчера был любимый сынок…
– Эх, классно мужики схватились, кино бесплатное, – восторженно прошептал из своего угла Чек. На него никто не обращал внимания. Словно бы он был страшной первобытной маской и висел, для украшения, как эти побрякушки на стенах, в конце зала.
Георгий широкими шагами измерил комнату. Ефим рванул со стены золотую змейку с изумрудными глазами.
И швырнул Георгию под ноги.
– Дина Вольфензон! – крикнул он. – Она была первой! Или… тысяча первой?!
Георгий наступил ботинком на золотую змейку. Раздавил ей голову.
– Суки, – его брови, губы, подбородок, руки дрожали, – суки, все вы суки…
И Ада, разрумянившаяся, как после бани, с уже распущенными, текущими по плечам серебряными прядями – шпильки повыпали, потерялись, упали на пол, – бросилась к нему, встала перед ним, хрупкая, тонкая, гибкая, как девочка, только лицо выдавало возраст, и глаза сверкали, и щеки алели, и певчий летящий голос хлестнул Георгия пронзительной высокой нотой:
– Я ухожу от тебя! Ты мне не нужен!
– Уходишь пустая? С тремя платьями в чемодане? Или со всем богатством, – он усмехнулся, – со всем моим богатством, что я высыпал на тебя, нищую певичку, бывшую зэчку?!
Ада стояла гордо, вскинув голову. Кинула взгляд на стол.
– Пасха, однако. Отрежем по куску кулича? Запьем кагором? Да похристосуемся, пожалуй. – Она поглядела на Чека, забившегося в угол. – Господин Чек, вылезайте оттуда, из вашего закутка! Давайте разделим христианскую трапезу! С пока еще живым, – она обдала Георгия ледяной водой прозрачных глаз, – господином Елагиным и двумя моими сыновьями.
– Крольчиха, – раздельно сказал Георгий. – Лагерная крольчиха. Если бы не твой голос тогда! Если бы не эта твоя Снегурочка! Плохой из меня Мизгирь получился, ты уж извини, Ада.
Она уже стояла у стола. Разрезала ножом кулич.
– Разлей вино, Георгий, это мужское дело.
Он аккуратно разлил кагор в рюмки. Как и Ефим, воззрился на лишние.
– Почему семь? Ты еще кого– то ждешь?.. Ах да, я и забыл, опергруппу, я понял…
– Дурак. Эти рюмки для своих.
– Ага, теперь я понял все до конца! Хитра таежная лиса!.. – Он снова вытер ладонью все лицо, потное, лоснящееся. Ефим вспомнил – так же сыто лоснилось всегда лицо Цэцэг. – К нам в гости в Пасхальную ночь прибудет твой благоверный? Твой первый, то бишь настоящий, муж?.. Верно я угадал?..
– Не исключено, – ответила Ада спокойно.
– Ну что ж! – Георгий поднял рюмку. Поглядел на просвет. – Кагор есть, яйца есть, кулич есть, а свечек, черт побери, нету!
И тогда из своего угла вышел Чек.
Он вышел к столу, в круг тусклого света.
И сказал, глядя в лицо Елагину– старшему:
– Так, кое– что я тут усек, папаша. Ты наворочал делов – шаек тебе в адской бане не хватит, не отмоешься. Я так понял, – он кивнул на Аду, – твоя баба тебя все равно упечет, если уже не упекла. Щас могут, с минуты на минуту, сюда прибыть менты. Правильно я скумекал? – Он глянул на Аду. – Я за мамашу нашего Фюрера тебе ка– ак щас… За маманьку Хайдера нашего… Пока ментяры сюда едут – я из тебя шницель уже сделаю, к столу… Ты, папаша, жук, видно, еще тот. Первый сорт. Так я ж тебе что предлагаю. Давай сразимся, а?
– Как это “сразимся”? – Георгий стоял, как каменная ступа, с рюмкой кагора в чуть трясущейся руке. – Ты что мелешь? Откуда ты взялся, уродец?.. Ефим, это ты его опять приволок?.. Оригинальные у тебя забавы… – Он хотел сказать: “сын” – и осекся. – Убери, слышишь, отсюда эту харю…
– Я не харя. – Чек шагнул к нему. – Если еще раз про харю услышу, папаня, костей через минуту на полу не соберешь. Сразимся? Ты драться– то умеешь? У меня жуткое желание тебе накостылять. После того, как я все это тут про тебя услышал.
– Драться я умею, – сказал Георгий, не вполне понимая, чего от него хочет этот страшненький проходимец. – А не лучше ли тебе, парень, убраться вон отсюда?.. пока я не пригласил охранника и тебя не…
Он не договорил. Чек молниеносным движением бросил все свое худое, пружинистое, гибкое тело вперед. Один удар в челюсть – и Георгий Елагин уже согнулся в три погибели, крючась от боли, и по его толстой щеке уже ползла красная змейка крови. Золотая змейка, раздавленная им, валялась у него под ногами. Он злобно отшвырнул ее носком ботинка.
– Ты! Сявка! Урод! Ты… меня… – Елагин собрался. Выпрямился. Напряг все свое массивное тело. Все же он занимался и большим теннисом, и кикбоксингом, и плаванием, правда, сейчас он все это подзабросил, только яхта одна у него и осталась, – ну да ладно, сейчас он все равно покажет этому отребью… а потом шепнет охраннику, и этот урод получит свою порцию свинца в затылок, даже еще не успев отойти от дома… – Давай! Я готов!
– Ах, ты готов, дядя. – Рот Чека расползся до ушей. Стал совсем ужасным, волчьей пастью. Морщины пошли по его лицу, разрезая его, будто резцами. Лоб собрался в складки. Язык заплясал между раззявленными зубами. – Это классно! Я тоже готов! Начинай!
И Чек бросился на Елагина, как бросаются на дикого зверя.
И Елагин успел увернуться в последний момент.
И, размахнувшись, врезал Чеку в ухо, вложив всю силу в этот чудовищный удар.
И Чек покатился по полу, и бился головой о паркет, и выкрикнул страшно, дико:
– Оглох! Оглох!
И вскочил. Теперь он был страшен по– настоящему. Даже Ада, стоявшая у стола с куском кулича в руках, выронила кулич из пальцев, и он покатился по полу, крошась, закатываясь под стол.
– Ты! Дря– а– ань! – завопил Чек, вставая в позу боксера, с поднятыми вверх кулаками. – Ну, подойди! Подойди, задница! Убью– у– у!
Ефим понял, когда Чек это крикнул: убьет, не охнет.
И внезапно зазвонил телефон в кармане шелкового Адиного платья. Ария Снегурочки?..
Мобильник Ариадны Филипповны играл арию Снегурочки: “С подружками по ягоды ходить, на оклик их веселый отзываться…”
Она вынула его из кармана. Георгий, тяжело дыша, с красной полосой крови на щеке, оглянулся на нее.
– Твои оперативники?..
– Да, – сказала Ада в трубку. – Да, Толя. Я слышу тебя. Ты где? С какой девочкой? Со слепой девочкой?.. Вы идете сюда? Ну, идите. Почему такой голос? У нас тут дерутся. Бой быков. Приходи, увидишь. Жора дерется с одним… – Она не знала, как ей назвать Чека. – С одним…
– С одним уродом, так и скажи, бабушка! – прохрипел Чек.
От страшного удара Георгия он оглох на одно ухо. Георгий разбил ему барабанную перепонку.
Старик крепко держал ее за руку. Говорил заботливо: наступай сюда, вот сюда, вот сюда, осторожнее, тише, здесь подними ногу, здесь… В особо опасных местах – они шли через проходные дворы, через узкие кривые переулки, перешагивали через бордюры и парапеты – старик подхватывал Дарью на руки и так шел с ней, на руках. Она была совсем легкая и худенькая, а он высокий, жилистый и сильный. Он прижимал к себе ее юное тело и чувствовал давно забытую нежность. Вот так когда– то там, в сибирских снегах, он прижимал к себе юную Адочку, и сердце его взлетало, как свиристель, и он чувствовал, как сильно, неудержно она хочет отдаться ему. Дети. Их дети. Она все– таки вырастила второго. Она его вырастила – и хочет ему его показать. Их сына. Того, кого он так и не увидел там, тогда, в лагерном бараке. Только услышал, что он родился.
Дарья крепко цеплялась рукой старику за шею. Она уже перестала чему– либо удивляться. Она только ощущала, слышала, впитывала, как губка.
– Куда мы идем?..
Старик молчал. Она слышала его хриплое дыхание. Ей казалось: ей снится сон.
Ей снился сон о ее жизни.
И в этом сне она видела.
Она снова видела все. Лица людей. Ночные фонари. Звездное весеннее небо. Ветки деревьев, мечущиеся под порывами свежего ветра. Первую юную, клейкую листву. В этом сне она видела мир, и давно забытая радость затопляла ее целиком, без остатка.
Старик, неся ее на руках, задрал голову. Остановился. Перевел дух. Опустил Дарью на землю.
– Кажется, это здесь, – сказал он тихо, с подхрипом дыша. – Да, кажется, этот дом. Мы зашли сюда со двора. Куча охранников, цепных псов, конечно, да. Ну да ладно. Вперед. Если я тебя из Иерусалима вывез, тут я тоже что– нибудь придумаю. Да она сама наверняка уже отдала команду впустить меня.
– Н– на!
Размах руки. Он не знает приемов. Он бьет напропалую. Нет, конечно, он все же что– то знает. Те, в горах, боевики, научили его кое– чему. И те, кто его бил когда– либо в жизни, тоже научили его кое– чему. И те, кого бил он, жестоко, отчаянно, с кем дрался не на жизнь, а на смерть, тоже научили его кое– чему.
И сейчас он все это вспомнил.
Некогда было особо вспоминать. Надо было бить. Соперник был сильный. Он брал массой. Он брал телесной крепостью, сытостью, упитанностью и упругостью молодящегося изо всех сил тела, натренированного, напичканного импортными питательными смесями, накачанного на новейших тренажерах. Он дрался с богатым и сильным мужиком, и мужик вмазывал ему будь здоров. И надо было все время быть на стреме. Надо было, как на ринге, рассчитывать силы и движения. Не махать руками. Не бить глупо. С таким противником надо было быть умным. Умнее зверя. Умнее человека. Умнее Бога.
– Н– на!.. Получи!..
У него были хорошие зрители. Они молчали. Они без слов глядели, как он бьет этого белого кита в морду и в хвост. Запрещенный прием. Гляди– ка, сытая морда перешла на запрещенные приемы. Отлично. За ним тоже не заржавеет. Он отогнулся чуть вбок, обманув врага, и, когда тот сделал мощный выпад, таким ударом можно было бы завалить быка, – он внезапно схватил его за плечи, приподнявшись над ним, и сильно ударил ногой, снизу вверх, ему в пах. И глядел, как тот корчится, падает. Он не увидел, не заметил. Его схватили за щиколотку и повалили. Теперь они оба валялись на полу. Громадная сытая туша навалилась на него, прижала к полу. Сильные руки душили. Он ощутил удары по лицу. По своему уродливому лицу. Один. Другой. Третий. Он понимал: его лицо разбивают в кровь. В лепешку. В отбивную.
Он понимал: его лицо уродуют во второй раз. Окончательно. И бесповоротно.
– А– а– а, ты гад…
Он напрягся, попробовал скинуть с себя человека, что одолел его и бил его. Бесполезно. Его убивали. Хладнокровно? О, нет. Туша над ним сопела, брызгала слюной, материлась, била, била, била его – яростно, ненавидяще, до конца. До его конца. Голова гудела, как котел. Ребра гнулись под ударами. Резкая боль пронзила его, он выплюнул зуб. Кажется, враг сломал ему ребро. Он уже не чувствовал боли. Краем сознания он понял: если он сейчас не выпростается из– под него, ему и впрямь конец. Амба.
– А– а– а… м– м– м– м… С– с– сука!..
Почему ему никто не помогает?! Почему эти зрители, мать их за ногу, стоят так холодно, как в цирке, и смотрят, как он погибает?! Только лишь потому, что он нищий?! Бедный?! Люмпен?! Проходимец?! Урод?!
И им интересно, как умрет урод. Этот мусор. Эта скомканная газетенка, кинутая в урну. Этот яблочный огрызок. Как его раздавит тот, кто сильнее.
Вырвись. Вырвись из– под него, Чек. Найди силы. Найди. Ну!
Упереться ногами в пол. Еще напрячь мышцы живота. Он бьет тебя, отвернуть быстро сейчас голову, ну. Не удалось. Удар. Зубы полетели. Нижние зубы. Осколки ранили рот. Кровавое крошево. Выплюнуть. Отверни голову! Удар! Только не в висок! В висок – смерть!
У тебя уже не лицо. У тебя уже не маска. У тебя уже вместо лица котлета.
И ее подадут к столу. К чьему?!
Они все кричали: Пасха, Пасха! Что такое Пасха? Какой– то древний праздник. И сейчас его модно справлять. Пахнет сладким тестом. Пахнет кагором. Этот гад убьет его, и они выпьют за помин его души.
Он превратился в сплошной комок железных жил. И ему удалось оплести ногами ногу раздавливающей его туши. И ему удалось, упершись локтями в пол, резко повернуть тушу на бок.
И Ефим крикнул:
– Чек! Ты что!
Ибо в этот миг под кулаком Чека превращалось в красное месиво лицо того, кто секунду назад беспощадно убивал его.
Раз. Два. Три. Четыре. Жив. Еще жив. Никто не сделал и движенья, чтобы спасти его. Чтобы выстрелить в затылок туше. Ничего. Вот он и взял верх. Еще дать ему. Еще, от души. Спасаться бегством. Идиотский дом. Вот так, так и еще раз так. Отлично! Тоже сломаны кости. Тоже разбита рожа. Еще вот так дать, от души, под дых. И – последний удар – послать его туда, откуда не возвращаются. В последнюю темноту.
Он уже не слышал криков, поднявшихся вокруг него. Не видел тех, кто бросился к нему. Он попятился к двери. В голове мутилось. Тошнило. Он понимал одно: он жив. Зря он сам вызвал на бой эту сволочь. Ну ничего, проверка на вшивость увенчалась успехом. Успехом?! Делай ноги, Чек, пока жив! Пока ноги твои шевелятся! Делай ноги! Это логово… яма, где шевелятся, сплетаясь в клубок, змеи…
Он побежал по длинному коридору. Его ноги заплетались. Он упал. Встал, шатаясь, держась за стенку. Сломанное ребро жестоко ныло. Он ловил ртом воздух. В тумане, впереди него, появились какие– то черные тени. Ему показалось: это родные скины в черных рубашках. Он хотел было крикнуть им: “Пацаны– ы– ы!..” – как его сцапали чужие руки, и совсем рядом он увидел заплывшими от синяков глазами чужие лица. Охранники, догадался он. Они уже били его, хотя он был и так весь в крови. Били страшно, с оттягом, с выкриками: “Ха!”, с наслежданием. Били, наслаждаясь безнаказанностью пытки. Он и не думал, что попадет в лапы охранников. Он думал – он вывалится отсюда беспрепятственно, они его не тронут.
Ребята, что вы, ребята, бормотал он, выплевывая осколки зубов, бесполезно спасая голову от ударов, бесполезно поджимая ноги к животу, а в живот били ногами, изощренно, умело, с кайфом, ребята, зачем вы, мне и так уже накостыляли как следует, ребята, пустите, вы же видите, я же вам ничего не сделал, ребята, ребята, ну что вы… “Вы– ы… Вы– ы… Вы– ы…” – волком выло над головой призрачное эхо. Он не помнил, когда его, избитого до полусмерти, взяли за ноги и вышвырнули на улицу. Он не сознавал уже ничего. Кроме того, что еще может, что должен двигаться. Ползти.
Ползти вперед. Ползти только вперед. Не умереть здесь. Отползти в кусты. А то они опять нападут. Они захотят повеселиться еще, покуражиться. Они давно ни с кем не дрались, и у них мышцы застоялись. Дурак. Какой же он дурак, что сам вызвал драться сытого гада. Зато сытый гад сейчас тоже лежит там, на гладком паркете, и не дышит. Он загвоздил ему в висок хорошо. Это смертельный удар. Все получилось как надо, не кори себя. Эта седая старуха, лагерница, отомщена. Своя бабка в доску. Он захотел сделать ей приятное. Он хорошо побил ее муженька– убийцу. И, может быть, убил. Что с того?
Ползти вперед. Кусты… близко…
Он завалился в кусты, торчащие на газоне около дома. Он не чувствовал сухих колючек, впившихся ему в тело через окровавленную рубаху – это был куст шиповника. Замер. Жизнь еще билась в нем. Сцепить зубы. Напрячься. Расслабиться. Нет сил. Отдышаться. Сказать себе: ты выживешь, ты будешь жить, не в таких переделках ты бывал, ты должен… должен…
Помутившимся разумом он уловил движение, разговор, шелест рядом, справа от себя. Люди. Глубокой ночью к себе домой возвращаются люди. Они идут мимо. Он должен. Он должен их позвать, чтобы не умереть.
Ему показалось, он крикнул.
– А– а– а!.. э– э– э– й…
Кровь из лунок во рту, там, где были выбитые зубы, заливала глотку.
Дарья услышала из кустов странный стон, хрип. Насторожилась. Старику показалось – она, как лошадь, прядает ушами.
– Что ты, Даша?..
– Там кто– то есть, – она протянула руку к кустам. – Я слышу… там кто– то стонет…
– Перестань, девочка. Ну мало ли кто. Пьяница заблудился… спит. Стонет во сне. Дай ему выспаться, ночь– то теплая. Пасха, кстати. Христос воскресе, – он сжал ее плечо.
Она повернула к нему слепое лицо. Он приблизил морщинистые губы к ее губам. В ночной тьме ее узкие глаза блестели, как две рыбки– уклейки, и ему показалось – она видит его.
– Ты не знаешь, что надо отвечать?.. Воистину воскресе.
– Воистину воскресе, – послушно повторила она. Он наложил сухие жесткие губы на ее губы, и его колыхнуло изнутри всего, как это бывало с ним в молодости, когда он обнимал женщину. Он хотел поцеловать ее три раза, как положено, но она, изогнувшись, подавшись навстречу ему, впустила ему в рот свой теплый, подвижный, как рыба, язык. И он ополоумел.
Он целовал ее так взахлеб, так молодо и счастливо, так упоенно, как будто бы и не было этих прошедших, горько– тяжелых лет, что он прожил вместе, бок о бок, с родной страной, то пытавшей его, то казнившей, то прикармливавшей дешевым пряником, то лупившей крученым кнутом. Он задыхался в этом долгом, юном поцелуе, снова и снова приникал к девочке, осязал жадным языком ее сладкий, как мед, язык и ее гладкие зубы, молясь лишь об одном – чтобы этот внезапный, сладкий, влажно– горячий поцелуй не кончался никогда, длился, продлился еще. И она тоже целовала его, и это было так странно – что она нашла в нем, в старике, зачем так жадно, пылко целует его? В благодарность за спасение? Из жалости? Из внезапно вспыхнувшего желания? А может, она вот так целует всех, как опытная шлюха, и ей все равно?
Теплые губы. Родные губы. Юные губы. Юное сердце под ладонью. Юный, твердой чечевицей катящийся сосок под его ладонью.
– Ада… Адочка…
– Я не Ада, – услышал он, оторвавшись от нее, словно издалека. – Я Дарья.
– Ты зачем так целуешь меня, Дарья?..
– Это вы целуете меня.
– Ты не ответила мне.
– Потому что вы мужчина. Я чувствую в вас мужчину. – Она положила руку ему на старомодные широкие брюки. Погладила, сжала восставший, жесткий выступ плоти. – Видите, какой вы еще мужчина.
– Это только с тобой. – Он задыхался. Больше не целовал ее. Смотрел в свете фонаря на ее вспухшие, заалевшие губы. – Держи так руку. Не отпускай.
Она снова сжала, снова погладила живой железный штык. Он держал ее под мышки, ощущая всю ее, юную, тонкую и сильную. У нее из подмышек пахло черемухой.
Он невероятно хотел ее. Так же, как когда– то там, в лагере, Аду. После Ады он никого больше так не хотел из женщин, хотя у него были женщины, и он спал с ними. Он ни на ком не женился после Ады. Он сказал себе: я никогда не женюсь не на своей женщине. А его женщиной была только Ада. Так получилось.
– Даша, – выдохнул он около самых ее губ, – Дашенька… Ми– ла– я…
И тут из кустов снова раздался протяжный стон.
И Дарья, отпустив его, оттолкнув от себя, кинулась к газону.
И он видел, как она, наклонившись, закусив губу, шарит под кустом руками, и вытаскивает, тащит за плечи, за рубаху, за ремень штанов оттуда, из– под куста, человека, мужчину, мужика… нет, кажется, молодого парня… Когда его лицо на газоне вплыло в круг фонарного света, старик вскрикнул. Вместо лица у парня был красный кровавый круг.
– Дарья, Дарья, Боже, как его измолотили… Дарья, погоди, я сам!..
Он бросился к ним. Подхватил избитого мужика под лопатки. Господи, какой легкий, худой. Да, лицо уж не сошьют. Если выживет – не сможет на себя в зеркало смотреть. Как уж срастется, так и срастется. Блин комом. Все хрящи размолочены. Носа нет – так свернут набок. Глаз тоже нет. Кажется, один выбит. Боже, Боже. Что делать?! Вызывать “скорую”?! Ему надо быстрее попасть к Аде. Быстрее, сейчас. Она так и сказала ему, он слышал ее дыхание в трубке: “Толя, быстрее”.
Глядя одной, оставшейся зрячей щелкой подбитого глаза на склоненную над ним Дарью, избитый мужик изумленно прошептал:
– Дашка…
И старик изумленно смотрел, как Дарья склоняется над ним низко, низко, как гладит, осязает пальцами его разбитое лицо, как ощупывает ладонями его окровавленные скулы, подбородок, брови, вернее, то, что от них осталось. И как ее черные нефтяные космы свешиваются, льются ему на то, что осталось от разбитого лица. Как прорезают страшный красный круг черными полосами. Как закрывают его черным флагом.
– Дашка!.. Дашка… Это ты… Как ты… тут…
– Молчи, не говори ничего, – слезы лились по ее лицу ему на лицо, как ее волосы. Она гладила его пальцами по разбитым ошметкам губ. – Молчи, Чек. Это ты, Чек. Это ты! Сейчас… сейчас я тебе помогу… тебя избили… не плачь…
– Я не плачу, Дашка… это кровь льется… ты пальцами чувствуешь кровь…
– Это я плачу… я не буду… я спасу тебя… я…
– Все мы… Дашка… помрем… это дело слез не стоит…
Сидя над ним на корточках, она подняла незрячее лицо к старику.
– Помогите!
Старик сказал тихо, жестко:
– Пока будьте оба здесь. Ждите меня. Я скоро вернусь. Я вижу, вы знаете друг друга. Куда мы его повезем, девочка? – Он положил руку ей на плечо, сжал.
– В Бункер, – ответила Дарья.
Его остановили. “Куда?” Ваша хозяйка велела меня пропустить, сказал он, глядя поверх их тупых голов. Его тщательно обыскали. Не обнаружив у него оружия, подозрительно оглядывая его, все– таки пропустили: иди. Он прошел по широкому коридору. Комнат было много, они втекали одна в другую. Он пошел в ту сторону, откуда доносились голоса. Так охотник идет на клекот уток.
И он толкнул дверь. И оказался в пространстве вместе с ними со всеми.
И они все посмотрели на него.
И высокий мужик, ростом ровно с его Гошку и такой же скуластый и широкоплечий, и лицом точь– в– точь такой же, только не с раздвоенным подбородком, а с глубокой ямочкой под нижней губой, и с носом не разбитым в давней драке, а идеально прямым, и без родинки, которую Гошка в детстве называл “жужелица”, оглянулся на него – и в сердце у него захолонуло, екнуло больно, томяще, раз, другой, и сердце стало.
И Ада, его дорогая Ада, незнакомая, роскошная, надменная, богатая, вся седая, но с молодым румяным лицом, на котором не было совсем видно морщин, а только горели ясным светом ее прозрачные, навек любимые им глаза, шагнула к нему от стола, уставленного пасхальными яствами, и сказала:
– Здравствуй, муж мой единственный, солнце мое на множество лет. Христос воскресе, Толя!
И он шагнул ей навстречу и сказал:
– Воистину воскресе. Ада, радость моя!
И они обнялись так крепко, что время остановилось.
А когда оно опять пошло, то он увидел лежащего на полу, вусмерть избитого человека в заляпанном кровью, модном светлом пиджаке, и Гошку, пьющего вино прямо из горла; и тот мужик, копия Гошки, посмотрел на него сумасшедшим взглядом; и он, держа Аду за руку, как девочку, сказал, кивнув на мужика:
– Сын?
– Ефим, – кивнула она.
– Что ж вы мужика– то как избили? – Он поглядел на лежащего на полу. – Кажется, я догадываюсь, кто это.
И тот, двойник Гошки, переводил умалишенный взгляд то на Аду, то на него, то на избитого мужика на полу, и наконец понял, и пошел вперед, как слепой, протянув руки, силясь назвать его – “отец” – и не мог этого сделать. Язык у него не поворачивался. И старик понял его.
– Сынок, Ефим, – хрипло, тихо сказал старик, – видишь, как все получилось. Ты уж прости. Мы с твоей матерью все сделали сами. Мы ведь старые лагерники, сынок. Мы не привлекли к этому делу правосудие. Оно все куплено– перекуплено, правосудие наше, и тот, кто был твоим отцом все эти годы, отмылся бы от суда без последствий, сухим бы вышел из воды. Мы должны были все это сделать сами. И мы все сделали. Я был, – он усмехнулся, – главным мстителем. Правда, нам помогала еще одна женщина. Подруга твоей матери. Фантастическое существо. Это слабое слово – помогла. Она, считай, сделала все… всю операцию. Она все высчитала. Всех вычислила. Я лишь исполнял то, что мне говорили они. Твоя мать и эта женщина. Я так понял – это конец?
Он показал на лежащего на полу человека. Губы Ефима прыгали. Ада бестрепетно взяла со стола кусок кулича. Откусила. Хайдер неотрывно глядел, как она жует, глотает, вытирает рот тыльной стороной ладони, отбрасывает седую прядь со щеки за ухо.
– Не думаю, – сказала Ада. Ее морщинистые веки призакрылись на миг. Опять загорелись глаза – прозрачно, дико. – Отлежится. Ему хорошо, по первое число всыпал этот урод, что тут у нас…
– Урод?! – крикнул Хатов. – Урод! Урод!
Он оглянулся на дверь, как будто бы Чек мог сюда войти.
– Что ты так кричишь? – спросила Ада. Хайдер инстинктивно подался к ней, желая успокоить. Мать. Он все еще не осознавал – это его мать. И это чувство было так странно, что он еле справлялся с ним, испытывая к Аде, стоявшей рядом, то отвращение и ненависть, то сдавливающую сердце нежность.
– Кажется, я знаю этого урода, – сказал старик, сжимая кулаки. – Может, угостишь кагорчиком, Ада? Тяжело мне пришлось за последний месяц. Жаркий апрель выдался. Ты вызвала “скорую”? Или ты…
– Я сделала ему обезболивающий укол. Сейчас очухается, встанет, – жестко сказала Ада. – Те, кому он не делал обезболивающих уколов, увы, уже не встанут никогда.
Она сама, своей рукой, налила ему вина.
– Зачем столько рюмок? – Он кивнул на пустые рюмки на столе.
– Ждем гостей, – она просветила его светлыми глазами, как рентгеном. – Вот тебя уже дождались.
Она ждала сегодня, в Пасхальную ночь, Александрину.
Она вспомнила, как пару дней назад Александрина позвонила ей. В день похорон Цэцэг Мухраевой.
… … …
Александра явилась в квартиру Цэцэг, когда безутешный Мухраев украшал белоснежный гроб белыми розами, жасмином и белыми лилиями. В комнатах играла тихая музыка. Свет, в котором крутилась и вращалась Цэцэг, шел прощаться с ней. “Вы знаете, такое горе… Госпожа Мухраева… Ах, невероятно… Вы принесли такие роскошные розы!.. Да, я хочу положить их к ее ногам… Милая девочка… такая красавица… А какая была наездница… А какая женщина… Мужчины падали… Ну вы подумайте, как же это случилось?.. Задушили?.. И убийцу не нашли?.. Ах, какой ужас… Мухраев найдет… Мухраев все силы приложит… А где господин Елагин, ведь он так был увлечен Цэцэг, вы же знаете?.. Нет еще?.. Ну, скоро будет…”
Александра подошла к гробу, наклонилась, поцеловала мертвую Цэцэг в мраморно– ледяной лоб. Она лежала в гробу как живая. Ее искусно подмазали, наложили макияж, как на живую, визажисты постарались на славу. Даже синюшную опухлость вокруг глаз и рта убрали бесследно.
Она наклонила голову перед сидящим у изголовья гроба Мухраевым, одними углами губ улыбнулась Судейкину, нашла еще пару– тройку знакомых лиц, переглянулась с ними. Александра не знала, что в толпе тех, кто пришел отдать Цэцэг последний поклон, были и те, кто работал с ней в японском ресторанчике “Фудзи” на Малой Знаменской – ее подруги, девушки– гейши. Кое– кто из гейш сделал другую карьеру. Кто– то – так и остался в “Фудзи”. Подмалеванная под японку черноволосая женщина положила к ногам Цэцэг, обутым в белые лаковые туфельки от Фенди, две огромных пушистых белых хризантемы.
Александра, не прощаясь, спустилась вниз, на улицу. Тепло апреля обдало ее. Она набрала на мобильнике номер Ариадны. “Адочка, по– моему, все совершилось. Мы убрали всех. Всех, кроме твоего мужа”.
Пели птицы. Около метро “Октябрьская” продавали пучочки сон– травы и первоцветов.
– Ты оклемался? – Ада смотрела на мужа сверху вниз. Он, кряхтя, сел на полу, привалился к креслу, хватаясь за подлокотники, тяжело, как вол, везущий воз, дышал.
– Да… да– а– а!.. самосуд… Суд Линча… Сука… Сучка лагерная… Зачем я тебя когда– то взял… ума не приложу… певи– и– ичка… птичка певчая… Снегурочка, мать твою, мать!.. – Елагин отер лоб, весь в крови, дрожащей ладонью. – Ну я ж вытащу себя за волосы… вы меня не найдете… не настигнете!.. а вот я вас найду… тебе не жить, Ада, так и знай…
– Да, я лагерная сучка! – Ада подошла к нему. Она испытывала искушение – двинуть ему ногой, носком модельной туфельки, в живот, под ребро. Сдержалась. – Да, я прошла все огни и воды! Те, какие тебе и не снились! Но я знаю цену человеку! И человечности! А вот тебя этому не учили! Мой мир другой. Я попала в твой мир. Так получилось. И, как бы я ни приспосабливалась к твоему миру, я все равно останусь певицей, которую – да! трахают за кулисами дирижеры и режиссеры! но которая пашет день и ночь, потому что она – пахарь! И делает музыку, а это значит бессмертие! И я останусь старой лагерной сучкой, и буду весь век, мне отпущенный, курить “Беломор”! И презирать, и ненавидеть вас, хотя я стала с виду ваша, я вписалась в вашу гадкую картину, я напяливаю ваши одежды, я держу деньги в ваших банках…
– Мои деньги. Мои деньги, Ада! – Он отер кровь со щеки.
– Твои, пусть! Нет у меня ничего своего в этом мире, нет! Деньги?! Все может пойти прахом мгновенно, ты лучше меня знаешь об этом. У нас с тобой уже нет никаких денег, Георгий. Ты объявлен банкротом. Я пустила все по ветру. Слышишь, все! Я сделала все так, что тебе, как ни ерохорься, остался только один выход! Все равно тебе не жить! Тебя уберут те, кто работал с тобой и на тебя!
Он секунду бессмысленно, как баран, смотрел на нее, не понимая, что она говорит. И когда понял – побелел.
То, что она бросила ему в лицо, было хуже смерти.
– Лучше бы этот твой подосланный говнюк забил меня по смерти. Правда, лучше было бы, – прохрипел он, разрывая воротник рубахи у горла, рвя с шеи галстук. Он дрался с Чеком при полном пасхальном параде. В пиджаке и галстуке. Ничего не снял с себя. Не успел. – Как ты смогла это все?.. ну не одна же, конечно, ты ни черта не смыслишь в финансовых операциях… Ты бы не смогла… тебе помогли… о, я дурак… я кормил из рук змею… я гладил скорпионшу… столько лет…
Хатов подошел к сидящему на полу Елагину. Присел рядом с ним на корточки. Всмотрелся в его избитое лицо.
– Ты, мужик, – сказал он как можно спокойнее. – Что ты теперь будешь делать? Ты понимаешь, что это уже настоящий конец! И Христос уже не воскреснет? Для тебя, по крайней мере.
– Понимаю, – выдавил Елагин. – Но я буду бороться.
– Как?
– Толя, встань с полу, – сказала Ада. Тревога ясно прозвучала в ее голосе. Он пожал плечами: что тут тревожиться? Безоружный человек, полумертвый, измочаленный до положения риз, сидит без сил на полу, он сидит на корточках рядом с ним, как на рыбалке. Они разговаривают мужской разговор, что тут такого?
– Господин Елагин, – с еле слышным отвращением произнес Хатов, – в чем будет заключаться ваша борьба? Если не секрет, конечно?
– Если вы позволите мне прийти в себя… у себя дома, – он тяжело дышал, струйка крови текла у него из носа, – я первым делом сбегу. От вас. От подложных бумаг. От банкротства. От суда. Я попрошу политического убежища… да где угодно. В той же Швейцарии. В той же Канаде. У меня везде друзья. Много связей. Мне так просто умереть не дадут. Если вы меня сейчас не добьете, суки, – он идиотски– сладко искривил окровавленный рот, – я выживу и убью вас. Тебя, эту сучку и ваших двух сучат. Так и знайте. Я всегда говорю то, что думаю.
– Всегда ли? Ну, в разных способах убийства вы поднаторели. – Старик все еще сидел перед Елагиным на корточках. Надо бы встать, ноги затекли. Но он все еще почему– то пристально глядел в заплывшее от побоев, ненавидящее его и всех, круглое, похожее на подушку лицо. – Это ты сука, Елагин. Ты ссучился давно. И тебя давно пора было… на мыло… но Ада…
Все произошло мгновенно. Никто не успел опомниться. Понять. Георгий Елагин цепко схватил старика Хатова за ворот рубахи, подтащил к себе, сунул руку в карман и насильно затолкал ему в рот что– то, отчего старик посинел, запрокинул голову, пена пошла у него изо рта – и он упал на паркет, дернулся раз, другой и затих.
– Для себя приберегал, – показал выбитые зубы Елагин. – Для себя… а вышло… Другой способ себе придумаю, Адусик, дорогусик… ты только не волнуйся… а– ха– ха– ха– ха!..
Он хохотал, задрав круглую сытую голову, всю в крови. Ада стала медленно оседать на пол. Она хваталась руками за все, что подвернется под руку: за скатерть, за край стола, за спинки кресел, за сиденья стульев, – но падала, падала, и Ефим и Хайдер, с двух сторон, бросились к ней. Их руки сплелись у Ады под мышками, за спиной, за худыми старческими лопатками. Он оба подхватили ее под коленки. Она была легкая, как перо, как пушинка. Как девочка.
Они оба поднесли ее к дивану. Уложили. Елагин все хохотал. Хохот перерастал в хрип, в волчий вой. Вой наконец затих. Ефим и Хайдер смотрели в глаза Ады. В глаза своей матери.
Глаза сыновей входили в ее глаза. Счастливей этой минуты у нее не было в жизни. Но цепкая лапа последней боли уже схватила сердце. Сердце, маленький живой мешочек, качающий кровь, – неужели ты такое слабое, что можешь разорваться от горя вот так просто? Неужели ты такое сильное, что можешь терпеть и таиться всю жизнь, чтобы потом подняться и восторжествовать над тем, что тебя било, гнуло, давило и ломало? Сердце… сердца ее детей, живших когда– то в ней, внутри ее чрева… Их было трое… трое… где третий?.. Спасибо, Бог, что двое – сейчас – рядом с ней, в ее минуту на краю, над пропастью…
– Игорь… это твой брат… люби его… – Она уже слабеющей рукой, высохшей, как птичья лапа, показала на Ефима. – Фима… пойми Игоря, полюби его… Он играл в Вождя… в Вождя того, чего на самом деле нет… что он выдумал сам – и поверил в это… Каждый должен во что– то верить… в красную звезду… в черный крест… в паучьи ноги… в золотое солнце… в Бога, в дьявола, во что хочешь… – Она уже часто дышала, хватала ртом воздух. Ее сморщенное лицо побледнело, исказилось от боли. Она старалась не стонать. Сейчас важно было сказать детям все. Все самое главное. – Хотите – верьте… Но знайте, что Бог – все равно есть!.. И самое печальное, Он– то людей об этом не спрашивает, есть Он или нет… Похороните отца… – Она попыталась обернуть лицо к вытянувшемуся на паркете старику. – А моего мужа… постарайтесь… отпустить, куда он пожелает… Ему все равно не жить… Чем кто– то будет его убирать – лучше он сам… не держите его… И… не убивайте его… – Все чаще дыхание, все бледнее кожа, все резче и четче морщины, все острее черты. – Я хотела его убить… я – мать… и я мстила за матерей… а теперь… когда он отравил вашего отца… я поняла… что он – уже по ту сторону пропасти… он уже не в мире людей… а до Бога ему палкой не добросить… Он ведь… выстрелил в Бога!.. Он ведь… Бога убил… распял его… в животах у Божьих матерей… много раз… Милые… родные… мои… хорошие… прощайте… И знайте, что у вас был еще один братик… еще один… наверное, он умер там… замерз… там, в бараке… Поставьте в церкви свечку… его памяти… И еще прошу…
Они не услышали ее последней просьбы. Сухое легкое, будто птичье, тело на руках у них выгнулось коромыслом, осело, глаза закатились. Изящная сморщенная рука легко, как сухой лист, упала с края дивана вниз.
Дарья ждала, ждала, ждала. Старик не приходил. Она держала обмякшее тело Чека на руках, сидела под кустом шиповника. Прислушивалась. Никого. Ни шагов, ни голосов. Чек изредка постанывал. Кажется, он погрузился в забытье. Она поняла, что светает. С улицы донеслось шуршанье машинных шин, перед темнотой ее незрячих глаз забрезжило тусклое марево. Светает, а старик не пришел!
– Чек, – она встряхнула его, – Чек, надо добраться до Бункера.
Чек промычал что– то, помотал головой туда– сюда.
– Чек, надо ловить машину. Чек, у тебя есть деньги?.. Нет?.. – Она осторожно ощупала его карманы. – И у меня тоже нет… Деньги были у старика… Я слышала, как он ими шуршал… – Она разговаривала сама с собой. – Что же делать?.. И я боюсь выходить на шоссе… Со стариком что– то случилось, Чек… Он кинул нас… Ну и что, а я не боюсь… Я не боюсь, ты тоже не бойся, я спасу тебя, спасу…
Она осторожно выпростала колени из– под головы Чека, ощупывая, уложила его на сырой утренней земле, осторожно, ощупывая воздуха впереди себя руками, пошла вперед. Гул улицы был совсем рядом. Она нащупала ногой тротуарный бордюр. Встала. Выбросила вперед руку.
Она голосовала, останавливая машину, так, как скинхеды взбрасывали руку в победном кличе: “Хайль!”
Возле нее остановились сразу же.
– Эй, девушка хорошенькая, куда так рано!.. От любовника к мужу спешишь, что ли?.. ну садись… сколько дашь?..
Дарья опустила руку.
– Я слепая, – сказала она. – Надо довезти до места моего парня. Ему очень плохо. Побили его. Помогите. Пожалуйста! У меня денег нет, но я заплачу, когда приедем. Там у всех деньги есть.
– Где это там, крошка? – Она слышала – водитель присвистнул. – В Центробанке, что ли? Что ты мне мозги компостируешь?!
– В Бункере. На Красной Пресне. Парню очень плохо. Вы же видите, я не вижу ничего! Подвезите нас! Пожалуйста!
– “Скорую” надо вызывать, коза. – Шофер хлопнул дверцей. – Садись. Где твой хахаль валяется? Поблизости? За что накостыляли– то? Должок вовремя не отдал? А ты правда слепая или заливаешь?
Она взяла его на руки. Господи, какой же он был тяжелый. Кости у него были тяжелые. Она еле приподняла его.
И все же она подняла его.
И поволокла – на руках, на себе, как могла, как уж получалось, надрываясь, думая: а как же сестры милосердия солдат на себе таскали в войну, а вдруг война, и вот она так же таскала бы раненых, – все вниз и вниз по лестнице, а шофер, чертыхаясь, остался ждать у входной двери – когда вынесут деньги за проезд.
Она чувствовала знакомые запахи Бункера. Она слышала знакомые голоса Бункера. Она погружалась в знакомое пространство Бункера, как пловец погружается в привычную теплую воду родной реки. Ей навстречу раздались голоса:
– Эй, Дарья!.. Эх ты, Дашутка, кого это ты волокешь на горбу?.. Нашего, глянь– ка, пацана– то!.. скина…
– Дашка!.. Привет, Дашка!.. Не пустая бежишь!..
– Дарья, где это ты, блин, пропадала?.. нам тут некому у входа свет на сходках раздавать… и на концертах тоже…
– Даш, эй, а кого это ты так классно обняла?.. Ты с провожатым?.. Одна?!.. Ни хрена себе… Тебе новые моргалы вставили, что ли?..
– Да помогите девке, не видите – она парня в бессознанке тащит, замучилась…
Чьи– то руки хватали тело Чека у нее из рук. Чьи– то голоса галдели возбужденно. Кто– то вертел ее в руках, разглядывал, хлопал по плечу: Дашка, эх ты, выглядишь классно!.. только вот что все платье белое кровью замазюкала?.. И внезапно вопль кого– то из скинов сотряс Бункер:
– Пацаны– ы– ы! Это же Че– е– ек!
– Как Чек?! Это – Чек?!
– Зуб дам, Чек! Гляди: ремень, на нем пряжка, на пряжке что выцарапано? “ЧЕК” – у него всегда такая пряжка была, для опознания, если заловят… или замочат…
– Эх и отделали– и– и!.. под орех…
– Ребя, несите тряпки чистые! Полотенца! И таз с водой! Кровь смывать!
– Где я тебе тут полотенца возьму?.. придурок…
– Ну тогда рубаху рви на бинты! Я– то уж свою – рву!
Хруст раздираемых рубах. Грохот стульев – она слышала, как составляют вместе стулья, чтобы положить на них Чека. Она стояла с протянутыми вперед руками. Кто– то взял ее за руки и подвел к стульям, на которых лежал Чек. Она опустилась перед ним на колени. Ощупала его лицо. Его уродливое лицо. Она видела его пальцами, как видела бы глазами.
– Чек, – сказала она тихо, приблизив губы к его разбитым губам. – Чек, я люблю тебя. Я очень люблю тебя. Ты слышишь меня?
Он простонал. Она поняла: он говорит ей: слышу.
Черные кресты на красных кругах по стенам. Черные кресты на флагах. На плакатах. Бритые головы.
Она не видела нарисованных Кельтских Крестов. Она не видела бритых голов. Она не видела горящих глаз. Она только слышала голоса.
– А ты слыхал… Бес– то… сам себя гигнул… в той больнице, где валялся… Дырку себе в башке сделал…
– А из– за чего, брат?..
– А из– за всего хорошего… Наших сколько полегло… Он, видать, переживал по– крупному… на тыкву ему и подействовало…
Дарья, стоя на коленях перед лежащим на сдвинутых стульях Чеком, прислушивалась, как большая птица, к тому, что кричало, шептало, гомонило вокруг нее.
– А ты думаешь, если наших повыбивали круто, то мы еще круче не станем?! Нас гребут, а мы крепчаем!
– Мы ж упертые ребята, Зубрила, ты прав…
– Эх, налей!.. Вспомним Люкса…
– Ты ж с Люксом дрался на кулачках, когда тот еще в ящик не сыграл!..
– Мы все равно пойдем вперед под нашим священным флагом! Под знаком Креста! Мы будем драться и убивать! Мы будем жечь и разрушать! Наперекор всему! Пусть убивают нас! Наш час придет! Над миром встанет Кельтский Крест! Великий знак Суувастик! Хайль!
– Ха– а– айль!..
– Наш Крест, осени нас! Направь нас!.. Ха– айль!..
– Эй вы, без базара, тихо, Дашка слушает, что ей Чек шепчет…
– Отдубасили Чека клево… Морда вся заплыла…
– Новая морда отрастет… ему не привыкать…
– Не узнаем, когда из гроба встанет!..
– А он встанет, старики?.. Чего– то мне сдается – не очень… Ему, кажись, косточки крепко помяли… поломали…
– Нарвался…
– Таракан завтра приезжает, слыхал?.. С гастролей…
– С каких, к херам, гастролей… ограбил бутик своего двоюродного дядьки – и пошуровал в Питер… Кстати, в Питере до хрена скинов загребли… с Марсова поля… они там, братья наши, расчувствовались, погуляли… день рожденья великого фюрера Гитлера, учителя нашего, отмечали…
– Какое отмечали, день– то рожденья Гитлера завтра! Это что– то другое они отмечали!
– А сегодня что?..
– А сегодня, чувак, – Пасха…
Она стояла на коленях, держала разбитую голову Чека в руках. Ее уши слышали бесконечное, без перерыва: Крест, убить, драться, будем, Суувастик, вождь, фюрер, наперекор всему. Наперекор?.. Она сморщила лоб. Произнесла про себя еще раз: на– пе– ре– кор. Наперекор – это вопреки.
Чек лежал без движения. Стонал еле слышно. Дарья чувствовала, как около стульев поставили таз с водой, как мокрыми тряпками чьи– то руки обмывали окровавленное тело Чека. Необъяснимым чувством она поняла, что Чек может не выбраться. И тогда она тихо сказала сама себе:
– Все равно. Наперекор.
И из дальнего угла Бункера, из открытой двери в каморку, где они с Чеком обнимались на грязных матрацах, послышался крик:
– Нашел!.. Я нашел!.. Чо такое, пацаны, и сам не пойму!.. Наряд какой– то… бабий… Ерунда какая, бля!.. сжечь, может, сразу?..
Скины столпились вокруг кричавшего. Дарья мучительно прислушивалась.
– Эх ты, класс!.. Ну, класс!.. Во прикол!.. Балде– е– еж… Это ж, старик, наверное, для траха прикид!.. Ну, гомик пассивный надевает плащик, рыжий парик напяливает – и активный вперед бросается!.. Как зверь!..
– А у нас– то, у скинов, он откуда?.. Кто– то из наших – гей?..
– А хрен его знает…
– У– у, плащ какой здравый…
– Не здравый, а просто улет, старик… Не то слово… Точно из бутика кто– то стырил… Такой прикид тыщу баксов как с куста стоит…
– А парик зачем?.. Парик смешной… Красный, как у клоуна…
– Ну, кошелка, может, черная была, масть захотела сменить, оттянуться…
– Эй, солдаты, это случайно не вы приволокли?.. Нет?.. Отпираются…
– Не, жечь не будем, Варан, костер ты из чего хочешь можешь сложить!.. а эту штуку Хайдеру отдай, пусть своей бабе подарит…
– А у Хайдера есть баба?..
– А у кого ее нет?..
– У меня…
– Вон у Чека и то есть баба… У Урода… Ишь, склонилась над ним, плачет…
Дарья стояла на коленях. Колени затекли. Она все стояла так. Ее зрячие пальцы видели свет. Ее незрячие губы шептали: прощай, Чек.
ПРОВАЛ
Зачем вы меня закутали в смирительную рубашку?! Зачем затянули черные узлы?! Я же живой… я же не хочу умирать… я хочу жить, дышать…
Вы не слушаете Нострадамуса. Вы не хотите склонить слух к моим предсказаниям. А я уже напророчил вам гору ужасов. К черту ужасы! Давайте радоваться. Черный крест закрестил небо? Сквозь крест вы же небо все равно видите! Север, Запад, Юг, Восток… Священный знак, соединяющий четыре мира в острой точке – сердцевине огня… Все сгорит когда– нибудь. Вы думаете – вы разрушением приближаете царство огня?! Огонь не спросит, кто строил, кто разрушал. Кто поклонялся знаку Суувастик, кто – красной звезде, кто – Кельтскому Кресту, кто – серпу и молоту, кто – Красной Луне. Ах, вы, уважаемые санитары, хотите сказать, что вы поклоняетесь Красной Луне?! И она у вас все время ночами в окне стоит, да?!.. за черным крестом рамы… А где женщина с глазами кошки, что завлекла меня сюда, что обольстительно шептала мне на ухо: я тебя вылечу от дара пророчества, будешь как все люди, будешь тихий, смирный, маленький, стерильный?.. Где она?.. Ах, не мое дело?!.. А я все вижу. Я знаю, что она умерла. Я видел это из далекой дали, из сладкой Франции моей, из долины многошумной Роны.
И та бритая девочка умерла?.. Та, что пела песни, сидя с тем мальчиком на кровати?.. И она тоже?.. И я что, тоже умру?..
Ах, я не хочу, ведь так это больно… Это слишком больно…
Столько людей умирает каждый день на Земле… А я, Нострадамий, все живу. Зачем вы так стянули смирительную рубаху, что я не могу дышать?! Давайте я покажу вам фокус. Я выдохну из себя последний воздух и побуду так немного… ну, столетий пять– шесть, не больше, а потом вы возьмете да и развяжете тесемки рубашки. И выйду я на волю – свеженький, чистенький, гладенький, розовый… новорожденный. Я выйду на волю из чрева женщины в лютой зиме, в лагерном бараке. И меня назовут не Алешкой Юродивым. Не Мишелем де Нотр– Дам. А как? Андреем, Петром… Иваном?.. Иван хорошее имя, Иваном я согласен побыть на земле… как холодно, не бейте меня… вот вам мой последний воздух… фу– у– ух…
… … …
Перед огромной фреской покойного Витаса Сафонова стояли заказчики.
Некому было отдавать гонорар.
Фреска была сделана.
Фреска была сделана на славу. Неоконченной осталась только левая ниша храма. Купол был расписан целиком. Апсиды и ниши в центре и по бокам были заполнены цветными летящими фигурами. Фигуры сплетались и расплетались в клубящихся небесах. Фигуры стояли на земле, задрав головы, и ждали Последнего Приговора. Фигуры коленопреклоненно молились. Фигуры отчаянно рыдали, грозили кому– то невидимому, смеялись, проклинали, трепетали.
Бог пришел к людям на землю во второй раз.
Заказчики, расставив ноги, стояли в полутьме храма, выстроенного на их деньги, рассматривали бешеный Космос, рожденный кистью Сафонова, молча переглядывались. Все было и так ясно. Бедный сумасшедший художник, одержимый манией преследования, поднатужился и выдал свой последний шедевр. И повесился. Убили?.. Кому он нужен, художник?.. За что убивать художника?.. Художник – святая тварь на земле. Даже такой развратник, каким был Витас Сафонов.
Впереди заказчиков, бритоголовых, в черных рубахах, упитанных молодцов, стояла женщина с мелкокудрявой светлой головой, с широко расставленными серо– зелеными глазами. Бритоголовые косились на нее. Женщина услышала, как тот, кто стоял ближе к ней, сказал на ухо другому: приятная блондинка, так бы и съел. Тонкие губы женщины дрогнули. Хорошенькие речи в храме.
Александра Воннегут знала, кто эти люди в черных рубахах.
Люди в черных рубахах не знали, кто такая Александра Воннегут.
Александра глядела на красный лунный нимб, встающий над затылком раскинувшего руки Христа, и думала: все наказаны, она сполна отработала деньги, заплаченные ей Ариадной Филипповной. Что дальше? Дальше – новая работа. Заказ из Америки. Красивая операция с хозяевами холдинга “Арктида”. Отстрел, как уток, членов мафиозной группировки Риджино – она уже получила за это деньги. Молодчики в черных рубахах не успели отдать Витасу половину причитающейся ему суммы. Она о них кое– что знает. Что, если попробовать? Рискнуть?.. Поиграть?.. Самой, как в мяч… Как пасьянс, который любила раскладывать бедная покойная Ада…
Она вздохнула. Повернулась. Христос повернулся вместе с ней. Над головой Христа красная Луна мигнула Александре слепым глазом.
Гордо откинув кудрявую голову, обдавая чернорубашечных молодчиков зеленью глаз, стуча каблуками по каменным плитам храма, она подошла к ним.
Этот пасьянс следовало начать с красной карты.
Что там было под черной рубашкой? Жизнь? Смерть?
Она ослепительно улыбнулась мужчинам. Ей улыбнулись в ответ.
… … …
Море переливалось под стоявшим высоко, в зените, солнцем горячим, слепящим расплавленным золотом. Яхту качало, ветер был небольшой, но свежий. Взрезая носом темно– изумрудные веселые волны, яхта кренилась то на один борт, то на другой. Бортовая качка обычно изматывала мужчину. Сейчас он не думал об этом. А может, он просто выпил коньяк, закусил лимоном и заглушил тошноту.
Солнце, море… Как много шири, вольного простора, как незаметно там, вдали, море переходит в небо… Вот так же и жизнь должна перейти в смерть – свободно, незаметно, без разреза, без шва. Это люди сами придумывают себе муки, ужас, боль, крики, отчаяние. Границы нет. Наверное, границы и правда нет. Когда он валялся там, на полу у себя дома, и терял сознание от боли, он не ощущал этой грани. Ему казалось – он уже умер, он в аду. Если человеку кажется, значит, он еще жив. Смерть – это черный провал, пустота. Ада говорила: ты думаешь так потому, что ты не веришь в Бога. А что такое Бог? И что такое жизнь? И что будет там, после нас, в неведомой мгле столетий? И верным ли путем шел он? Что для него была чужая жизнь? Находка, материал, плоть, из которой он делал деньги – вереницы цифр, странную вязь письмен на банковских счетах? Ужас выбранного пути не пугал его – ему казалось, что он мужчина, что он сильный, крепкий, что люди вокруг него занимаются гораздо более страшными вещами – и ничего.
Теперь, на борту собственной яхты, далеко в океане, одному, ему стало видеться все по– иному.
Он выплыл из порта Бискайя, чтобы очутиться в одиночестве в открытом море, посреди океана – и сделать то, что советовала ему сделать Ада. Его холдинги рухнули. Его банки провалились под землю. Его счета прикрыли, арестовали. Хотели арестовать и судить его самого, но он, едва оправившись после той Пасхальной ночи, успел удрать в Испанию. Там, а не в Греции, он поставил яхту на прикол.
Женщина выпускает человека в свет. Мать когда– то родила его. А могли и его вырезать из чрева матери, как это он проделывал с плодами тех, на кого охотился. И положить в медицинский холодильник для перевозки внутренних органов, и отправить туда, где его вшили бы по частям в чужие, неизвестные тела. Ну и что? Лучше бы это было или хуже? Может быть, и лучше. Не было бы сейчас проблем. И последней проблемы, что встала перед ним во весь рост, как парус на яхте под ветром.
Он сидел и смотрел на блистающую воду долго, пока не заболели глаза, пока он не ощутил голод и солнце не стало клониться к закату. Когда рыжий огненный шар стал стремительно падать за окоем, он с трудом выпростал огрузневшее тело из шезлонга. Цианистый калий он потратил на Анатолия Хатова. Себе он оставил море.
Он прошел в кают– компанию, налил себе рюмку коньяку, влил в глотку. Закусил ломтиком лимона. Крякнул – грубо, громко. Он был здесь один и мог делать все что хотел. Даже материться. Даже плакать, рыдать в голос.
Он не ругался и не плакал. Он снова вышел на палубу. Пока он сидел в кают– компании, пил коньяк и не думал ни о чем, ощущая гул пустой, как котел, головы, наступила темная, как смоль, южная ночь. Звезды высыпались на черный, широко расстеленный плат неба, как драгоценности. “Как те алмазы и хризолиты, что мы снимали с бедных обреченных девчонок”, – подумал он. Стоя на палубе и держась за релинги, он вспомнил обо всех женщинах, что были у него когда– то, о том, как он за ними ухаживал, как валил их в постель, как любил их, как с ними расставался – грубо или деликатно, тайно или со скандалом. Вспомнил, как он увидел впервые Аду – в спектакле Большого театра, на сцене, в роли Снегурочки. Молодая певичка, ужасно загримированная, краска со щек и ресниц сползала слоями, а пела как соловушка. Он поинтересовался: кто такая? Ему донесли: талант, только что выпустили из мест не столь отдаленных, живет одна, в коммуналке, маленький ребенок. Он, едва закончилась опера, явился к ней за кулисы. Сграбастал в объятия. Сказал на ухо: ты будешь моей женой. Она засмеялась, забила его кулачками по спине, отворачивала размалеванное личико, но он держал ее крепко.
Зачем он тогда так сказал ей? Зачем он женился? Молод был. Жениться надо когда– нибудь. То, что она отсидела срок, придавало ей какое– то блатное очарование. Он задался целью сделать из нее аристократку – и сделал. Ему так казалось.
Жизнь оказалась гораздо жесточе. И проще.
Ночь. Он должен дождаться ночи. И Луны.
Он почему– то очень хотел увидеть Луну. Как чье– то холодно утешающее, последнее живое лицо.
А, вон и она. Луна выкатывалась на небо с запада, у нее был странный оранжево– розовый цвет, как у испанского апельсина. Красная, прекрасная Луна. Как он взял к себе домой Аду с ребенком… мальчик так орал, так кричал и плакал все время, как резаный поросенок… Она понесла его крестить в церковь, а крещение тогда было запрещено, она упрашивала батюшку: а вы украдкой, ранним утром, до начала службы, совала ему деньги… Все любят деньги. Все любят хорошо жить. Я буду хорошо жить, а ты – рядом со мной – ты можешь расплющиться у меня под сапогом. Мне будет все равно.
Ада, ребенок, мальчик… Его названый сын… Как он плакал!.. Зачем он плакал?.. Он не хотел чужого отца?.. Он дал ему свое имя… Он, убивший стольких детей, сделал своего приемного сына – сильным, властным, могучим, почти великим… И что?.. Sic transit gloria mundi?..
Адин шрам на шее… Дикий, страшный, на ее тонкой певческой шее, он его всегда пугал, хорошо еще, он у нее прятался под прической, под волосами… Она сказала ему: я в лагере доходила до отчаяния, хотела покончить с собой, резанула себя по шее пилой, да не вышел номер, спасли, откачали… хорошие там лепилы были, в лагере… Он еще спросил тогда, поморщившись: что такое лепилы? Она насмешливо ответила: врачи…
Sic transit…
Он наклонился через борт. Качка усиливалась. Он перегнулся еще ниже. Черная, агатово– масленая вода вспыхивала изнутри, фосфоресцировала, играла, как играют чешуей светящиеся рыбы, как играет призрачная далекая музыка. Он нагнулся еще ниже и не удержался за релинг. Падая в колышущееся, светящееся под ним море, он услышал рядом с собой детский резкий крик. Крик отдался внутри него. Он захлебнулся первым же глотком. Розовая дорожка от красной взошедшей Луны стелилась, вспыхивала по черной воде.
… … …
…Время обернулось и поглядело на себя, старое и седое, в осколок старого зеркала, вынутого украдкой из– под полы штопанного лагерного ватника.
Время, зачем ты смотришься в зеркало, ты ведь не женщина, время?
Женщине приходит время рожать; время умирать ей еще не настало, не торопи его.
Резкий детский крик пронзил морозный воздух. В бараке изо рта шел пар, как у лошадей. Мать лежала на спине, на подложенных под нее тулупах. Живот у нее был обнажен. Женщины, хлопоча, всхлипывая, суетились вокруг. Мать прошептала искусанными губами:
– Игорь… Ефимка… Филипп… Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь…
Третьего она назвала Филипп. В честь ее отца. Его деда.
Знаменитого врача, делавшего уникальные операции на глазах, излечивавшего людей от слепоты. Он погиб в лагере. Только не в Сибири – на Печоре. В ночь, когда до неба взвивалась, выла жестокая печорская пурга.
… … …
Бункер молчал.
Чек умирал.
Дарья склонилась над ним. Обвивала руками его голову. Повторяла одними губами: Чек, Чек, не уходи, не надо, живи, живи…
Скинхеды стояли вокруг них черным кольцом.
Огромный черный Кельтский Крест висел, намалеванный на плакате, над бритыми головами.
Когда Чек умер, Дарья взяла его на руки и вынесла его на руках по лестнице наверх, на улицу, в ночь.
Скинхеды расступались перед ней. Кто– то плакал.
В животе у Дарьи шевельнулась новая жизнь.
Красная апрельская Луна катилась по черному небу.
… … …
Они стояли над телом мертвой матери.
Они смотрели друг другу в глаза.
Они не протянули друг другу руки.
Они не обнялись.
Но глаза Хайдера сказали Ефиму: “Брат, прости”.
И глаза Ефима сказали Хайдеру: “Прости, брат”.
И лицо умершей просветлело. Или им обоим так показалось?
Мертвые сраму не имут. Мертвые не имут зренья и слуха. Что они чувствуют там, в ином мире? Что они знают о нас?
Ариадна Филипповна никогда уже не узнала о том, что урод Чек, дравшийся с ее вторым мужем Георгием Елагиным у нее дома, – ее третий сын, рожденный ею там, в холодном лагерном бараке, и названный ею Филиппом в честь деда.
И старик Хатов об этом не узнал.
И Ефим. И Хайдер.
И никто об этом не узнал никогда.
Чек, клевый скин, морда кирпичом, дай пять, пацан, нету у тебя травки посмолить, давай, лысый кореш, без базара, – а ты сам хотел бы узнать, что у тебя на свете все– таки была мать?
ПРОВАЛ
Я вижу все. Я все провижу. Только не надо плакать.
Те, кому суждено жить, останутся живы.
Я умер давно, Мишель де Нотр– Дам, а вы все остались жить, господа?
Если вы живете – не побрезгуйте мне на шкалик. Санитары грубияны, они меня не угощают, да и умереть спокойно не дают. Они все верят в жизнь.
Звон доносится с ближнего храма… звон… звон…звон…
Над чем звонят?.. А, над жизнью звонят… Снова кого– то распяли, а он взял да и воскрес. Воистину? А что есть истина?.. Я не знаю, и вы не знаете. А вот шкалик опрокинешь – все узнаешь сразу. Любите слепых, они видят все. Любите глухих, они все слышат. Любите горьких пьяниц на городских улицах – они пророчат о невозвратном.
2002. Москва – Нижний Новгород – Васильсурск.