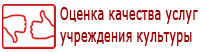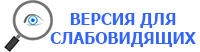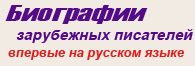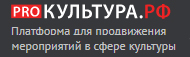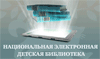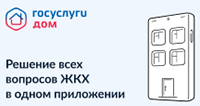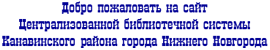
Милостыня
– А теперь, Мишаня, золотой, найди мне что-нибудь поинтереснее для второй полосы…
– Слушай, желтая пресса, ты сама не знаешь, какого тебе надо! Бери вон раскрытый наркопритон...
– Во-первых, его раскрыли сто восемнадцать лет назад, и вся желтая, красная и зеленая пресса уже обсосала это событие, тоже мне, сенсация, во-вторых, ты отлично знаешь, что мне нужно лужицу крови, в-третьих, не вредничай, Мишаня, я знаю, ты меня любишь, так что покажи мне сводку...
– Садись и смотри сама.
– Морда ты противная! Я не имею права, это раз! Войдет твой начальник, н мы будем иметь разнос...
– Он ничего не скажет. Он с вами не любит связываться.
– Миша, я эту бандуру включать не умею.
– Вот! Кого только в журналисты берут – компьютер включить не могут!..
– Того и берут, кто больше ничего не умеет... Ну, Мишенька... Ну, пожалуйста…
– Ладно, не ной...
Угнездились, наконец. Он – на стуле перед компьютером, она – рядом, якобы нечаянно касаясь его предплечья своим бедром. Корреспондентка в пресс-службе УВД области. Уже не в первый раз они разыгрывают флирт. Информация так берется как– то веселее. Ей, положим, все равно, она свободна, как муха в полете, а ему приятно...
– Хлебозавод ограбили...
– На фиг, Мишаня, на фиг!
– А чего тебе тогда надо?
– Ну, драчку какую... А лучше труп.
– Какие вы, блин, кровожадные! Газету вашу мне, например, читать страшно!
– Ой! Такой большой красивый мужчина, привыкший к свисту бандитских пуль над головой...
– Типун тебе на язык, Женька! Мы мирные сотрудники пресс– службы, нам до пуль далеко.
У нее в глазах горит, по лицу вертится шаловливо-дерзкое возражение – пресс-служба, значит, много знаешь, а у нас только когда ничего не знаешь, крепко спишь! Но высказать его вслух она не решается. На самом деле, не шутки, в наши– то дни.
Кровожадные вы, прямо Дракулы какие– то! Ничего для вас нет на этой неделе.
– Не мы такие – жизнь такая. Обыватель любит ужастики перед сном почитать. А неделя, Мишаня, еще не кончилась...
– Ну вот смотри сюда! Двадцать первое августа... Три случая всего…
– О-о-ой!
Стон такой силы, такого накала ужаса, что из-под Мишани вылетает стул. Бестолково вскочив, он словно завис в воздухе и не может понять, откуда горестный вопль. Рука его – правая – еще торчит вперед, пальцы фиксируют отнятую от них клавиатуру в пропыленной атмосфере кабинета.
– О-о-о-ой!
Она ли? Рыжая, заводная, только что беспричинно веселая, безобидно кокетничающая? Что ж застыла в неловкой позе, так и припав на один бок, как дразнилась изгибами фигуры? Теперь кажется одновременно – и вот– вот рухнет, и вросла в стертый линолеум пола.
– Женька, ты что? что с тобой?
– О-о-о-ох!
Стон! Только стон! Нутряной, ужасный, как при родах.
Нет! Как при криминальном аборте в грязном деревенском подвале.
– Женя! Выпей воды!
Пытается приподнять во стола ее руку, сунуть в ладонь стакан – бесполезно. Ни девицу не сдвинуть с места, ни глаз ее обесцвеченных не оторвать от экрана компьютера. Зрачки сузились до булавочных головок, а острия взгляда вонзились в синеватые строчки текста. Намертво. Мельком Мишаня читает:
– «ДТП. 21 августа в 9.30 утра на 240– м километре М-ского шоссе произошло столкновение... по вине водителя а/м «Москвич» ... скончался на месте... пассажиры... водитель а/м «Жигули» ... с тяжелыми травмами ...» – и недоумевает: авария, каких много! Что же с Женькой?
А она, чувствуя во всем теле смертную тяжесть, словно и впрямь погиб в утробе ее долгожданный младенец, из той же сводки выхватывает глазами другое: «...столкновение а/м ВАЗ 6– й модели № 19– 69 НE с а/м «Москвич» – 2142... водитель а/м «Жигули» Властов Адриан Вениаминович с тяжелыми травмами госпитализирован...»
Если бы ее глаза имели силы проследовать мимо этого гневливого, но отходчивого слова, а разум – осознать дальнейшее сообщение, она бы, возможно, поняла, что растяпе из «Москвича», нарушившему правила, стократ хуже, да и семья его – жена и дети– погодки, младшеклашки, на ладан дышат в больнице скорой помощи... Но сил нет, потому что синей молнией пронзает все существо вдоль и поперек мерцающая колючая проволока строки: « Властов Адриан Вениаминович с тяжелыми травмами госпитализирован...» – и никак не разогнуться, никак не придти в себя.
Мишаня догадывается щелкнуть по клавиатуре, нажав «пэйдж ап», экран монитора скачет – на глаза Женьке попадает весть о ликвидации наркопритона, и она болезненно дергается, точно выходя из-под наркоза. В скрюченные пальцы ныряет стакан воды.
– Перепугала ты меня! Пей!
Женька пьет, и по мере этого простого действия к ней возвращается жизнь. Вместе с эмоциями: зубы начинают колотить о край стакана с навязчивостью бабочки, бьющейся в стекло окна. Мишаня догадывается отвести посудину от рта девицы. Глаза ее осмысленны, в них – неподдельное горе.
– Что стряслось-то, Жень?
– Куда его отвезли? – спрашивает она решительно.
– Кого, блин?
– Адика... Властова Адриана Вениаминовича.
– Какого Власова?
– Вот так все и ошибаются вечно... Властов он. Узнай.
– Ты объяснить можешь по– людски?
Женька внезапно свирепеет:
– Ты свою сводку читаешь иногда? Вот же, вот! – и резким движением возвращает на место злополучную страницу от 21 августа. «ДТП... в 9.30 утра...» – Смотри! Узнай, куда его отвезли!
– Ну, наверно, в БСМП, как и тех.
– Он военный, у них госпиталь. Узнай, Миша!
Миша вникает в суть дела. Ему уже ясно, что за взрывам чувств стоит «лав стори», хочется схохмить... Но вид Женьки удерживает от шуток. Она бледна до прозелени, словно в том бабьем вое утекла прочь вся ее кровь. В лице появился фанатизм… или не так называется решимость женщины, которую ударили под дых?
– Ну как я это тебе узнаю?..
– Миша! – лопается петардой напряжение Женьки, – или ты сейчас позвонишь в ГИБДД и все выяснишь, или я сама им дозвонюсь, но тогда в сводке появится сообщение о твоем убийстве, понял? Ты человек или мент поганый?!
– Ну чего орешь-то?– поражается Мишаня ранее всегда ровной обаяшке.
– Если бы это была твоя жена, ты бы тоже не знал, как что узнать?
Мишаня садится за телефон. Женька бегает по кабинету, сцепив пальцы перед грудью. Два шага вправо – Мишин стол, два шага влево – стена, два шага назад – компьютер.
– Сядь, не мельтеши!
Она падает на стул перед бесстрастным монитором. Снова вперяется глазами в сводку. Тянет к себе сумку с тумбочки в углу, ищет сигареты, сквозь зубы матерясь, закуривает, роняет зажигалку... Мишаня не курит, у него аллергия на табачный дым, но Женьку гадко так, что можно перетерпеть. Никогда еще за вce время знакомства с Мишаней она не была настолько не в себе. Никогда не выглядела способной на эдакий срыв.
– Слушай, короче: отвезли его в БСМП, как я и говорил. В больнице сказали, слишком... ну, это, не нужно его сейчас перемещать в госпиталь. Оперировали уже...
– Кто сказал?!
– Врач Милашенков – знаешь такого?
– Да, на «скорой», хороший хирург...
– Не на «скорой», а в больнице скорой помощи, и не просто хороший, а лучший хирург больницы, ясно? Вот он говорит, что плоховат... тьфу, сиди, не дергайся, жив, здоров, насколько это возможно после такой смятки! Надежда есть, слышишь?
– А что с ним?
– Ну, ты, мать, даешь – я ж тебе не медик! Говорит, повозились с ним. Но он настроен оптимистично...
На самом деле врач никак не настроен, он вымотан после каторжно тяжелой операции и недоволен ею, потому что парень действительно плох, а надежда... умирает последней. У хирурга пропасть забот. Человек, сшитый из лоскутков, ему привычное дело. Игра в карты с судьбой. Подглядывать невозможно. Козырь у офицера один – роскошное здоровье... до столкновения «жигуленка» с «москвичом», но обо всем этом сотрудник пресс– службы УВД деликатно умалчивает.
Женька ревет, косметика потекла на бежевую блузку. Такого потока слез Михаил сроду не видел, рассказали бы – не поверил: как в кинематографе, из потайных флакончиков, но настоящие, разъедают пудреную кожу докрасна.
– Ну теперь-то что? – спрашивает он досадливо, потому что никакому нормальному мужику неприятно, если не больно, смотреть на уродуемую плачем женщину. Уже полчаса он бьется, как сиделка над умирающим, все из– за зауряднейшего ДТП с летальным исходом и травмами. – Видишь – жив.
Вскинув полосатое лицо, корреспондентка, эта боевая, прожженная, мало чем смущающаяся особа выдает дивную реплику:
– Господи, почему я ему тогда фаршу с макаронами не пожарила?!..
Здесь можно было бы рассказать о том, как:
– Адриан Властов познакомился с Евгенией Мелеховой: по пути со службы притормозил на небрежное приглашение к тротуару броской девицы с сигаретой в зубах, повез ее якобы до дому, а по пути ни с того ни с сего спросил: «А вы пойдете ко мне невестой?» – и получил неожиданно серьезный ответ «Пойду,» – а потом на той же самой машине они проехали пол-области, ища природы и уединения, и как взаимная жгучая привязанность людей за тридцать, разведенных, битых судьбой, росла с каждым километром, и как закрутилось между ними, подобно двигателю, толкающему колеса, нечто настоящее, и как этим двоим было хорошо друг с другом.
– Женька забыла о хлебе насущном для мужика и пришла к нему на ночь на пустой холодильник и с пустыми руками, и как он обиделся, ибо в прошлом браке уже настрадался от беззаботности супруги, в ничего не сказал подружке, но затаил некую думу, а Женька, мигом уловив ее, сказала: «Додумаешься – позвони!» – и ушла в ночь, снова ловить попутку, и всю дорогу домой скрипела зубами, а дома терзалась стыдом, а через три дня начала откровенно плакать по нему, так как он не звонил, а через наделю позвонила в полк сама и, цепенея, услышала, что его с ротой послали в Чечню, в какое счастье было, когда Адриан вернулся (из тайных журналистских источников узнала), но и какая беда, что снова не позвонил, и как теперь та возможная тайная вечеря, не состоявшаяся по вине женщины, откликнулась ей же горячим стыдом и мукой, как в агонии – все понимала, а сделать уже ничего не могла! – но коварная мысль точила мозг – если бы я тогда поступила иначе, он был бы сегодня жив и здоров, в любом случае я бы оказалась рядом с ним!
– с куражом отчаяния она решила: «Почему я при таком раскладе не могу быть рядом с ним, ведь я не могла ошибиться, это мой человек!» – и на другой день после жуткой вести из ранее такой для нее нейтральной сводки УВД, привычного орудия труда, обналичила весь свой долларовый счет, оставшись без копья на черный день, накупила на складах дефицитнейших лекарств и тем же вечером пробилась в отделение реанимации со своим даром, но там ее встретила мать Адриана, лишь шапочно, более по телефону, знакомая, и попросила уйти, потому что сейчас около сына место только матери, и как Женька не смогла удалиться от больницы более чем на пятьдесят шагов, и всю ночь проторчала на улице, под окнами реанимации, причем только начало работы заставило ее-таки ехать в редакцию.
* * *
Планерка. Что-то в этом есть от заседания генерального штаба. «Генерал» – красивый и ледяной человек в очках, журналист от рождения, четверть века неуклонно идущий по страницам всех областных газет, нынче главный редактор самого бойкого еженедельника: заслужил! Перед ним, как командиры пониже рангом в походно– полевых условиях, в боевой готовности, сотрудники, оседлавшие стулья. У окна Борис, а наискосок от него – Сережа Шмаков, которого весь город знает именно как Сережу Шмакова, своего парня, а около него – Егор Полянский, сорок лет, а душа школьника, и Валентин Максимыч, криминалист, не в обиду будь сказано, почище иных оперов, потому что сколько не писать очерки по судебным делам и про родную милицию... А возле Валентина Максимыча всегда сидит Женька, дикий шиповник в цветнике редакции, украшает бордово крашеными волосами, точеным неправильным лицом, неистовой широкоглазостью рабочий момент – она сияет маникюром, макияжем, прической, а когда, выслушав указания редактора, встает, мужики невольно виляют взглядами по стройным ногам и модному туалету, неизменно с налетом эротизма. Тaк бывает каждую среду, только сегодня Женьки нет по невыясненной причине, и вчера ее не было, и позавчера как ушла в пресс– службу УВД, так и не возвращалась, и не послала взамен себя ни ответа, ни привета. На такие дела главный редактор уже гневается, а планерка – это вообще святое, нет поводов ее не посещать. Даже в случае трагической гибели журналиста при исполнении служебных обязанностей он, прежде чем быть похороненным, обязан прямо в деревянном костюме явиться на планерку. А барышня, похоже, забыла обо всем! И без одного человека распределение обязанностей не клеится.
Дверь в кабинет редактора внезапно скрипит кратко и будто бы несмело. Еще бы! Даже в очках редактора отражается безмерное диво – на пороге стоит какая– то тень матери Гамлета со всклокоченными волосами винного цвета, неуместно яркими оттого, что под ними нет лица, только безумные глаза высвечивают из туманных кругов. На тени надето нечто темно-серое, мятое. Господи, кто это? Самая сексапильная журналистка города N?
– Здрас.. зните... не могла предуприть... очплохо...
– Евгения Павловна! – с места в карьер повышает голое редактор. – Это что такое? Ты где была в день сдачи номера? Это что за новости?
– Я… в больнице… Один… мой… травма… плох…
Очки лезут на лоб, а глаза всех четверых корреспондентов давно уже сменили природой определенное им положение на завышенное, в вылупленных белках мужиков плавают обрывки Женьки.
– Можно было хотя бы предупредить, что что-то случилось! Но в день сдачи такие дела – как нож в спину, уважаемая! Ты материал не принесла! Мы до пяти часов не знали, чем закрыть вторую полосу! – и много чего еще морализующего произносит главках редактор, втайне видя, что речи его не достигают цели, даже в уши не влетают, вопреки поговорке. Девица покачивается около двери:
– Просттть... можно, объясню... в сводке сообщение... ДТП… человек мог погибнуть... Другая семья погибла... я не могла работать...
– Работать она не могла! – взрывается в кабинете, аж стекла дребезжат. – Хорошо, что это первый раз! Еще бы одно предупреждение тебе – я бы тебя держать больше не стал! Мало ли что у кого случилось! А если что серьезное произошло, надо было мне по-человечески объяснить!
– Да... да…но нет... не было сил... я ночь не спала…
Слава Богу, редактор понимает: нотациями ничего не добьешься.
– Садись. Потом поговорим. Планируем следующий номер. Криминальный очерк, Максимыч, как всегда, за тобой... что даешь? Разбой на большой дороге? Слишком часто у нас идут эти разбои... Слишком часто. Подумай, может быть, нестандартное дело можно раскрутить? Помнишь, год назад муж жену из ревности заказал?
– Помню, но его еще не осудили...
Текучие, привычные фразы чуточку успокаивают Женьку. Точнее, убаюкивают, как анестезия, а еще точнее, замораживают, как новокаин больной зуб. Под ее посторонним холодным лицом кроется гнездо жара, который, дай волю, испепелит Женьку. От нее уже– то осталась лишь поблекшая оболочка.
– Что с тобой? – изгибаясь на своем стуле, клонясь в сторону девицы, шепчет Сережа Шмаков. Женька мотает головой, как умалишенная, без видимой связи с вопросом. Это для Шмaковa не видно логики. А в ней звенит одно: нет в мире живых, действующих, суетящихся Адика – и ее нет, и она вполне вправе ответить коллеге полным отрицанием себя. Слабенький наркоз обыденности. Пустота в душе ноет нестерпимее.
– Кстати, Женя, хватит сидеть деревянно, включайся в работу. Ты еще будешь объяснительную писать. Сейчас, уважаемая, тебе самое милое дело – исправиться. Ты должна что– то такое нависать, чтоб народ ахнул. Над чем собиралась работать?
– Слепые... пара... готово... дома лежит... завтра…
– Подожди, меня сейчас интересуют информационные страницы, с которыми ты так хорошо поступила в прошлый раз. Сейчас просто по справедливости все на тебе – ведь в понедельник парни за тебя работали! Считай, двести строк наскребали срочно. Что там за авария, какая семья погибла? Вот это напиши.
– Нет... нет... – сомнамбулически отпирается Женька. – Что угодно, но это... не мое... не могу…
– Опять «не могу»! – вскипает редактор не на шутку, а ярость его страшнее атомной войны, страшнее революции и девятого термидора. – Нет уж, тогда изволь внятно объяснить свою позицию! При всех! Когда у меня отец умер, я в день похорон с утра пришел на работу – отдал распоряжения и принес, между прочим, материал в номер, который был запланирован! Есть понятие профессиональной этики...
Пока ее распекают, Женька сидят смирно, но редактор весь дымится от гнева, и рядом с ним жарко, так, что девица начинает оттаивать, а как только трогается лед отключки, начинает стрелять в висках и рваться в сердце «Адик, Адик!» Одно дело – писать о ком– то, о ком знаешь только имена, перечислять факты, комментировать события, а другое – ваять репортаж, как человек, которому ты лишь из боязни поторопить ход нарастания чувства не сказала «любимый», в том самом «жигуленке», приюте любви (и не надо видеть в этих словах намек на пошлость, ибо они имели все, – и просторы земли, и уголок для встреч!), налетел влобовую на другую машину, кстати, тaм тоже сидели в общем-то счастливые люди, дети болтали о своем, музыка звучала из магнитолы, а теперь еще неизвестно, схоронил ли кто водителя, ведь ехал «москвичок» из Тулы, а жена владельца транспортного средства, как машины в сводках называют, в коме, и дети их на волоске капельницы... Расписывать в подробностях, как твоего Адика вынимали из машины спасатели из МЧС с помощью лома, кувалды и, как всегда на Руси, какой– то матери…
– Ты что молчишь, Евгения Павловна?! Я к кому, в конце концов, обращаюсь?
Женька встает. Усилием воли ей удается сгруппироваться. Волна дрожи пробегает по телу, и тело становится как бы окрашенным, в воздухе возникают четкие контуры женской фигуры.
– Простите, что поступила против профессиональной этики, я подвела товарищей, это правда, я приношу всем глубокие извинения… – «Да что мне твои извинения, мне твоя работа нужна!» – улавливает она со стороны кресла главного. – Дело в том – я сейчас попробую связно рассказать, – что в понедельник, придя в пресс– службу, я в сводке нашла сообщение, касающееся лично меня. И достаточно близко. Просто в автокатастрофе, которая вам понравилась как забойный материал, пострадал дорогой мне человек. Ну… очень дорогой и близкий. И я прошу избавить меня от описания этой катастрофы, я не отказывалась ни от одного задания, если помните, даже цветной металл воровать лазила с подростками. Вы еще довольны остались… Но это... я с ума схожу, потому что он в реанимации, от него не отходит мать, и как я смогу описать аварию отстраненно... а родные не дадут согласия на публикацию, это же очевидно! Там еще двое малышей ранены... насколько я поняла, тоже могут не выжить... как и... ой, Боже мой!... – всхлипнула всем существом.
– Публикация может быть и без фамилии, а появиться она должна, потому что у нас такая работа, – а какая у них работа, Женька знает не понаслышке, с кем только ни приходилось беседовать! Да еще и обижалась, когда люди не шли на контакт, скрывали свои фамилии. Тем не менее, главный давит Жене на психику получасовой лекцией о специфике журналистского труда, а мужики, соратники, откровенно томятся и курят. А сама Женька резко ощупает в себе трехдневный голод и усталость. – Иначе, Евгения Павловна, уважаемая, у нас в газете, и не только у нас в газете, репортером работать нельзя!
– Я понимаю, – утомленно говорит Женька. – Я напишу вам все о себе. На это я имею моральное право. Но я не буду писать про Адика, и про ту семью, что так нелепо разрушилась, не буду. Я понимаю, что вы мне сейчас скажете...
– Что скажу?! Если отказываешься работать по нашим правилам, заявление на стол!
– Сию минуту.
Заявление, в котором слова похожи на обрывки колючей проволоки, смотанные в клубок, – рука-то тряслась, не в состоянии нормально охватить ручку, – ложится на стол к главному. И он накладывает peзолюцию «Не возражаю» своим каллиграфическим, выверенным, в укор Женьке, почерком. Неизвестно, о чем думает редактор. Девка сама виновата – заострила конфликт под горячую руку. Женька, стоя в бухгалтерии, ожидая расчет («И две недели можешь не дорабатывать, потому что, как я чувствую, толку от тебя не будет, а мы скорее найдем тебе замену!..») думает не о себе. Об Адике. Несколько радужных бумажек ложатся перед ней на стол, и она машинально их прячет в карман того, что на ней надето, пытаясь вспомнить, где оставила сумку. Выходит из редакции все с той же мыслью. Она еще не оформилась, она зреет, как фурункул, и заранее болят – вот-вот прорвется. Она явно выразится тяжело, обескураживающе.
В последнем зное среднерусского августа Женька вновь расплывается, как призрак себя позавчерашней – уверенной в себе и в будущем, известной в журналистских кругах, красивой и кому– то нужной. У прохожего она просит сигарету и прикурить. Он пялится на нее с малой долей брезгливости, точно уже знает, что эта дура потеряла замечательную работу. Но просимое дает и торопливо уходит, а на поясе у него заливается пейджер. У человека дела.
Женька курит, и нагнетающая сама себя мысль является во всем безобразии: «Может, это моя последняя сигарета! На что покупать– то? С материной пенсии не пошикуешь...»
Оказывается, все это означало лишь одно: «Как я теперь смогу помочь Адику и его родителям?!»
А побочный эффект от озарения (ничего себе озарение! сплошной деготь!) – «Господи, а что еще, кроме журналистики, я умела делать после института? Меня ведь только ей и учили! И я никогда не думала так, как сегодня! Меня все устраивало! Зато была спокойна и за материну старость, и за свою... А теперь я не смогу быть спокойной за Адика. Лучше бы я слукавила в той статье, но его кормила бы витаминами... Люди добрые, что ж я за овца!»
Женька идет в сторону дома. Хотелось бы в больницу, узнать о здоровье Адика. Но ноги не идут. Все, что могла, она отдала ему вчера ночью. Что еще осталось? Кровь перелить? У него другая группа, точно помнится. Жизнь переливать у нас еще не научились. А зря. Женька позволила бы всю ее из себя выкачать. В теле нет ни крепости, ни координации движений – так, видно, ковыляет всадник, только что выбитый из седла.
МИЛОСТИВ НАШ БОГ.
Ибо никакого знака не подал девице, что именно в тот момент, когда рука редактора начертала на заявлении Евгении Мелеховой об увольнении по собственному желанию «Не возражаю», в реанимационном отделении БСМП вскрикнула нечеловеческим голосом пожилая женщина:
– Доктор, скорее! Доктор, что это? Сын, сын!
Кричала она в палате. Из коридора внеслась немолодая уже сестра, глянула на простертое тело, опутанное сетью пластмассовых капилляров, склонилась к лицу парня, попробовала приподнять веко... Тоже охнула, но, конечно, более досадливо, чем испуганно, и выбежала. И понеслось, и зазвучало: «Кирилл Александрыч, идите в реанимацию! Позавчерашнему плохо!» Потом белый халат надвинулся на обезумевшую мать и отвел ее в коридор, и она не знала, что именно делается с Адрианом. Только кто– то неосторожно брякнул пo соседству «Наверно, помрет!» – и мать замерла на месте, которое ей отвели, в странной надежде, что если сейчас она притаит дыхание и не шевельнется, Бог заберет ее жизнь вместо жизни ее первенца. Потом она решила, что надо бы бежать к сыну, но мышцы не желали действовать в принципе. Это женщине вкололи сильное успокоительное, а она и не ощутила укола.
Адриан на своей любимой желтой «шестерке» уверенно ехал все дальше и дальше по удивительно ровному, точно резиновому, упругому и чистому шоссе. Никогда в жизни от вождения машины он не испытывал такой кайф, и было ему одному в машине на редкость хорошо, а все прошлые привязанности мгновенными картинками вставали на экранчике спидометра, потому что на нем не было стрелки и шкалы, а шла трансляция любительского, но весьма приятного фильма «Житие Адриана Властова». Сначала появилась мама, за ней отец, потом воспитательница детского сада, потом Оля, которую так здорово было дергать за косички, потом первый учитель – как ни странно, мужчина, – еще потом первая любовь, приятели по училищу, отцы-командиры, жена, дочка, командир полка... А кто это была, такая лилововолосая, с обалденными глазами, Адриан вспомнить не смог, но подумал, что с ней можно было бы завести классный роман, хотя ехать по этой вот дороге гораздо лучше…
Из– за горизонта выбился, ширясь с каждым мигом, нежный свет. Залил все небо.
– Прелесть– то какая! – восхитился Адриан, а машина меж тем прибавила скорость – сияние будто тянуло ее в себя. «Ну ничего, – решил офицер – сейчас уже доеду».
* * *
Сухой мороз начала зимы, пронизывающий ветер, голый, выметенный и выстуженный больничный двор, а в нем бессочным палым листом мечется женщина. Месяца два назад ее следовало бы назвать красивой. Cейчас – просто страждущей. Ее лицо истончилось так, что вместо анфаса осталось два склеенных непреходящими слезами профиля.
Уже три месяца Женька не работает. Никуда не устраивается, чтобы иметь свободное время. Ночами подрабатывает – пишет сочинения и контрольные дня бестолковых студентов, у кого денег много. Днями обычно стоит во дворе больницы. Изредка поднимается в реанимацию, а с некоторых пор в коридор с общими палатами, встречается с матерью Адриана и покорно уходит, когда женщина просит ее об этом. Мать устала, вся почернела, но покинуть больницу не в состоянии, ей кажется – чуть она за порог, и повторится криз, который был в августе, вскоре после госпитализации. Еле-еле поймали ускользающую в небытие душу Адриана, камфару впрыснули прямо в сердце, и он вернулся к людям. Впрочем, вернулся ли? Нарушения мозговой деятельности и функций внутренних органов на долгие годы офицеру обеспечены. Офицером его можно называть только по инерции. Он будет комиссован, лишь только покинет койку. Поэтому, полагает мать, Адриан не торопится выздоравливать – не хочет калекой явиться в мир, который помнит его здоровым, полним сил, нужным армии.
Подружка Адриана вызывает у его матери раздражение: шляется в обитель боли, как домой, ничем полезным не занимается, работу бросила. Зачем она сыну?..
Но приходит зима, и все меняется, точно в калейдоскопе. Для Женьки начинается сказка. Адриан идет на поправку. Его навещают друзья-однополчане. Железное здоровье не подвело: прооперированный несколько раз, лишенный части внутренностей («Эк меня выпотрошили-то, а, мам, как курицу в хорошем магазине!»), он все понимает, все осознает, жалеет армейскую службу, но философски рассуждает: главное, живой, а мог бы и кони двинуть... Живы будем – не помрем, работу себе найдем, авось, пенсию положат... Однажды ночью ему снится женщина с лиловыми локонами вдоль бледного лица, с сигаретой в зубах, со взглядом, в котором он один, Адик, золотко, и поутру мужик, слегка конфузясь, спрашивает у матери, не приходил ли кто из женщин навещать. Догадавшись, о ком речь, мать тем не менее отвечает, что приезжала бывшая жена, хотела поухаживать за больным, намекала на возможность воссоединения, но эту возможность Адриан придавливает тяжелым: «Пошла она вон, шлюха!» А коли так, то да, ходит тут одна, как на работу...
Вот так и сложилось, что Женька уже в коридоре, где от зимнего пейзажа за окнами неуютно, очень зябко – плохо топят. Вот неровно крашеная дверь в палату. Тук– тук.
– Можно?
Господи, это он? Как же высох, наказание мое, золотко!
Господи, это она? Сама точно из реанимации сбежала, дуреха, разве можно так себя изводить...
На тумбочке – свежий номер «Газеты для людей», в коей Женька с августа не работает. Первый вопрос:
– Давно не вижу твоих статей. Как это понять?
– А– а– а… я в «Утренний курьер» перешла, там лучше. А что, принести номерок почитать?
– Не надо. Кому– то, может, газеты и интересны... – коронная фраза того Адика.
– Есть претензии и возражения по поводу газетной работы?
– Есть. Курить надо меньше, а есть больше. Тебя в профиль уже не видно. Я за тебя возьмусь...
– Сильными руками...
– Вот выпишут, а там посмотрим, сильными руками, или за трудовую дисциплину, шлифовать твой талант и работоспособность.
– Офицер, который умеет правильно произнести слово «работоспособность» – это редкость.
Судя по диалогу, ничего между этими двумя не изменилось с той первой поездки на машине.
– Ну что? – внезапно справляется Адриан, слегка насмешливо блестя глазами.
– Что? По роду деятельности мне положено знать, что на Новый год тебя обещали отпустить погулять – в общечеловеческом, разумеется, а не в офицерском понимании этого слова, так что крепись, будь пай– мальчиком, осталось чуть– чуть...
– Я не про то. Ну что, невеста?
Да, она была невестой – юной, одуревшей от счастья, бегущей в белоснежной фате по белому снегу. Что мороз, что его осколки в легких свадебных туфельках?! На сердце – жарко, на сердце – долгожданное признание.
А может быть…
…Еле плелась, притиснутая к земле непомерной тяжестью.
Сухой мороз начала зимы, пронизывающий ветер, голый, выметенный и выстуженный пустырь, посреди него – ворота со сквозными, похожими на уродливую паутину створками. За пустырем кладбище. Перед воротами, съежившись, засунув руки в рукава, упрятав голову под капюшон куртки, виляет туда– сюда Женька. Неуютно, холодно, ветер так и режет, ничего за слезами не видно. А так надо понять, есть кто– то на краю со свежими холмиками, где еще памятники не успели поставить, или она появилась своевременно. После августовской встречи с матерью Адика на пороге реанимации, не хватит духу увидеть ее на кладбище.
То– то мерзко было узнать на другой день в больнице, что Властова отвезли в морг и доступа к телу для посторонней нет! Стояла перед реаниматором прямая, несгибаемая. Он, не пытаясь деликатничать, выдал: отказало вчера сердце у твоего Властова, и немудрено это. Ничего не сказала Женька, только перед глазами, по белому фону халата, черная молния прозмеилась и ушла в пол. Потом провал в памяти. Нет, не в больнице она сознание потеряла, на улице. Свалилась на обочине мостовой. Чуть в мыльник не отвезли...
Hе знает Женька дату похорон. Но на сороковой день они ей в горячечном сне привиделись до мельчайших деталей, до блеска прохладных лучей на ясных пуговицах командира полка. Во сне Женька поняла, Адик был похож на своего отца – тот до старости дожил красавцем. С сестрой любимого познакомилась, тa миловидная, но простенькая, в мать. От матери сохранилась черная самодвижущаяся одежда. Внутри траура не было человека. Скорее всего, мать умерла вместе с сыном. Но никто об этом не догадался, и позволят успокоиться ей через много никчемных лет. Женька следила – на дочь женщина внимания вовсе не обращала. Конечно, она жива, а вот сын...
Ах ты, тварь! – на похороны прискакала? Ребенка привезла? Дочь – одно лицо с Адиком, глаза не детские. Смела еще плакать, грациозно смахивать слезинки пальчиком, а маникюр стереть забыла. Как обидно, Господи, что первую Адикову жену тоже звали Евгенией!
Мистика? Вряд ли. Скорее, просто любовь.
Проснулась. Подушка сухая. Не будет больше слез. Будет безработица и голод, все газеты города уже в курсе Женькиной глупости. Никто даже внештатником не приглашает. Очень уж она удивила отказом писать о чьей– то беде, чтоб забойно было.
Снега почему– то нет, а уж декабрь. И зовет кто– то с кладбища, тоскует. Так и слышится: «Я перед тобой виноват, не ушел бы тогда, не улетел бы я теперь...» Женька надевает теплую старую куртку! «Иду, хороший мой...» Два слоя мыслей: непрекращающийся разговор с Адиком и боязнь – я, наверное, с ума схожу.
Сегодня на кладбище опять нет его родителей. Сиротливо жмется к холмику бумажный венок – ему будто бы холодно. А как холодно там, в глине!.. Гораздо хуже, чем пока eще живой Женьке на ветру.
– Подайте, Христа ради! – гнусит бомж, прописавший сам себя на кладбище.
– Самой бы кто подал, – медленно отвечает Женька.
Милостыня… От кого, зачем? Если сама – мелкой монеткой, зажатой в грязных пальцах действительности, монеткой, которой никого не обрадовать, на которую ничего не купить…
2000 – 2001 гг.