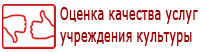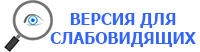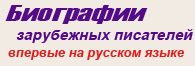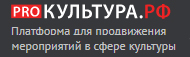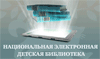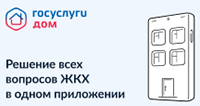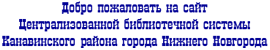
Ответить на комментарий
Пистолет
 Молодость, революция, горе, счастье, Россия.
Молодость, революция, горе, счастье, Россия.
Нынешний день России — глазами ее молодых.
Потерянное поколение?
Или те, кто делает вызов времени, власти, судьбе?
Кузя и Бес. Культпросвет и Белый. Их друзья и их враги.
Откуда они пришли? Куда идут?
На асфальте окурки. Огонь в глазах. Пистолет в кармане.
Пистолетными пулями сшита то черная, то золотая ткань жизни.
А у дверей старой мастерской — мачеха Беса, что шепчет горько: ну когда вы наиграетесь в вашу страшную игру, взрослые мальчики...
Елена КРЮКОВА
ПИСТОЛЕТ
РОМАН В РАССКАЗАХ
все совпадения имен и событий случайны
КЭТ
Меня зовут Кэт. Я тут квартиру снимаю. Ее смешно назвать квартирой, конечно. Так, халупа. Полуподвал. Три комнаты, а крошечные, как спичечные коробки. Я вообще-то курю, можно, я закурю?
Спасибо.
Я люблю вдыхать дым и на него смотреть. Как он разводами над головой ползает.
Тут хозяйка – бабка одна, ее родня увезла в деревню. Она там живет, а я родне деньги плачу. Деньги небольшие. Хорошо я договорилась.
Старый комп у меня, да? Смешной? Мне хватает. Мальчишки когда курят, паразиты – в монитор, в дырки, пепел стряхивают. Дураки.
Мои пацаны! Я их о-о-о-очень люблю, о-о-о-очень... Вы не думайте, я с ними не трахаюсь. Хотя кокетничаю! Ну какая же женщина...
Брысь, Ларсик! Кот какой, идиот, со стола кусок упер!
Почему – Ларсик? А, это! Ларс фон Триер – так кота зовут. Обалденный кот, правда? Я рада, что вам нравится. Роскошный котик! Глядите, какая мордочка! И гладить можно, где угодно, и не укусит. Смотрите, повалили его набок, и живот ему, паразиту, чешут, и лапки сексуально так раскинул, у, сволочь! Красотуля.
У, дым летит ему в нос! Не любит. Ну, иди! Иди вон, Ларс! Вали в форточку! Бр-р-р-рысь! Открыта.
Смотрю на себя в зеркало – сигарета в зубах мне идет. Я бы могла запросто в фильмеце клевом сняться! Вы не находите? Да нет, не в сериале сраном! Именно – в фильмеце классном, об этом речь и идет.
Вы думаете – поздно мне?
Вы на что намекаете?
На то, что я... типа – в возрасте?
А плевала я. Мои мальчики моего возраста не замечают. Они мне так и говорят: Кэт, ты клевая чувиха! Ты – наша!
А этого, между прочим, добиться надо, если тебе говорят: «ты – наша».
Потому что люди все друг другу – чужие.
Все! Всегда! Везде! В любой стране!
Стойте. В окно стучат!
Кто там?!
А, это вы! Мои родные! Суслики! Приве-е-ет!
Привет, Зубр! Ты вроде бы еще порыжел. Ба, да ты не один!
Глядите-ка, все за батареей в подъезде прячутся! В прятки со мной играют! Хотят Кэт обмануть, мол, мало их! А они – вон, все привалили!
Давай, валяй, Бес, ну что ты встал! Долго же ты за сигаретами шлялся! И всех их, заметь, все-е-е-ех! – подцепил! И сюда приволок!
Ну, ты тут, у меня под крылом... это понятно. И Культпросвет – тоже свой. А эти, эти-то откуда взялись? Ах, вы договорили-и-ись?! Чтобы, значит, Кэт сюрприз устроить?! И что, вот так, как снег на голову?!
А, вы захватили с собой!
Да ну, так много! Зачем так много! Мы упьемся.
Садитесь, садитесь! Сейчас картошечки... Быстро! В одну секунду!
Бес, сыграй пока новое. Знаете, пацаны, у Беса, кроме шуток, такие песни новые классные! Давай, вот. Если текст наизусть не помнишь – вот тебе бумажка, это ведь ты стишки накарябал?!.. Мне нравится, как тут у тебя: «в грязи, в пыли – беженец с Земли... А-а-а-а!»
Вот «а-а-а-а!» особенно нравится...
Ты!.. не замахивайся. Я сама тебя ударю, если надо! Но мне сейчас не надо.
Ну да, я поняла, ты в шутку...
Тише! Слушайте! Поет...
А я сейчас картошечку... струг-струг, шелуха из-под ножа, летит, как наша жизнь просто... И так же – в мусорку – швырк! А потом сожгут. Или – на свалку. И под небом будем гнить.
Под небом га-алубым... есть город за-а-алатой...
Старая песня. Может, она уже умерла. Бес, свою пой!
Нет, тихо... «Беженец с Земли» – песня называется...
И мы все тоже, мы все, понимаете, все, мы – беженцы – с Земли... Мы все когда-нибудь повесимся. Или застрелимся. Или нас в драке убьют. Или – в тюрьме расстреляют. Но мы никогда, никогда не доживем до старости. Мы – умрем молодыми. Дураки, что вы морщитесь?! Ну, еще заплачьте давайте! Ведь это так здорово – умереть молодыми! Не дожить до морщин поганых! До пуканья на всю Европу! До седых волосенок! До шарканья ножками гнутыми! До полного маразма! Вы ведь не хотите дожить до маразма? Ну вот и я тоже не хочу.
Я, Кэт! Думаете – кликуха? Нет! Меня мама так называла! Еще в розовом детстве.
Стоп, дайте затянусь. И помолчим немного давайте.
А теперь снова картошечку чистить. Эй, кто со мной? Кузя, давай бери нож! Лентяй! Не лентяй? Тогда валяй! Вперед!
Белый, вон грибы! На ниточках висят, над плитой! Воду в кастрюлю налей, в воде размочи.
Блин, как хорошо! Паук, открой пивка! У меня руки грязные, в картошке, ты мне горлышко поднеси, я из рук твоих выпью... вот так! Уф. Спасибо. Освежил. Пиво без водки – деньги на ветер.
Ух ты! Гришка! Гляди-ка, что принес! Селедка! Вру, скумбрия. Скумбрия, да? Блестит, как нефть на асфальте, разноцветно.
Культпросвет, «Черный дождь» поставь! Эту... мою любимую. «Зверь ответил мне молчаньем...»
А мы все, люди, кто мы? Разве – не звери?
Зверь – это каждый из нас. Это – в нас.
Что толку, что мы все говорим словами, языком балакаем.
Сигарета... Бес, дай баночку!.. тьфу!.. Гришка, вытащи, будь другом, и огонька дай. Сигарету – в рот мне всунь... бла-го-да-рю... и огня... я сама прикурю... м-м-м-м!.. вкусно. Вкусней, чем грибной суп!
Что, Бесенок, так глядишь? Думаешь, Кэт наркоманка?! До наркоманки мне далеко. Я вот пьянею от песен твоих! Давай, давай, не прекращай, играй! «Холодная война, и время как вода...» Что ты, это же не твое! Это «Би-Два». Ты свое давай!
Все! Почистила. Белый, вода уже кипит? Отлично! Луковицу дай! Вон, под табуретом, в мешке!
Когда лук крошу – все время плачу... плачу и плачу... и остановиться не могу...
Меня любовник бросил. Он старше меня на тридцать лет был. Или даже больше, на сорок. Короче, старик. Но классный дядька. Такого папика поискать. И вот я, типа, не могла это пережить. Хотела покончить с собой. Ну, слабачка. Ебарь бросил – это же не повод, чтобы ручонки на себя наложить. А я вот захотела. И – пошла топиться.
Прихожу на мост. На мост через Оку. Высокий, между прочим, мост. Сорок метров вниз лететь. Серая такая вода, стальная, блестит, как железо, и день серый. И на душе у меня дико, жутко. Вообще все херово. Подошла близко к перилам. Машины мимо несутся! Трамваи гремят! А я ногами на железяке какой-то, с заклепками, стою, и мост подо мной трясется. Сейчас, думаю, ка-ак сигану! И вниз гляжу. И голова закружилась. И...
И...
Погодите, затянусь...
И подо мной мост поплыл, как лодка! А вроде на попятный – стыдно. Самой себя стыдно. И жалко. И все в башке плывет к черту. Думаю: надо быстрее. Перевалилась животом через перила. Уже ногу перебросила. Уже – задница перетягивала, чувствую, сейчас начну падать, вот... А руки-то, руки – железо холодное – хватают... Пальцы как крючья сделались, как когти...
И вдруг меня – сзади – кто-то – р-р-раз! – и на себя! И тянет!
И так матерится, так!.. я в жизни никогда не слышала, чтобы кто-то так матерился, ну никогда, никогда...
И орет: ну ты, девка, ты!.. Дрянь, сволочь, гадина, ну и еще по-всякому, что я тут буду перед вами материться, что ли?.. короче, оглушил меня совсем! И плюхнул на железяки эти клепаные! Животом! Я так ударилась! Думала – он мне все потроха отбил.
Лежу без движения. Он меня перевернул – животом вверх.
Лежу, как мяса кусок!
Он мне орет: ты, блядь, где живешь?! Я тебя домой отвезу! Ну! Говори!
Ну я ему и говорю: на Гребешке.
Слышу: тачку тормознул. Шоферу что-то злое бормочет. Потом ко мне шагнул. Меня под мышки взял, и под коленки. Я-то не такая уж легкая. Кость у меня широкая. А он меня поднял, как делать нечего.
Лежу на руках – у мужика? Какое там! У парня! Пацана!
Гляжу ему в лицо – лет шестнадцать ему, что ли.
И мысли скачут: ну вот, то переросток, то недоросток. То старик, то молокосос.
И он мне в рожу глядит. И улыбнулся вдруг. Так тепло. Только что матерился гадко, а тут – улыбка... такая...
Гляжу: раскосый. Татарин, что ли? Или казах? В общем, чучмек какой-то. Из смерти, короче, за шкирку, как кошку, меня выволок.
В тачку кинул, на заднее сиденье, как мешок. Сам к водиле сел. «На Гребешок! – говорит. – Живей, худо ей!»
Водила поехал.
Слышу, бросил пацану моему: «Че это она у тебя, до усеру напивается? На ногах не стоит? И часто ты так ее возишь? Да набей ты ей морду один раз хорошенько!» – и все в таком роде.
И пацан, слышу, водиле отвечает: да, типа, надо бы, конечно, поколотить ее хорошенько, чтобы неповадно было! Бабы, они кулак понимают... ну, прямо валит про меня внаглую, будто я его девка и напилась в дымину.
Едут так. Болтают. Сперва про меня. Потом про что-то свое. Я уже не слушаю.
Перевариваю, как это я жива осталась.
И запоздалый страх такой взял. Забрал. Дрожь по мне пошла. Заколыхала всю.
Я там, на сиденье заднем, лежу и говорю: эй, ты, дай закурить.
И он, нахал такой, оборачивается ко мне, сигарету из пачки выбивает, мне протягивает, и зажигалку мне бросает, и я ее ловко так ловлю, – и слышу, он водиле цедит сквозь зубы: представляешь, достала баба, смолит и смолит целый день, у меня все легкие уже прочернели, я сам столько не курю, сколько она.
И я кручу колесико зажигалки, кручу, кручу, – а огня все нет, все нет и нет. И сигарету в зубах держу, и смеюсь беззвучно, колыхаюсь вся, как студень.
И р-р-р-раз! – как брошу ему в затылок зажигалку! Да как заору: ты, сучонок! Не можешь никогда мне зажигалку новую купить! Купи сегодня целый мешок! Чтобы я – так – не мучилась!
И он захохотал, как заполошный, и кричит через смех, просто икая от смеха: куплю! Куплю! Куплю, еп твою мать!
А водила крутит головой, тоже хохочет: весело вы живете, ребята, ой, весело!
Так, со смехом, и доехали.
А когда мы добрели до двери, и я ключом в замке ковырялась, и в квартиру входили, – он за мной шел, как теленок за коровой, и молчал, не взмукнул даже.
Встали мы друг против друга в комнате. Лысые лампочки с потолка свисают. Сырые потеки по стенам. Табаком воняет. Мои шмотки по стульям валяются. На старом шкафу – старый утюг, в который еще наши бабушки угли горячие насыпали, чтоб гладить. Старый самовар на подоконнике: его еще щепками растапливали, – не электрический. Короче, бабушкины сказки. И в пепельнице – окурки мои. Полна пепельница напихана.
И он молчит. И я молчу.
И мы оба молчим.
«Ну, я пойду», – говорит он.
И уже шагает – уйти.
И я его за руку останавливаю.
А рука такая горячая. Как огонь.
Мальчонка, пацан такой еще...
«Куда! – кричу. – Куда ты пойдешь! Прямо, разбежался!»
И реву уже, и слезы ладонью размазываю.
Он оборачивается, слезы мне начинает сам ладонями вытирать. Горячими такими ладонями, детскими еще. Глаза раскосые блестят.
«Ну что ты, – шепчет смущенно, – ну нет, я не уйду... Давай чаю попьем? У тебя есть чай?»
Смирный стал вмиг. Присмирел.
Пачку сигарет из кармана куртки на стол выложил. Озирался.
Плита у меня газовая – двухконфорочная, дачная. Я ее резиновым шлангом сама к трубе подсоединила. Плиту художник один подарил. Милости ради. Я ему позировала. Голая лежала на топчане. В его мастерской, в Доме художника. Мерзла. Не стыдилась голяком, нет, ну ничуть! Ни капли! Как-то в мозгах никакой похоти и не было. Ни в мозгах, ни в брюхе! Не свербило, ха, ха! Но колотун у него в ателье, это да. Он после сеанса меня шобоном старым укрывал. И кофе мне горячий… ха-а-а, кофе в постель!.. Он за героизм мне плиту и подарил. Потому что узнал, что я на электроплитке готовлю. Чтобы мне за электроэнергию вообще не платить. А хозяйка не узнает, что тут у меня газ. У нее-то отключен он был.
Разве с хутора своего она когда сюда прикатит? Да никогда больше. Так и помрет там, на хуторе. А родне ее все по барабану.
Я газ зажгла. Он глядел, как я воду в чайник набираю. Потом выдохнул: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Кэт». А он говорит: «А меня – Бес».
Вот так и познакомились.
Гришка! Возьми ложку! Попробуй суп! Ну как, грибочки размягчились уже? Разварились? Или еще нет?
Эх, чуваки... Грибной суп – это ж... это ж... это же ресторанная еда! Одна тарелка такого супа – в «Колизее» – или в «Золотой вилке» – знаете, сколько бабок стоит? Не знаете! То-то. Ну и не знайте!
Ну что... Мы чаю попили. С жесткими пряниками. У меня больше ничего пожрать не было.
Пока чай пили – молчали. А я думала, разговоримся.
Ему как рот варежкой заткнули.
Чашки пустые. Руки на коленях. Молчание звенит в ушах... как музыка.
И тут он мне говорит: эй, Кэт, а у тебя гитара – есть?
Есть, говорю, на твое счастье! Старушка такая, гитара эта. Небось, тридцатых еще годов, времен юности хозяйки. Ей под гриф щепки, карандаши засовывали, чтобы она строй держала, струны не спускали. Нахожу гитарку в углу, за ящиками и разломанными тумбочками. Беру, ему протягиваю.
И он начинает играть... И петь.
И тут меня прошибает. Я слушаю – и реву! Слушаю – и смеюсь!
«Да ты, – кричу, – ты же музыкант настоящий, Бес! Тебе же... на сцену – надо!»
Он замолкает на минуту. И опять начинает. Новую песню. И я понимаю: это он свое поет, собственное. Композитор, значит.
Ну вот. Попел. Гитару на пол положил. Она лежит... как женщина. Пацан сидит. Опять молчит. Будто петь умеет, а говорить – нет.
Сейчас, думаю, встанет, ко мне шагнет... лапать будет...
Встал. И шагнул – от меня. К двери.
Я не останавливала уже. Иди, кролик, иди. Беги...
Перед самой дверью оглянулся. Глаза такие... как мальки в реке, играют.
Говорит: а можно, я к тебе приходить буду?
Вот так все это и началось. Сначала Бес приходил. Играл, пел, курил... Спал, пьяный. Проспится – что-то пишет на клочках бумаги, в карманы прячет. Иногда бумагу по полу разбросает, я подбираю, складываю. Еду ему сготовлю, покормлю. Надо же спасителя своего кормить иногда, ха, ха.
Потом стал с дружком своим приходить. С Культпросветом. Ну, это кликуха такая. По-нормальному его зовут Илюшка.
Они мне компьютер приволокли. Старый. Может, даже с помойки. Экран пылает, буковки прыгают! Живем! Как белые люди!
Я им еду готовлю. Они иногда сами жратву приносят. Короче – коммуна.
Настал день такой... Я им говорю: что вы туда-сюда мотаетесь, оставайтесь, типа, ночевать! Жить, что ли, переспрашивают? И ржут, будто я что смешное сказала. «Да, жить!» – зло ору.
«А разве мы не живем?!» – как кони, ржут они.
Бесу отнюдь не шестнадцать оказалось. Это он просто так молодо выглядит. Юно слишком. Худенький, стройненький очень. А так ему – двадцать один. А Культпросвету – двадцать два. На год старше.
Меня они не пытали никогда, сколько мне лет и на сколько я их старше. Старше, младше! Херня все это. Главное – человек живой или мертвый. Вот это – главное.
А потом пришел Гришка. А потом появился Паук. А потом, однажды ночью, с улицы принесли Белого. Всего избитого. А потом появился Кузя, в черном костюме, с тросточкой, как Черчилль какой-то. Хромал. Ножка забинтована. Вывихнул, в гипсе была. Как ножка поправилась – вместо костюма – в камуфляже пришел. Я гляжу: ну ничего бицепсы у парня, если надо, хорошо задвинет. А так – ну просто маменькин сынок, английский лорд.
Что они делали все вместе, мои пацаны?
А ничего. Жили. Дружили. Курили. Пили.
Пели. Сочиняли. Влюблялись. Бросали.
Они были молодые, да. Молодые.
Сколько они еще пробудут молодые? Я что, предсказываю будущее, что ли?
Ну, как наш супчик? О-о! Как пахнет! Ресторан «Прага» просто отдыхает!
Кузенька, открой, пожалуйста, водочку. И налей мне ма-аленькую, ма-аленькую рюмочку. И знаешь – в холодильнике лежит старый, ма-аленький, завалященький... огурчик. Ты его – на тарелочку, да и порежь. И посоли, посоли, не забудь!
А я – рюмки достану. Расставлю.
Паук, скумбрию порезал? Ты, хирург долбаный...
Ну что, пацаны? Мы больше никого не ждем?!
Тарелки... бац-бац-бац! Все на столе! Разлива-а-а-ай!
Ржаной хлебец, ноздреватый... Это я в «Спаре» купила...
Ну что, за что пьем? За меня-а-а-а?! Да ну вас в жопу, пацаны!
При чем тут я? При чем тут...
Что, уже выпили? Без меня? Ах вы...
...а-а-а-ах... Х-ха-а-а-а...
...отлично. Отличная водка.
...водка бывает или хорошей, или очень хорошей. Плохой не бывает.
...и что? Что? Что вы думаете про жизнь?
...я думаю про нее, что она – о-о-очень, о-о-очень ма-аленькая...
...потому что Бес однажды принес мне справку. Из больницы.
И там у него черным по белому написано было: гепатит.
А что это за хрень такая, гепатит, я его спрашиваю.
А он мне говорит: если я буду вести неправильный образ жизни, я скоро загнусь. И снова ржет, как конь. И зубы, гляди-ка, как лошадиные! Белые и длинные!
Я понимаю, сказала я, ты только его и ведешь, этот самый образ. А если бросить пить? И курить?
Нет, это невозможно, говорит он. Невозможно! Не смогу! Очень, говорит, я все это люблю. И вообще – жить люблю. А что за жизнь без удовольствий? Жизнь и так короткая. В ней надо все время наслаждаться. А иначе и жить незачем.
Хорошо, говорю я ему, будем наслаждаться! Будем пить, гулять, влюбляться!
И гляжу на него. И у меня вдруг так горячо внутри стало. Будто кто меня изнутри кипятком облил.
А он – покраснел. «Влюбляться, – шепчет, – влюбляться... У меня, – говорит, – Кэт, девушка есть... Она – моя будущая жена...»
Хорошо, говорю, что ты так в этом уверен. А у самой слезы в глазах. И вот-вот вытекут. И потекут по щекам.
Дура, говорю себе, дура, дура, дура... Он же пацан, пацан, пацан...
И он как шагнет ко мне. Как обнимет меня.
И над затылком своим слышу его голос, глухой, будто он в подушку говорит: я знаю, знаю, Кэт, что ты меня...
И целует меня в затылок. Я же ниже его ростом. В шею целует. Так смешно, сверху и сзади. А я стою, как кенгуру, лапки к животу прижала.
Больно, смешно, грустно, обжигающе. Ничего не сделаешь.
И я, дура, дура, дура, я взяла – да обняла его.
А что мне еще оставалось делать?
И он опять меня на руки схватил. Как тогда, на мосту.
Как мы оказались на диване – не помню.
Помню, как я расстегнула его рубашку и губами ощупывала его худенькое, смуглое тело. А он хохотал беззвучно. И гладил меня по щекам, по волосам. А потом губы мои нашел. И присосался.
Мы уже голые были, и он уже был во мне, и я обнимала его ногами, когда в замке затрещал ключ.
Я вся холодным потом покрылась. Думала: блин, хозяйка!
И потом догадалась: нет. Я ж у моего старика ключ от своей хаты так и не забрала.
И точно, старикан мой входит.
И видит нас – голых – слились – друг в друга стучимся – рвемся друг в друга – на диване с продавленными пружинами; и пружины стонут, а Бес не видит ничего, не слышит, как оглох, стучит в меня молотом, не останавливается.
Старик встал, как вкопанный. Бес во мне, лежит к нему затылком, не видит. Двигается. Целует меня за ухом. Целует мне подбородок задранный.
Я гляжу на старикана.
Он смотрит.
Бес извивается на мне. Я его ногами нагло охватываю, крепко.
Гляжу – глаза в глаза – на старикана.
Глазами кричу: ты, сволочь сраная! Ты бросил меня! У тебя семья! У тебя дворец, весь в золоте и фарфоре и лепнине! У тебя дочки-сыновья в Гарвардах! Собачек золочеными расческами бонны чешут! А у меня – вот грязный подвал на Гребешке! Но я счастливей тебя! Я! Свободна! Я! Свободна! Я...
И я кричу Бесу в ухо: «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю...»
Старикан не уходит, смотрит.
И тут Бес спиной голой что-то чует. И поворачивает голову. И вывернутым из-под моего локтя лицом – смотрит – и видит.
И плюет на пол. И выдирает себя из меня. Его тело, мне тогда показалось, дымится. Красный весь. Шагает к старикану. Еще. Еще. И еще шаг. Быстро наклоняется к куртке – он ее на пол сбросил – и мгновенно, я не успела заметить, как, выхватывает из кармана нож.
Блядь! Нож!
«Нет! Бес! Не-е-ет!» – кричу я. Но мне кажется, это кричу не я. А кто-то другой.
Бес, с ножом в кулаке, делает шаг к старикану.
«Вали отсюда, – говорит. – Ты ее бросил. Она из-за тебя топиться хотела. А она ведь молодая. И ей надо жить. А ты, ты! Ключ! Живо!»
И старикан мой так послушно, как телок, головой мотая, отдает ему ключ.
А отдал – замахнулся, чтобы ударить.
Бес не опустил голову. Как стоял, так и стоял.
Кулак старикана застыл в воздухе.
Я голая лежу. Как каменная. На спине. Гляжу на них снизу вверх.
И слышу голос старика, тяжелый, как гиря чугунная: «Пацан. Щенок. Я ее тоже люблю, эту... соску. Но подобное притягивается к подобному. Живите. Бог с вами. Я скоро умру. Я, может, хотел только на нее посмотреть. В последний раз».
И я только услышала, как хлопнула дверь.
Как выстрел.
И голый Бес подошел, сел рядом со мной на диван, нашел сигареты под подушкой и закурил. И мне сигарету дал. Так мы смолили: я – лежа, он – сидя.
А потом у меня стала болеть и кружиться голова.
Болеть и кружиться. Болеть и кружиться.
И я в больницу пошла. Своими ногами.
И меня положили. И я лежала, и меня кололи везде и всюду, и просвечивали, и всякая такая хрень. И потом пришел в палату, на обход, врач, и долго-долго передо мной на стуле сидел, экал, бекал, мекал, все никак не мог сказать. Потом разжал губенки и выдал мне: у вас, говорит, это... ну, в общем, в головенке... не все в порядке. Но у вас еще есть шанс.
Так и сказал: еще есть шанс.
Еще есть, о, блядь, здорово, сказала я громко, на всю палату.
И моя соседка, седая бабулька Люська, заворчала: ну что ж это, сладу нету, вот молодые, все матерятся и матерятся! Будто языка другого нет!
Я ушла из больницы тоже своими ногами.
И, видите, до сих пор хожу.
Я не перестала курить. Не перестала пить. И готовить вкусную еду, и жрать ее не перестала. И с мальчиками спать – тоже не перестала! Но не со своими пацанами. Мои пацаны – это святое. Это вроде как мои дети. Они живут у меня. Пьют. Поют. Копошатся, как мухи в кулаке. Как божьи коровки в спичечной коробке. «Кэт, – кричат мне ни, – Кэт! Солнышко наше! Самоварчик наш золотой! Кошечка наша, мохнатка! Мы так любим тебя!»
Я сплю с разными другими мужиками. И когда захочу. Не когда они захотят.
Потому что я знаю: я скоро умру.
И лучше жизни в жизни нет ничего, это я вам точно говорю.
А когда Бес привел ко мне свою Тонкую – так он звал ее, нежно, – опять у меня голова закружилась, будто я ландышей нанюхалась. Тонкая смотрела на меня тревожно, подозрительно. А я улыбнулась ей широко, во все зубы. Чтобы она меня больше никогда, никогда не боялась.
Придет время, и она родит Бесу ребенка. А я уже не рожу.
Я уже никого, никогда не рожу.
Голова, не кружись. Что ты все кружишься?
Наша Земля тоже кружится... и мы все – беженцы с Земли...
Куда мы убежали? Зачем? От кого?
Может, от самих себя?
А как это – умирать? Как прыгать с моста в холодную воду, что ли?
Ешьте, ребятки, что ж вы как слабо жрете грибочки! Со сметанкой, со сметанкой наворачивайте... Давайте, я вам сама сметанки положу! Ваша Кэт правда здорово стряпает?! Ну вот... Паук! Наливай! Накатим... Огурчик быстро закончился, а другого, жалко, нет. Ну что, ваше!.. драгоценное здоровье... Пацанчики мои... О-о-о-ох!.. у-у-у-ух... Под не-бом га-алубым... есть город за-алатой... с прозра-а-ачными ва-ротами... и яр-ко-ю звез-дой...
КУЗЯ
Я один с мамой живу. Отец нас бросил давно. Мама моя кем только ни работала. Все хватала, что плохо лежит. Ну, не в смысле там воровала, ха! Работы хватала. Выше крыши набирала. Чужие рукописи перепечатывать. Мыть какие-то окна, полы какие-то, черт знает где, то в супермаркетах, то в фирмах каких-то. Чем-то торговала. Я знал, чем. Сапогами, валенками с машин. Это такие фуры приходили, фургоны, перекупщики всякие орудовали. Мать как продавщицу припахали. Ну она и пахала. На морозе торговала. Курить там, на машинах, научилась; пить. Я очень переживал. Кричал ей: мать, ну что ты с собой делаешь! Она сидела с бутылкой в обнимку. Смеялась: яйца курицу не учат!..
Курица, яйцо. Очень смешно. Наконец эта эпопея с сапогами-валенками закончилась. Я рос тем временем. Рос, и кое-что соображать начал. Почему мы все так живем. Ну, не все, конечно! Но многие. Почему мы живем, как быдло. У матери спрашиваю однажды: быдло, это что такое? Она сначала думала. Лоб наморщила. Она у меня, между прочим, начитанная, не хухры-мухры. Потом говорит: быдло, это, сынок, животное, наверно, корова. Или там бык. С «бы» начинается. И хохотать! И я хохочу, смешно же.
Яйца, куры, коровы. У нас в холодильнике не всегда яйца и мясо лежали. Чаще там лежала такая дешевая рыбка маленькая, ну, для кошек такую старухи покупают. Не знаю, мойва там… или килька. Один хрен. Мать с ней нам кашу варила. Овсяную или гречневую. Лук жарила; кашу варила; рыбу поджаривала, и все это дело перемешивала. Так долго можно было продержаться, на таком горячем блюде, особенно если еще хлеб есть, еще и молоко есть, еще и чай и сахар, а мать еще кофе любила и меня к нему пристрастила.
Нет, честно, держались мы. Я в школе еще учился, а подумал: я уже взрослый, пойду-ка я работать! И пошел. Ради смеха меня на стройку взяли, кирпичи рабочим подносить. Один кирпич – двадцать копеек. По тем временам это было очень даже ничего. Принес я домой заработанные рубли. Маманя расплакалась. Говорит сквозь слезы: ты у меня не насилуй себя, сыночек! Я сама справлюсь с нашей денежкой! И слезы в три ручья текут.
И я спросил ее тогда: мама, а что такое «не насилуй»?
Ну, вот дурак-то был.
Время-то течет, годики бегут! Я на себя в зеркало гляжу: ого, какой я рослый стал! Вымахал! Мама у меня маленькая, крохотная, как птичка, а я – мужичище ого-го! Косая сажень в плечах! И толстый, во, блин, толстеть начал! В зеркале себя видеть не могу! С чего бы это, а, думаю? Вроде бы и не с чего! С макарон, что ли? И перестал есть макароны. И кашу мамину тоже жрать перестал.
Спрашиваю однажды: мам, это в кого я такой грозный? В отца, да? Она вся посмурнела. К окну отвернулась. И долго так сидела. Потом говорит: я очень любила твоего отца, Слава. И плачет. А я спросил: а мне нельзя его увидеть? Только не говори, что он умер! И не говори, что он летчиком был и разбился на международном рейсе! И не говори, что он моряком был и погиб в подводной лодке «Курск»! И не говори, что он пограничником был – и его застрелил диверсант, который границу переходил! Не надо мне этих сказок, поняла?! Так я на нее накричал. Первый раз в жизни. А она все сидит и плачет.
Ну и я заплакал вместе с ней. Обнял ее крепко. Так сидели вдвоем и плакали. Я ревел как девчонка.
А про отца она так мне в тот раз ничего и не сказала.
Я школу плохо окончил. В аттестате у меня одни тройки были. Девять классов; лень было дальше учиться, все равно училки всякую байду на уроках мелют, и что, мозги свои под эти удары подставлять? Они не резиновые, мозги-то. Я реально политикой интересоваться начал. Понимать начал, что все в мире не просто так существует. И что наша страна – тоже не просто так мучается, а со смыслом, ха! Только вот где этот смысл зарыт?
Где, как говорится, зарыта собака?
Очень хотелось мне знать, где собака зарыта. Я в компьютере разбирался, в Интернет лазил, у друзей, конечно, у меня дома никакого Интернета не было, у мамы денег не было на Интернет. Я матери сказал: все, никакой учебы, пошла она на хрен, иду работать. Нам жить надо! А не тешить самолюбие: мол, сынок в институте, ха-а-а-а, умный чеснок! Охранником пошел. Камуфляжную форму мне выдали. И газовый пистолет. Сказали: вот это такая газовая бирюлька, выстрелишь, если кто полезет. Ну, так, не убьешь, а оглушишь. Это воздушка, что ли, спрашиваю? Или там резиновые пули? Или что? Шеф заржал, как конь. Надо мной смеялся. Ну а что, спросить нельзя, что ли. «Мы тебя предупредили», – говорит.
А я тут с ребятами познакомился. С Бесом, с Культпросветом, с Белым и всей командой. Там и девчонки у них были. Не у всех; и менялись эти девчонки, как перчатки; а кто-то и оставался. И еще у них была такая коммуна номер раз! – с коммунаркой Кэт, ох и отпадная бабец, юмор, ухохочешься. Она стареющая тетка, но бойкая такая! Молодая по духу. У нее на хате мы часто собирались. Кое-кто жил у ней подолгу. Она позволяла. Обед нам готовила. Короче, своя в доску телка. Когда Бес мне сказал: больная она, в башке у нее что-то там такое нехорошее нашли, – я чуть не заплакал. А может, еще вылечится, подумал!
Бес мне очень понравился. Он такой въедливый. Он до истины докопается всегда. Бес мне первый сказал, что у нас в стране зреет революция. Какая революция, ты что, сдурел, парень?! – сказал я ему, а он мне серьезно так: обыкновенная, старик, революция! Я призадумался. Ну да, вот так, как мы с мамой жили все эти годы, так, конечно, жить нельзя. Вот поглядел я, как Бес живет. Отец у него художник, преподает в училище рисунок, и сам картины красит, и что? Нищий он. А мачеха у него училка. Тоже мало получает. Они все, училки, нищие. И врачи – нищие. А кто богатый? Продавцы? Ну, мать моя продавщицей этих сапог дрянных работала. И что, богатой стала?
Бес мне все объяснил: богатые – это отдельный класс. Он у нас в стране образовался сам собой. За последние двадцать лет.
Ха, говорю, двадцать, а раньше что, богатых не было совсем? И смеюсь во все горло.
Были, отвечает Бес печально, были, а как же, конечно, были! И дальше – тоже будут! Но революцию мы делаем для того, чтобы хоть какой-то кусок времени не было, не было, не было богатых! Чтобы все – поровну!
Поровну, усомнился я, это как же все поровну? Прямо так взять и разделить? Как батон, разрезать? Тебе кусок и мне кусок? А кто дележом заниматься будет – те, часом, от этого батона себе лишний кусок не покрадут?
Бес задумался. Это, говорит, ты верно подметил. Есть соблазн.
Соблазн всегда есть, ха! – сказал я, и мы опять смеялись. Над соблазном.
Я Бесу рассказал, что я работаю охранником и что у меня есть пистолет. Бес приходил ко мне на работу, чтобы пистолет посмотреть. Рассматривал его, гладил. Любовался им. Я понял: у него есть мечта, пистолет. И он все равно себе когда-нибудь его приобретет. Купит. Или украдет. Или все равно что. Но заполучит. Потому что он так его держал любовно, так нюхал, так… почти что целовал! Да, мы, мужики, любим оружие. Это в нас с древности.
Мы из пистолета этого стреляли в бутылки и банки пустые, у меня на работе. Веселились.
Бес мне книжки приносил. Или я сам за ними заходил, за книжками, то в мастерскую, где Бес с отцом и мачехой жил, или в коммуну к Кэт. В мастерской мне очень нравилось. Там у Беса была отдельная комнатка, собачья конурка. Аккуратно все оклеено светлыми обоями. На стене висят лосиные рога и две картины: «Человек-собака» и «Человек-собака на фоне рейхстага». Шикарный человек-собака! Я думал, это его отца картины. А Бес мне гордо так говорит: это я сам написал.
Книжки я читал. Эти книжки написал писатель один. Он стал революционером, и, я понял, молодежь вся на них свихнулась. Ну, не вся, а в возрасте меня там, Беса, наших всех ребят. Он стал профессиональным революционером и печатался под псевдонимом «Еретик». Он издал недавно книжку «Ереси». Классная книжка! Мне понравилось. Все там так четко. О догме и каноне. О преступлении и о выходе из магического круга. Вокруг нас ведь круг очертили, мелом, и мы из него – ни шагу! А надо выпрыгнуть! Надо – себе все взять, что другие – присвоили! Ведь нагло же присвоили, нагло! Так нам надо стать еще наглее! Разве мы не можем?!
Вот и Еретик говорит: можем. Можете, говорит он.
И мы начитались наглого Еретика – и в себя поверили.
А что? Это единственное, во что можно верить. Ну разве в Бога сейчас можно верить? Абсурд. Бог – это что-то такое древнее, отжившее. Сгорело это все давно. И со сгоревшим трупом носятся. Ну кто сейчас в церкви заходит? Старушки, старички. А что молодые в церкви, мол, тоже, так это все пропаганда. Мы-то туда никогда не заходим. Вот и Бес назвался: Бес, это ведь не зря.
Я Слава Кузьмин, и они все стали называть меня – Кузя. Я был не против.
Однажды к нам в коммуну, к Кэт, пришел такой хороший парень. Сказал: я гауляйтер по Нижегородской области, у нас партия революционная, давайте-ка к нее вступайте, к нам. Будем вместе против гадов бороться!
Против каких гадов, я так наивно спросил? Хотя знал, что этот гауляйтер ответит.
И он четко ответил: против богатых, против олигархов, конечно! Разулыбался. Ну, я ему улыбнулся в ответ, а что еще было делать, когда с тобой так вот вежливо?
Мы разработали план. Мы печатали листовки. Мы ходили на митинги, да чахлые какие-то были эти митинги: три старушки и четыре старичка, и все. Но мы все равно верили, что мы нужны народу. Народ слепой, а мы будем его глазами! И будем орать его губами! Размахивали плакатами с изображением серпа и молота. В красном круге. Нам в спины кричали: фашисты! Народ не понимал, что мы – не фашисты, что мы – за народ. Ну как сделать так, чтобы все все поняли? Так не бывает.
Так не бывает никогда.
И вот однажды Бес мне говорит: Кузя, мне нужен твой пистолет. На одну ночь. Ты дежуришь, ну и так продежуришь, без пистолета, а мне он нужен, одного идиота попугать. Ты что, попугай, что ли, Бес?! – крикнул я и заржал. Он обиделся. Ну, думаю, со мной разговаривать не будет, все, дружбе капец, – и рискнул, хотя и подумал: хозяин если узнает, врежет мне, мокрого места не оставит, – дал все-таки. Друг ведь все-таки. Друг.
И сижу всю ночь без пистолета. Пялюсь в черное окно. Блин, как хрустнет за окном – душа в пятки уходит! Хоть я и не робкого десятка пацан. Думаю: а ну, как ломанутся сейчас в окно?! – разобьют стекло?! – ворвутся, да наподдают мне, по голове треснут, оглушат, – прознали, что я сегодня без пистолета, и вперед! Сижу, томлюсь. Слонов считаю. Беса ругаю последними словами. И себя тоже.
И наступает утро. И шаги на крыльце! Я думал, это Бес! А это мама моя идет! Белая вся, бледная, лица на ней нет! Идет и в руках что-то такое тянет. Я рассмотрел: кастрюля, и крышкой накрыта! И мать лопочет: Славочка, это я тебе поесть принесла! И чуть не плачет. Я ее усаживаю, кастрюлю на стол дежурного ставлю, трясу ее за плечи: мама, мама, да что стряслось-то? А?!
А она: твой дружок, Бес! И снова реветь.
Еле я ее успокоил. Говорю: говори!
И она: Бес-то твой, мне ночью звонит, нам домой, посреди ночи! И кричит, чтобы ты его спасал! Потому что, кричит, я тут сейчас в вытрезвителе, мне, кричит, сотовый телефон медбрат один дал, сжалился, я вам сразу и звоню, а с меня тут часы сорвали, и пистолет отняли, а пистолет-то твой, Славочка, я так поняла! Твой! Казенный! Он кричит: деньги, деньги принесите! Пожалуйста! Выкупите меня, они денег требуют, волки позорные! Я кричу ему: ты погоди, у нас немного есть в заначке, да хватит ли на твой вытрезвитель?!.. и как тебя угораздило-то, ты ж такой хороший мальчик!.. А он: да, я хороший, да я взял у Кузи пистоль, одного гада подразнить, гад богатый, гад даже слишком богатый, гад себе яхту купил за миллион долларов, а у нас дети голодают! В больницах баландой кормят! В детдомах детей за лишнюю тарелку каши – няньки этими тарелками по голове бьют! А этот, дрянь! Я его выследил, говорит! Где его мерседес сраный останавливается, перед его особняком, кричит! Только, кричит, я для храбрости выпил маленько! А я ему: да уж чувствую, чувствую, что не маленько! А изрядно! Напоролся ты, кричу, в дымину! Что вот делать?! Он мне: деньги смотрите! Заплатите за меня! Выкупите! И плачет! Плачет, как ребенок! Ну что тут будешь делать, Славочка! Я поглядела в заначке – у нас там тысяча с небольшим, поглядела на часы – три часа ночи, а где этот вытрезвитель чертов, и не знаю! И не перезвонить! Ну, думаю, таксисты знают! Пойду такси ловить! И пошла. Выхожу на дорогу. Такси, как по заказу! С шашечками! Голосую. Говорю: в вытрезвитель довезите меня, пожалуйста! За сто рублей, если можно, у меня больше нет. Таксист ржет как лошадь! Больше нет, видишь ли, мне таксист говорит сквозь смех! Больше у нее нет! Что, бабенка, допилась до чертей, ножки не держат?! Сама в вытрезвиловку тянешься?! И все в таком роде. А я ему: да трезвая я, трезвая! Мне надо выкупить паренька одного! Друга сына моего! А-а-а-а, таксист кивает, вижу, вижу жопу рыжу! Понятненько! Паренька! Да так бы сразу и говорила – муженька! Налакался муженек в дымину, ты тут и танцуешь, на дороге! Ну давай, садись, горемычная! – и повез. Да, сынок, у-у-у! не в вытрезвитель повез, а на какую-то заправочную станцию сначала, бензином заправлялся, а потом сел в такси, весь бензином пахнет, и приставать стал! Прямо лапает, и лапищи сильные такие! И целует в шею! Ты мне, говорит, сразу понравилась! Ты такая… говорит… добрая! Ну его, этого пьяницу твоего, говорит, выходи за меня! Я – мужик – во! За мной будешь – как за каменной стеной! А я ему: у тебя ведь, дурак, баба наверняка есть! Не жена, так любовница! Помрачнел. Есть, говорит. Ну и что, а ты вторая будешь! И опять лапать! Господи, как я вырвалась от него, и сама не пойму! У меня ведь мужика не было так давно, сынок, а я ведь еще молодая! Мне ведь тоже, может, хочется! А тебе всю жизнь отдала! А на меня никто и не смотрел! Во он первый посмотрел! Ну и что, я в этой борьбе победила, а мне потом так жалко было, что я с ним не… Поехали мы! В вытрезвитель! Наконец! Доезжаем. Говорю дежурному: я выкупить паренька приехала! Какого паренька, спрашивает? А я ведь, сынок, и не знаю, как Беса-то твоего по-нормальному зовут! Беса, говорю. Какого Беса, кричит дежурный, вы мне тут голову не морочьте, сами, наверно, пьяная! Эй, санитары, кричит, давайте и ее тоже в палату! Я плачу-реву, заливаюсь. Деньги из сумочки вытаскиваю. Вот, говорю, держите тысячу рублей, а паренька Бес зовут, другого имени я не знаю! И вся трясусь от слез. Дежурный тысячу-то у меня из рук вырвал. Тут же позвонил куда-то. Пришли, в белых халатах, он им что-то сказал, я уж сквозь слезы не слышала! И чудо – Беса твоего ведут! А я кричу дежурному: вы это, ему часы отдайте, что с него сняли, и пистолет отдайте! А они: какой еще пистолет, что вы бредите?! А такой, говорю, что вы у него отобрали! Это, говорю, казенный пистолет! Это моего сына, охранника, пистолет! Ему за него голову оторвут! В тюрьму, говорю, за него посадят! Отдайте! И руки тяну. Просто умоляю! Сжалились. Пошушукались. Выносят мне и часы, и пистолет! А потом и Беса твоего выводят! Он мне как на грудь кинется! Пьяный в стельку, и слюни текут, хоть слюнявчик подвязывай! Пацан! Обнимаю его, и сама слезами обливаю, и так ревем оба, а эти все на нас смотрят и то ли ревут вместе с нами, то ли хохочут. Идите, говорят нам, быстрей отсюда, пистолет это же подсудное дело, пока мы не передумали, валите быстро, пока мы добрые! И мы обнялись и пошли, сынок, а денег-то больше не было, на машину, и мы с Бесом твоим так, обнявшись, и шли пешком… от самого этого вытрезвителя… до дома… Уж пять утра было. Я его помыла в душе, он совсем не стеснялся голый перед мной, отпоила крепким чаем, он спал, уснул, три часа спал, потом разбудила, накормила и выпроводила. И тебе поесть сготовила, и вот принесла! Ты же у меня тут голодный сидишь! Вчера вечером-то пошел на работу, не поел!
И опять мать плачет. А я кастрюлю открываю – из нее пар, картошка еще горячая, и с мясом, ура! А мама в карман плаща лезет, и вынимает пистолет, мой дежурный пистолет, хозяйский, газовый пистолет, и его слезами обливает!
А я ее спрашиваю: мам, а Бес говорил тебе, ну, ему, это самое, удалось олигарха-то попугать? Когда он вылез из своего богатого мерседеса?
Плачет мать, плачет, ничего не говорит. И я взял у нее из рук пистолет свой рабочий, а я ведь из него никогда не стрелял в человека, только в банки, в бутылки пустые мы с Бесом стреляли.
ПИСТОЛЕТ
Он давно мечтал о пистолете. Как его отец когда-то.
Я об этом ничего не знала.
Я давно мечтал о пистолете. О настоящем.
Оружие – у настоящего мужчины. Я мужчина. У меня должно быть оружие.
Мы с его отцом все лето жили в деревне. Яблоки собирали, сливы, грибы. Варенье варили. На сливах сизый налет, как изморозь.
Приезжаем. У кошки котята, два котенка. Кот исчез.
В стенах – в обоях – странные дырки.
И – бардак. Все вверх дном.
И Осип выбегает нам навстречу из своей комнаты. Пахнет водкой от него. Качается. Но уже не сильно пьяный, а так, проспался уже. Меня – в объятья сгреб. «Соскучился я!» – кричит.
«А где кот?» – спрашиваю.
«А, кот… Кот – гулять ушел. В воскресенье!»
Кошка худая, тощая; уголодавшаяся. На котятах блохи. Кишмя кишат. «Ося, что ж ты тут делал, а?! Ты ж работал! Я думала – зарплату получал… Мы ж тебе деньги посылали! А?»
Молчит.
Над плитой, на ниточках, грибы сушатся. Подберезовики? Или белые?
Я взяла тряпку и стерла с черного старого пианино серый толстый слой пыли.
Мы все лето, каждый день, работать с Белым ходили. На стройку. На объект.
Объект! Смех один. Обои клеили неделю. Прораб-то у меня Белый был. Я его приказов только и слушался.
Культпросвет с нами тоже немного поработал. До начала августа.
А потом нам дали деньги.
Зарплату.
Семь тысяч рублей.
Первое, что мы сделали, – купили на тысячу рублей водки и жратвы. Сала хорошего, поперченного, колбаски вкусной. Помидор, огурцов, кислой капусты. Водки, да! Хорошей. Ну, фирменной. Не паленой. И – сырого мяса купили, я его в уксусе, с лучком, замочил, шашлыки сделать.
Ждали, пока мясо замочится, и уже бутылку открыли. Одну. Другую. Огурчиками закусывали. Опьянели.
И все стало – море по колено.
До вечера досидели как-то незаметно! Сунулся в холодильник. О, шашлычок готов! Из кастрюли мясо вывалили в пакет, взяли шампуры, побрели, обнимая друг друга за плечи, уже шаткими ногами – на Откос.
Эх ты, ребята, а в березах-то уже золотые прядки! Осень.
Но мы – не осень! Мы-то еще не умираем! Мы-ы-ы-ы-ы…
Солнце пекло! Лето еще текло нам на головы! Разожгли костер. Мясо на шампуры насадили. Подождали, пока угли задымятся. Жарили…
Еще бутылку вскрыли… Еще одну!
Помидорки с собой…
Дали курились сизой, синей дымкой, как угли у нас под ногами. Время горело. Воздух пах мясом. Вечер глотали, как водку. Небо было уксусное на вкус. Жизнь, это была моя жизнь!
Белый налил мне еще полстакана. Я уже не стоял на ногах, все падал куда-то вправо. Схватил стакан и засмеялся. Утер рот рукой.
Поднял стакан, водка выплеснулась мне на грязные берцы, и сказал:
«Я завтра куплю то, что хотел всю жизнь».
И мои – меня поняли. Загоготали, по спине стали хлопать. Я выпил и сел на корточки осторожно. Меня тошнило, но все равно было хорошо.
А Гришка уже спал под кустом. Храпел вовсю. Его накрыли от холода «косухой», а голову – от солнца – газетой «Друг народа».
Опять с дружками пить пошли. Как надоело это пьянство!
Все пьют. Ну ладно бы мы, взрослые. Старые уже. Нам водка – слону дробина в левое ухо. И то спивается кое-кто. А эти? Юные? Алкоголики ведь уже! Руки, пальцы у них дрожат!
Лечиться насильно. Разве кто будет лечиться насильно?
Это надо самому от водки отказаться. А как? Как?
Ведь для них водка, пиво, дешевое красное вино – такой символ их юности. Их – взрослости. Без водки они вроде бы как дети, а с водкой – ну нет, уже мужики.
Мужики, юнцы-дураки-безбородые…
Вытерла пианино от пыли. Вытерла стол, где компьютер. Вытерла гитары Оськины, по стенам на гвоздях висящие.
И тут нога под диваном за что-то такое задела. Твердое. Холодное.
Стальное.
Я наклонилась и вытащила из-под дивана пистолет.
Я долго стоял в магазине. Глядел на них.
Они были черные; серо-перламутровые; густо-дегтярные; коричневые; блестящие, будто лаковые; с курками длинными; с короткими курками; со стволами толстыми; с коротенькими аккуратными стволами, будто их обрубили, как породистому псу хвост.
Такие разные. На ощупь – на вес – такие тяжелые.
Прекрасная, важная тяжесть.
Тяжесть – мужества. Тяжесть – смерти.
Я вдруг понял: это все не игра. Я сейчас куплю его – и я уже буду другой.
Какой? Ну, другой. Иной совсем.
Это как шагнуть: из детства – в пропасть.
И полететь, и заорать, и ждать, когда тебя ангелы спасут и вознесут к пухлым облакам – или разбиться, шмякнуться в лепешку.
Я держал в руках смерть. Свою? Чужую?
Почему меня продавец не спрашивает, есть ли у меня лицензия на ношение оружия?
«У вас есть лицензия на оружие?» – спросил продавец, молодой парень, такой же, как я. Даже на меня чем-то похож.
Я помотал головой. Непонятно так помотал. Вроде бы, есть, а вроде бы и нет.
«Покажи», – сказал парень мне уже на «ты».
И я это «ты» подхватил.
«Ты знаешь, продай мне его, а?» – сказал я тихо.
И наклонился к нему поближе, и постарался заглянуть ему в глаза.
«Не могу, – так же тихо, чтобы другие у прилавка не слышали, сказал мне он. – Но я тебе помогу. Вот тебе адресок один. – Наклонился. Накарябал что-то ручкой на листочке. – Вот. – Протянул. И еще раз повторил: – Вот».
Телефона там не было, только адрес.
Я сразу же пошел по нему. И быстро нашел.
Старый дом, в старом городе. Дверь с улицы закрыта. Я пошел во двор. Толкнул другую дверь. Она открылась. Лестница вела вверх. Я стал подниматься. Черт, дом вроде маленький, а лестница эта почему-то все не кончалась. Или это я так волновался? И ноги ватные? И мысли бились: настоящий, настоящий. Наконец-то.
Еще одна дверь. Постучал. Вышел маленький, как гриб, мужичонка. Щеки щетиной заросли, как пень серым кудрявым мхом. Он не удивился. Я молча прошел. Мужичонка не меня снизу вверх смотрел. Ждал.
«Макаров» у вас куплю?»
Мужичонка наклонил голову. Я увидел его лысый затылок.
«А сколько у тебя с собой?» – сказал он хрипло, не глядя на меня, глядя в пол.
Я тоже посмотрел на пол, увидел под ногами обшарпанные половицы, не крашенные сто лет.
«Десятка», – сказал я.
Четыре «штуки» я занял у Белого.
«Мало», – сказал мужичонка.
Я повернулся, чтобы уйти.
Он хлопнул меня по плечу.
«Стой. Давай. Хер с тобой».
Я держала пистолет на ладонях, как мертвую ворону. Он был тяжелый и оттягивал мне руки.
У Оськи пистолет.
Черт, а может, он игрушечный?!
Все во мне кричало: настоящий! Такой тяжелый…
Я вскинула глаза. Я поняла, откуда вмятины в стенах и дырки в обоях. У нас перегородка картонная, так они прострелили ее насквозь.
Я ощупала дырки: здесь, здесь и здесь.
Я поняла, почему ушел из дома кот.
Кот больше не вернется. Он испугался выстрелов и ушел. Голодный, не кормили, и в доме, где стреляют – из этого дома надо уйти навсегда. Зверь и ушел.
Кот больше вернется, кот, кот…
У Осипа пистолет, и что он будет делать с пистолетом? По улицам ходить и в кармане сжимать? И, если кто вдруг нападет, – отстреливаться?!
Или, может, пугать им ночной народ?!
Он думает: вот я живу в бандитском мире, и надо защищаться. В поганом мире на боку надо носить оружие.
С него однажды сняли куртку, новенькую. Мы с его отцом в милицию заявление подавали. Он даже знал, кто снял: сявка такой, со своей компанией, по прозвищу Еврей. Милиция это наше заявление, видимо, скомкала и – в корзину для бумаг. У них есть дела покруче. И денежные. Подумаешь, пацанья куртка!
Потом на него напали, когда он со своей девочкой к ней домой ездил. В пригород. К ее родителям. Они в своем доме живут. Отделали так, что ой-ой-ой. Девочка, и ее подружка, рядом стояли, визжали и плакали. Среди бела дня. Семь вечера было. Эта срань Осипу закричала: «Ты скин?!» Он крикнул им: да! – а они: «Так почему ж ты небритый, а-а-а-а?!» – и – бить.
Потом они с Белым, дружком его, старый ноутбук по дешевке купили. Я им денег дала. Обрадовались! Домой несли – опять какая-то шваль подкатилась, главарь нож показал, руку протянул, ребята сами ноутбук и отдали. Нет, Оська не плакал. Что плакать? Жить надо.
Как – жить?
Белый в партию вступил. В политическую. В оппозицию. В самую крутую. И Оську за собой потянул. Они все говорят: бандитская партия. А наш мир – не бандитский?!
Тяжелый пистолет, тяжелый…
Сжала я его в руке. В кулаке. И подняла. И на дверь направила. Прицелилась. И прищурилась даже.
Вот так и стреляют. Пиф! Паф!
Ой-ой-ой, умирает зайчик мой…
Я целюсь, и дверь открывается со стуком, и Осип шагает через порог.
И я – целюсь – ему в лоб.
И он кричит с порога, страшно:
– Не стреляйте! Заряжен!
Я вышел во двор. Пистолет лежал в кармане. Он оттягивал мне карман. Сладкой, приятной тяжестью. Я пощупал его, сжал крепко-крепко.
Все. Жизнь началась.
Я стал с ним сильнее? Нет. Это не то.
Я стал с ним – самим собой.
И у меня, от его истошного крика, так странно сорвался, дернулся палец. И я ничего не поняла, только услышала резкий, громкий хлопок. И уши заложило.
И глаза зажмурила.
А открыла – вижу, щека у Осипа в крови. И плечо в крови. И по шее кровь течет.
И он стоит, не падает почему-то.
И я швыряю пистолет вбок, на пол, и он катится к ногам Осипа, а я ору дико:
– Оська! Оська-а-а-а! Я убила тебя-а-а-а!
Метнулась к нему. Под мышки подхватила! Он стоит, все не падает. И отчего-то улыбается. Смеется. И я вижу: у него между передними зубами – щербина, как у зайца.
– Зайчик мой…
Плачу.
– Ухо пуля оцарапала, – смеется.
Я плачу! А он довольный.
– Что ты смеешься?! Смерть домой приволок, и смеешься?!
– Теперь у меня пол-уха нет. Это уже боевой шрам.
И опять – такая довольная, как у сытого кота, улыбка на губах.
А руки дрожат. Пальцы дрожат.
И водкой, опять водкой от него пахнет.
Я чуть не убила его, а ему радостно.
Мачеха в меня стрельнула. Когда домой пришел. Через порог переступил. Это я сам виноват. Я крикнул, она испугалась и выстрелила.
А теперь она просит меня пистолет продать. Или отдать кому-то.
Хрена с два! Я о нем всю жизнь мечтал. Лучше я себе глаз выколю, лучше палец отрежу, чем пистолет продам!
В нем теперь вся моя жизнь.
Такая уверенность в себе. Я раньше был такой… козявка. Всех боялся. Шел по улице и боялся. Я теперь никого не боюсь. Четко так иду, уверенно. На всю ступню наступаю. И его – в кармане чувствую. Даже если руку в кармане не держу.
Ну ведь зачем-то оружие придумали люди!
И ходят с ним; и пользуются им.
Важно с умом пользоваться. Не палить в белый свет, как в копеечку.
Зато я теперь – с ними со всеми. С героями. С солдатами. С теми, кто на войне. Я сжимаю его – и, хоть я не солдат, но я смотрю вперед, и я вижу перед собой глаза тех, кто умрет.
Это у меня песня такая.
«Нету войны, а я не солдат! Волю в кулак — для шага вперед... Нету войны, но я чувствую взгляд …и я вижу глаза тех, кто умрет. Тех, кто умрет».
И пусть я умру. Я ведь знаю, что я умру. Я точно умру, как и все люди. Я хоронил мою мать, и я видел ее лицо в гробу. Там, на севере. Дул ветер. Мы привезли гроб на кладбище. Дул тяжелый, с Енисея, ветер, и он обваривал льдом лицо, и мы опускали мать в могилу, и я только потому не сошел с ума, что был весь как железный от мороза – руки железные, ноги железные. Я был пацан, мне было шестнадцать лет. Отец поил меня потом водкой. Я пил водку и не пьянел, и не согревался. А потом согрелся, забился головой об стол, зарыдал как девчонка, а отец обнимал меня и тоже рыдал. И я… понял, что вот так и я тоже лягу когда-то. В такую же длинную деревянную лодку. И меня закопают. Навсегда.
Да, я умру. Как все люди. Но у меня в кармане смерть. Моя или чужая – это все равно. Она у меня в кармане. Я сжимаю ее в кулаке. Я владею ею. Захочу – и она будет моя. Захочу – посмеюсь над ней! Во все горло.
Ха-ха-а-а-а-а-а!
Я перевязала ему ухо, обработала перекисью водорода, потом йодом залила, ухо все коричневое стало, и обмотала бинтом полголовы. Раненый казак! Почетно. Он сиял. А я про себя материлась. И у меня дрожали руки, как у него.
И вошел его отец. И увидел нас, и Осипа голову перевязанную.
– Что тут у вас? – спросил.
И Осип за его взглядом проследил.
Пистолет на полу валялся.
Он его увидел.
Я думала – скандал сейчас начнется.
А его отец наклонился медленно, медленно взял пистолет в руки. И погладил его. Как живого. Как живую птицу… зверька. Черного страшного зверька. Кусачего.
И голову поднял. И я поразилась его лицу.
На его лице просветилась, взошла и засияла, и заплакала вся его несбывшаяся жизнь. Которую он мечтал прожить, да не прожил.
– Я всегда мечтал о таком, – сказал он тихо. – Оська!
И Осип глядел на него молча, а он шагнул к нему и обнял обеими руками его культяпую, белую перевязанную голову, как запеленатую куклу.
Отец его обернулся ко мне. Я сжалась в комок.
– Мой отец, дед его, в Азиатской дивизии у Унгерна служил, казак. Ургу брал. Шашкой вовсю махал. Стрелял. Герой был. – Он помолчал. Вдруг крикнул хрипло, тяжело: – А мы?!
Мы, все трое, молчали.
И слышно было, как ровно и мерно идут часы.
Или это кровь толкалась у меня в ушах?
Я никому, никогда не отдам его. И не продам ни за какие деньги.
И в карты не проиграю.
И не пропью.
Если только в меня кто-то выстрелит, сучонок какой-нибудь вонючий, и отнимет его у меня. Уже у мертвого.
Я могу его только подарить. Сыну своему.
У меня будет сын. Тонкая родит мне сына. Это будет хороший пацан. Тонкая смеется: ты сам еще пацан! – и целует меня, как только она одна целует.
Я давал ей разглядывать пистолет. Она гладила его кончиками пальцев. Так ласково.
Будто меня, голого, гладила.
Будто гладила мой…
ЗУБР
Сидеть и глядеть на экране
эти наглые, дикие кадры.
Они волнуют кровь и дарят нелепый, забытый страх.
Страх – как водка. Как дешевая водка.
Его не хочешь пить и пьешь все равно.
До ужаса, до криков, до победы – все глядеть и глядеть.
Они будут бегать и прыгать на экране,
эти люди с темной кожей и раскосыми, ночными глазами,
которых избивают тяжелым чугунными сапогами-утюгами
наши ровесники.
И это же так классно – когда избивают чужих!
Чужаков когда бьют!
Это ведь раз в жизни дано: убить чужого!
Убить и расплющить врага! Мозги ему выбить!
Эй, Бес, гляди, кажись, мачеха твоя пришла, а мы тут орем.
Да нет, ничего, ори. Ей по барабану. Она добрая.
Эй, Бес, а че у тебя волосы черные? И глаза – раскосые?
А это… это самое. Это. Ну. У меня родная-то мать, покойная, наполовину башкирка была.
А, вот оно что! И скрывал! Нехорошо как-то, Бес. Неприлично.
А че, мне теперь от революции отвалить? Че, башкир я, да?! Черный, да?! Отец-то у меня казак! Сибирский казак! Вам всем и не снилось! Наш род казачий длинный и славный. У папки – шашки казацкой вот только нет! Я богатым стану, куплю ему. В подарок. Подарю в день рожденья. Ты, глупый Зубр! Я ж сам был скином. Я сам башку брил! Вот, Зубрила, гляди, Кельтский Крест на плече мне набили!
Кельтский Крест – все фигня. Это все бирюльки. Делами доказывать надо революции верность.
А если мы победим – че, будет Россия для русских?
Блин, ну так за то ж и боремся! За то и кровь проливаем, глупый ты Бес! Вон, на Дальнем Востоке, девчонка одна, из наших, к батарее наручником себя приковала и жрать перестала! Чтоб из тюряги выпустили парня! Другана ее! Нашего тоже!
А че парень сделал?
А парень это самое, ну… это… с командой – узбека одного замочил. Вусмерть. Берцами. Под дых. На вокзале. На железнодорожном вокзале. В Хабаровске. Ты только что ролик глядел. Еще поглядишь? Герой наш парень. Мочил прямо так технично! Мощара! Так его и в тюрьму сразу же кинули, ну, вокзал же, кругом же менты…
А у узбека этого… че… семья осталась?
Да не. Молодой. Пацан еще узбекский. Ну, мать там, наверно, осталась. Рыдает щас в уголке где-нибудь. Молится узбекскому богу.
Ты, Зубр, хватит курить, а, вот яблочко съешь! А какой – у узбеков – Бог? Аллах, что ли?
Аллах, чудище ты. Конечно, Аллах. Каждый чучмек своему Боженьке молится. Вьетнамец – своему. Туркмен – своему. Индус – своему, между прочим! Кришне там, Вишне…
Вишни! Вишни хочу! Спелой!
Обломишься, Бесенок ты жадный. Жадюга. Мечтатель! Еще ведь май месяц. До вишни еще – пилить да пилить. Ты не вишни хочешь, а ты просто голодный. Понятно? Да ведь и я голодный тоже! Чего б нам пожрать?
Денег нет, Зубр. Денег нет.
А добыть?
Как добыть? Украсть, что ли?
Хм, ну ты, что ли, работать пойди, ха-ха-ха!
И пойду. И пойду, если надо.
Революция, Бес, заплатит тебе! Революция! Ха!
Что ты ржешь, щас в морду получишь… Иди ты…
Че-че?! А ну повтори!
…иди ты на улицу, черного встреть, замочи, кошелек у него из-за пазухи вынь и жратвы нам купи.
А-а, это дело, а то я-то думал.
Они спиной к экрану встают.
Они режут хлеб и варят рис с остатками жалкой тушенки.
Они смеются: классно хабаровцы черных мочат! Вот и нам так же надо!
Да ведь не только хабаровцы. И москвичи. И питерцы. И смоляне. И иркутяне. И читинцы. И самарцы… тьфу ты, черт, самаряне…
…добрые, что ль, самаряне?.. ха-ха…
А потом тихо шепчут: не-ет, у нас другая программа, другая программа… Кровь – это все детский сад… Это все вчерашний день… Мы, как они, не будем. Мы будем – иначе.
А потом Бес, заглотав, как ужонок, ложку непроваренного, похожего на белые личинки, мышиного риса, с тушенкой перемешанного, и запив хорошим глотком дешевейшей «Сормовской» водки, – спасибо тебе, Зубр, за водку, очень кстати она! – внезапно кричит над грязным, в окурках, столом:
– Не денемся мы никуда от крови, Зубрила! Не денемся! Не-е-е-е-ет!
И Зубр, прищурившись, ложку за ложкой в рот отправляя, мычит сквозь рот, рисом набитый:
– Конечно, не денемся. Всех ты из своего пистолета положишь, Бес, всех. Всех врагов революции. Всех, кто будет против тебя. Кто не с нами, тот против нас, ты же помнишь?
И Бес кивает: «Помню! Помню!» – жадно перемалывая сухой жесткий рис, мечту тихих трусливых мышей, жадными, молодыми, белыми, хищными зубами. Русско-сибирско-татарско-башкирскими, сильными и безжалостными зубами.
Кто не с нами, тот против нас, это же ясно как день.
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ АЭРОПОРТ
Бес остановился у самого начала моста через Почаинский овраг и вынул из кармана пачку сигарет.
И закурил.
Облокотился на черные холодные перила.
Здесь, давно, лет десять назад, а может, больше, два пацана сбросили вниз, в овраг, с моста, девчонку.
Они стояли у перил и за шкирку котенка держали, издевались над ним: мол, что верещишь, тварь, сейчас сбросим тебя вниз, сбросим! А девчонка шла мимо. И бросилась к пацанам: не смейте! Заступилась за котенка.
Ну и что? Пацаны котенка все равно вниз швырнули. А потом девчонку схватили и – туда же. Сбросили. Вниз. С моста. В овраг.
Эх и визжала она, наверное!
Не хочется ведь умирать.
Котенок разбился. В лепешку. Девчонка разбилась. Двадцать пять метров вниз лететь, конечно, разобьешься наверняка.
Он фотографии видел. Зубр показывал. Из старых газет. Лежит, руки раскинула. Будто – распятая. И лицом – вверх. В небо смотрит.
Бес затянулся и представил себе пацанов, только что сотворивших это. Напугались они? А то. Не то слово. Может, сразу деру дали, чтоб не поймали.
Но их все равно поймали. И был суд.
И родители отмазали их от срока. У них были богатые родители.
Хорошо быть богатым.
А родители той девчонки на всю жизнь остались – со слезами своими.
Ей было девятнадцать. Как… Он затянулся. Как Тонкой сейчас.
Она училась в художественном училище. Картинки рисовала. Как – Тонкая – сейчас.
Бес поежился. Представил, как Тонкую сбрасывают, на его глазах, с моста, а его крепко держат, за локти, и он ничего поделать не может. И видит все это.
Он щелкнул пальцем, окурок полетел в овраг, в темную грязную зелень, уже тронутую старой позолотой.
Автобус, шедший в аэропорт Стригино, был большой, неповоротливый и толстомордый, как бегемот. Толпа напирала, тетеньки охали и стонали, Зубра то и дело крепко, плотно прижимало, на поворотах, к Бесу, и Зубр цедил сквозь зубы:
– Блин, мы с тобой просто как голубые.
Бес хохотал беззвучно.
– Покурить бы.
– Сейчас слезем, в аэропорту покуришь.
Они ехали в аэропорт встречать одного человека. Человек прилетал из Питера. Все, больше Бес про человека ничего не знал.
Зубр ничего и не сказал, кроме: едем встречать человека из Питера.
«Нет проблем», – сказал Бес.
Бес вообще был легкий на подъем.
Бес вообще был легкий. Худой и легкий. У него кости были словно воздухом наполнены. Еще немного – и полетит.
В аэропорту, в отличие от автобуса, было просторно и пустынно. Ощущение заброшенности охватило. Два, нет, три человека в зале ожидания. Около касс еще стояли. И все.
– Будто в Болдино аэропортик, да? В деревне, – сказал Бес.
Зубр промолчал. Его рыжая башка светилась в полумраке холла.
– Когда самолет? – спросил Бес.
– Скоро, – ответил Зубр.
Они стали ждать.
Через десять минут Бес спросил:
– А на хрена ты меня просил взять пистолет?
Зубр улыбнулся.
– Мало ли что.
– А что – мало?
Теперь улыбнулся Бес.
Им нравилось встречать человека из Питера. Им нравилось, что у Беса в кармане – пистолет. И вообще все круто, нет, на самом деле серьезно.
– Мало всегда всего. Чаще всего, Бес, времени мало.
– Догадываюсь.
Опять стали молчать, вертели головами, таращились на глупое тоскливое стекло широких и высоких окон.
Бес вышел покурить на улицу.
Потом – Зубр.
– Блин, когда уже этот самолет?!
Пассажиры напротив мирно, свернувшись, как коты, спали в неудобных креслах.
– Да скоро, скоро, я тебе говорю.
Еще сидели, ждали.
Уже томились.
Зубр сказал:
– Пойду-ка я…
Потом пошел Бес.
Им стало скучно все время молчать, плотину прорвало, хотелось говорить, размахивать руками, говорить громко, может, даже орать, орать на весь пустынный стеклянный зал.
– Эй, Бес! А правда, вчера здорово погудели! Просто чудо! Песня твоя последняя…
– Бли-и-ин! Последняя! Еще не последняя! Еще много напишу!
– А мои ролики – про питерских скинов – все посмотрел?! Успел?!
– Не-е-ет! Не все! Но там один есть такой! Как черного дядьку ногами забивают!
– А! Это – на Литейном снимали! На телефонную камеру!
Они орали, как на пожаре.
Голоса эхом отдавались под потолком.
– А-а-а-а! Понятно! А тебе питерские, что ли, прислали?!
– Не-е-ет! Из интернета скачал!
– А-а-а-а!
– Черного-то – насмерть забили! Ты понял?!
– Да-а-а-а!
Им нравилось, как летают в пустом зале их голоса.
– Зубр! Когда уже?! Этот долбаный самолет?!
– Да вот уже! – Зубр поглядел на аэропортовские часы. – Бли-и-ин! Час назад уже должен приземлиться! Е-о-о-о-о!
– Ну вот! Я же говорил! Торчим тут!
Пассажиры напротив проснулись и со злостью глядели на Зубра и Беса.
– Вы погромче не можете? – зло спросил толстый мужчина в желтой куртке.
Бес широко улыбнулся.
– Можем! – весело крикнул он.
Но разговаривать стали на полтона ниже.
– Зубр, а представляешь себе, вот – Нью-Йорк, и мы – в Нью-Йорке?
Зубр пожал плечами.
– А чего его представлять? Город как город. Ну, небоскребы. Ну, люди. Я бы лучше в Африку полетел. На слонов посмотрел. На львов. Хочу в саванну. На львов глянуть. На живых. А город?
Он сплюнул на гранитный пол.
– Нет, ты не понял. Вот сейчас мы сидим не здесь, а – в Нью-Йорке. В Нью-Йоркском аэропорту.
– А, в Джей Эф Кэй! А-а-а-а! Ну! И что! Сидим! Вот так же сидим! И что?
– Нет, ты представь только: в Джей Эф Кэй!
– Ну, представил! И что? Какая разница?
Глаза и зубы Зубра смеялись.
– Ну! Какая! В Нью-Йорке же!
– Думаешь, мы там никого бы не встречали? Или – не улетали оттуда?
– Куда?
– Ха-га-а-а-а! В Россию.
Плывущий, невнятно-кокетливый девичий голос пухом из подушки разлетелся по залу: «Рейс двести пятнадцать, из Санкт-Петербурга, опаздывает на три часа! Задержка… погодные условия… приносим наши извинения…» Голос кокетливо повторил то же самое по-английски.
Зубр поморщился.
– Рашен инглиш, – презрительно сказал он и опять сплюнул. – Инъязовка. Убил бы на месте. За такое произношение. Чему их там учат, благородных девиц? А все они! Мечтают! В Америку!
– И – замуж за Билла Гейтса, да-а-а?!
– Заткнетесь вы?! – грубо крикнул толстяк в желтой куртке.
– Экскьюз ми, – вежливо пропел Зубр и изящно вставил в зубы сигарету.
– Погодные условия. Брехня! Это не погодные условия. Это – знаешь что? Это…
Зубр замолчал. Внезапно помрачнел густо, тучей.
– Что замолк? – ткнул Бес его в бок локтем.
Зубр вздохнул. Опустил рыжую башку. Помял кончиками пальцев веснушчатый широкий, как детская лопаточка, нос.
Обернулся к Бесу.
На бледном лице ярче, гуще, темным рассыпанным просом проявились безумные веснушки.
– Этот человек. Этот.
– Какой человек? – Бес старался быть терпеливым. – Которого мы встречаем? Из Питера?
– Да. Он. Они могли его поймать. Перехватить. Или в самом самолете. Или – при посадке.
– Это что, не прямой рейс? – спросил Бес.
– Нет. В Москве садится. Потом сюда летит.
– Значит, что-то в Москве произошло.
– Значит, – Зубр снова сплюнул.
– Пол заплюешь. Прекрати. Ты же не верблюд. Не волнуйся. Ну, подождем эти три часа. Я в буфет схожу? Куплю пожрать нам?
Бес поскреб в карманах, вынул деньги.
– Да-а-а. Негусто, – сказал Зубр, глядя на мятые купюры в ладонях Беса. – На пирожки с котятами хватит, а на пиво нет. Держи.
Он положил поверх мятых десяток новенькую, даже еще не гнутую сотню.
Они жадно кусали холодные пирожки с капустой, запивая теплым пивом.
– «Окское», ведь хорошее, но не могли, сволочи, в холодильник…
– Она сказала, что – из холодильника, – промычал Бес с набитым ртом.
– Врет. Что у них там еще есть?
– Дрянь всякая. Салаты. Все дорого.
– А куриные ноги, ледяные, с кожей… в пупырышках – есть?!
Они кусали пирожки и хохотали, жадно жуя.
– Есть! Вроде…
– В дороге… м-м-м!.. в дороге всегда надо грызть куриную ногу… это обычай такой… русский…
– А может, не только?.. А американцы – что, кур не едят?.. Ножки Буша, га-а-а-а…
Зубр допил пиво и аккуратно поставил пустую бутылку у края скамейки.
– Еще два часа куковать, – спокойно и, кажется, даже весело сказал.
Сбоку, совсем рядом, раздался дикий, с брызгами, звон стекла и дикий мат. Будто покатилось, переезжая живую тихую плоть, гремящее стальное колесо.
Они оба быстро обернулись.
И поняли: все надо делать быстро.
Около разбитого окна, спиной к окну, на осколках, лежал парень в черной кожаной «косухе». Такой же, как у Беса. Как близнец его, брат. Второй парень, которого били, безжалостно, хищно, насмерть, еще стоял на ногах. Отбивался. Он был крепче поверженного, и, видимо, знал приемы. Тех, кто бил, было больше. Бес не сосчитал: трое там или четверо, пятеро. Больше, это было понятно. Черная куча. Все копошатся. Выкрикивают ругательства.
И Зубр, и Бес среагировали мгновенно и одинаково. Они уже бежали к драке, бежали к своей судьбе, и Зубр только крикнул Бесу на бегу:
– Ну?! Ты – готов?!
Бес бежал и сжимал в кармане пистолет.
Его охватила странная, дикая радость. Дрожь.
Так пляшут в ночи, после любви, у реки, у костра. Под звездами.
«Какая река… какой костер… они выбьют у тебя из рук пистолет… и ты!..»
Пока бежал – увидел: лица тех, кого били, кого – убивали, были смуглые и раскосые, смуглые и раскосые.
– Зубр! – крикнул он. До дерущихся уже оставалось всего ничего. – Зубр!
Он хотел крикнуть ему что-то важное.
Но времени уже не было.
Он понял: вот этот ударит, сейчас. Он не успел отвести лицо, и хороший, мощный удар пришелся в скулу. Он стал падать, и спиной наткнулся на грудь того, черного, который дрался, еще не сваленный на пол, – и устоял. Руки сами делали свое дело. Кулаки, колени знали, что делать. «Погоди, пока не выдергивай оружие, погоди. Пока – руками. Нас уже тоже четверо. Сейчас этот встанет с пола. Сейчас!»
Он видел, как Зубр отлично ударил одного в живот, снизу, и тот не успел закрыться. Вместо крика раздалось рычание. Зубр увернулся. Рыжая его голова металась, как факел. В кулаке одного мелькнуло стальное, серое, рыбье. «Так, уйти от ножа. Быстро. Так!» Тот, кто валялся на полу, очухался, встал на четвереньки, потом вскочил на ноги.
Уже веселее, подумал Бес.
Под подошвами берцев хрустели осколки. В спине чернявого парня, в куртке, осколки торчали, как льдинки. По черной коже текло красное, казалось, густое, сладкое… похожее на сироп. Бес развернулся и хорошо въехал оказавшемуся ближе всех. Ему вмазали тоже – сзади. И опять он не упал. Хотя голова поехала, поплыла… полетела.
«Я полетел, да, я уже полетел. Я лечу в самолете, ха! В Нью-Йорк».
Он видел, как Зубру засветили в ухо, и Зубр стал падать.
Зубр падал медленно, как во сне, так не падают люди, так люди танцуют – или обнимаются. «Обнимаются с жизнью, что ли?» Он думал, еще думал, холодно, ясно работала голова, сама по себе, отдельно, а руки, локти, ноги делали свое. Он пнул того, кто повалил Зубра, сильно пнул его в колено, скосил глаза – и тут увидел, как по черному свитеру Зубра тоже медленно, сонно ползет густое, да, сладкое, вишневое, или, может, клубничное. Дачное варенье. У Зубра, у матери его, была дача, там вишни росли, мать варенье варила.
– Зубр! – крикнул Бес.
Зубр лежал на полу, раскинув руки.
И рука сама нырнула в карман – и выдернула живую, горячую, маленькую игрушку. Маленькую смерть.
«Я сейчас поиграю в смерть. Немножко. Только немного. Это только игра, ну правда. Только игра».
Тот, что с ножом, сунулся к нему – и отпрянул от него.
Бес вскинул руку с пистолетом.
Он крепко, железно держал пистолет на вытянутой руке, наводя его в лоб, в лицо то одному, то другому, – и они сразу почуяли смерть, сразу перестали махать руками, сразу стали отступать, на шаг, еще на шаг, еще.
Вот уже кучкой, черной, грязной, в чужой – или своей? – крови, – стояли, тесно сбились.
– Не дрейфь, – сказал тот, что с ножом, так и продолжая держать нож лезвием вверх, в белом от напряженья кулаке, – не дрейфь, тебе говорю… у него, может, пугачка только… газовый…
– Хрен ли, – сказал парень с тату в виде красной змеи, набитой на лбу, и с серебряным пирсингом на бритой брови, и дунул себе нижней губой на разбитый нос. Красная змея ползла по его лбу, и Бесу казалось – это течет по лбу кровь.
Нет, кровь и правда текла.
Зубр лежал без движения. Руки раскинуты.
– Вы, подонки, – тихо сказал Бес. А ему самому показалось – крикнул! – Валите отсюда. А то я вас повалю. Всех.
Тот, с ножом, сунулся было к нему, но парень с красной змеей цепко ухватил его за локоть.
– Тихо. У него ствол нормальный. Тихо. Уходим.
Они пятились.
Бес держал пистолет на вытянутой руке.
Старался, чтобы рука не дрожала.
Она и не дрожала.
В голове плыло.
Они пятились.
Глядели на дуло пистолета.
Дуло глядело на них. В них.
Дуло видело то, чего никогда не увидит живой человек. Никто – из живущих.
Бес не помнил, как, куда они провалились.
Бес видел, как один чернявый тащит к выходу из зала, под локти, другого, который, видно, вырубился совсем, – да, они их спасли, да, двух черных, ну и что, – и тоже не помнил, как они исчезли.
Он спрятал пистолет в карман и сел на корточки перед Зубром.
Зубр был неподвижен и мирен. Он раскинул руки, будто хотел обнять кого-то.
– Зубр, – сказал Бес и, гармошкой сморщив нос, заплакал без слез. У него заболели, заныли колени. – Зубр! Вставай!
Он просунул руки Зубру под затылок. Что-то теплое, льющееся ощутил. Его затошнило.
– Милиция-а-а-а! – тонко, беспомощно провыл толстяк в желтой куртке.
Бес обернулся к толстяку. Вытащил красные руки из-под затылка Зубра. Вытащил телефон из кармана куртки.
– Не милицию, а «скорую», – без звука, одним хрипом сказал он и набрал пальцем в крови «112».
– Самолет, прибывший рейсом двести пятнадцать из Санкт-Петербурга, произвел посадку! – радостно сказала неведомая девушка.
И потом то же самое – на плохом, манерном, чуть в нос, английском.
Прямо к ним шел человек.
Он шел прямо на них, и Бесу показалось – он сейчас пройдет сквозь них, как сквозь туман.
Бес уже не мог его остановить.
Он уже вообще ничего остановить не мог.
Человек едва не наступил Бесу на черный утюг берца.
– Помочь? – только и спросил он.
Они вдвоем взяли бесчувственного Зубра и перетащили на кресло. Уложили. Спина перегибалась через спинку кресла, голова закидывалась куда-то далеко. Вот-вот шея сломается.
– Ему неудобно, – хрипло сказал Бес.
Его запоздало затрясло.
– Другого выхода нет, – сказал человек. – Он простудится, лежать на граните.
– Спасибо вам, – сказал Бес.
Минуту сидели, смотрели на Зубра, друг на друга.
– Вы вызвали «скорую»? – спросил человек.
– Да.
– Меня тут должны встретить. Мы задержались. – Глаза человека быстро, колюче обежали пустой зал. – Вы тут не видели никого? Именно тут, в зале? Мы договорились в зале.
– Мы тоже встречающие, – сказал Бес и прокашлялся, так хрипело, клокотало в сухом горле.
– А! – сказал человек. – Вы кого встречаете?
Глаза человека были острыми, колючими, пронзительными даже; просверливали в Бесе две кровавых, черных дырки.
– Человека из Питера, – сказал Бес.
Вытер запястьем кровь с подбородка.
– Это я, – сказал человек.
Сверлящего взгляда – не спрятал.
– Вот видите, как получилось, – сказал Бес. – Простите.
– Ничего. Бывает.
– Зубр должен у вас что-то взять. Дайте это мне.
– Кто вы?
Человек из Питера говорил холодно, быстро, надменно.
– Я его друг. Мы – вместе.
– Хорошо. Я верю вам. Вот. Держите. – Человек из Питера быстро утопил руку за пазухой, быстро вытащил сверток и толкнул в руки Бесу. – Здесь деньги и диски. Этого вам хватит на первых порах. Диски держите в надежном месте. Вы в курсе, что телефоны ваши – все – прослушиваются?
– В курсе, – кивнул Бес. Спрятал сверток за пазуху, во внутренний карман. Похлопал ладонью по жесткой коже.
– Я не буду дожидаться с вами тут вашей «скорой», – ледяно, отчетливо сказал человек из Питера. – Я – лечу дальше.
– Куда? – глупо, тупо спросил Бес, глядя на закинутое, с открытым ртом, лицо Зубра.
– В Нью-Йорк, – сказал человек из Питера.
И улыбнулся.
И Бес увидел, что у него все верхние зубы, под небритой наждачной губой, золотые, просто антикварные.
– Как в Нью-Йорк?
«Зачем я глупости спрашиваю».
– Очень просто. Через Франкфурт. «Люфтганзой». – Он посмотрел на часы на широком волосатом запястье. – Через час. Пойду. Надо успеть. – Похлопал по плечу Беса. Посмотрел на Зубра. – Пока. Увидимся.
– Пока. Увидимся, – эхом отозвался Бес.
Телефон проиграл красивую, нежную мелодию.
«Тонкая. Милая моя. Позвонила».
Он поднес телефон к уху.
Услышал милый, очень тихий, нежный голос, будто его владелица сама себе шептала что-то тайное, неслышное.
– Ося… Ты где…
– Тонкая, – как можно нежнее сказал Бес, – не волнуйся. Мы в аэропорту. С Зубром. Мы встречаем одного нужного человека.
– Встречаете?..
Голос таял, вился легким дымом.
– Уже встретили. Я – вечером – буду у Кэт. Ты тоже туда приходи.
– Осип… Ты… не выпил?.. случайно…
«О-о-о-о…» – тихо таяло в трубке.
– Случайно нет, – сказал Бес и улыбнулся. Улыбка вышла кривой, но веселой. – Не волнуйся, прошу тебя.
В трубке уже толкались, прыгали гудки, когда он говорил:
– Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Так…
Он помогал санитару нести Зубра в машину «скорой». Зубр лежал на носилках, как старый рыцарь или древний святой, будто его уже несли с почестями хоронить. Бес пощупал ему пульс. Пульс нашелся, и Бес внезапно развеселился, стал весь горячий, как пьяный. «Выпить бы, выпить бы, водки бы сейчас, холодной, ледяной, да!..» Когда носилки погружали в машину, он оглянулся. Через разбитое стекло увидел: пришли милиционеры, набежали люди, и копошатся в зале, у разбитого окна, и руками машут, и выкрикивают что-то.
Бес подумал: нам повезло.
Нам всем страшно свезло.
Зубр – жив. Он – жив. Человек из Питера – жив; и все им передал, что ждали.
А Нью-Йорк? Что Нью-Йорк? Ну, летит этот перец в Нью-Йорк. Он тоже когда-нибудь полетит.
На каменном заборе автостанции около его дома пацаны написали аэрографом: «ЛЕТОМ ЛЕЧУ В АМЕРИКУ!»
Все вранье. Ты не полетишь. И никто не полетит.
Полетит тот, у кого много денег, так-то.
Трясясь в рвотном брюхе «скорой», Бес всунул в рот сигарету, но не закурил. Так сидел, трясся, держал Зубра за руку. Пульс, бейся, бейся давай. Не прекращайся. Довезут. Спасут.
А у его мачехи сынок, вроде как его сводный брат, от другого отца, не от его, он и видел-то его в жизни всего два, три раза, чеснок такой форменный, глазки ясненькие, мордочка чистенькая, выхоленный знайка такой, зайчик-побегайчик, учится сейчас в Нью-Йорке, да. В Нью-Йорке. В университете. На доктора учится. Ну чеснок натуральный. До-о-о-октор.
– Доктор… фон Гон-Гаген, – сказал Бес и перекинул сигарету языком из угла рта в другой. – Доктор… Лектор. Зубр! Ты не умирай. Мы с тобой в Нью-Йорк полетим. И там, в аэропорту… в Джей Эф Кэй… знаешь как оттянемся?! Зубр! Не знаешь даже! Там ведь можно жить, в аэропорту-то. Там – можно ночевать. Мы будем там ночевать… спать… покупать ихние говенные сэндвичи или что там еще… и с их мыльным теплым пивом – м-м-м!.. за милую душу… А еще… будем там девочек снимать. Мулаточек… Знаешь, какие мулаточки красивые? Не знаешь. – Будто он сам знал! – Там ведь весь мир толчется, не то что здесь у нас… провинция… – Он зло, нарочно разжевал сигарету, и табак облепил ему язык. – Весь мир, понимаешь!.. – Сплюнул. – Весь – мир… А потом, из аэропорта, каждый день, мы будем ездить в Нью-Йорк… и смотреть на него… на небоскребы эти противные… и гулять по нему… В Сэнтрел Парк пойдем… говорят, там белочек народ прямо из рук кормит… И вообще, Нью-Йорк, это же классно! Он уже наш, Зубр, говорю тебе, он наш… Зубр… Эй… Ты не спи, давай, давай, просыпайся…
Он тряс его за руку, а машина тряслась, катилась вперед.
Окошечко в кабину водителя открылось, и врач, вывернув кудрявую крашеную голову назад, остро блеснув алмазом сережки, спросила Беса:
– У пострадавшего паспорт с собой? Полис?
В кабине водителя мяукнул котенок.
Санитар вез домой котенка. За пазухой.
– Тихо, кисенок! – засмеялся санитар и сказал врачице радостно и гордо: – Ты гляди, кусает меня за палец! Уже – хищник! Британец. За сто долларов купил!
Бес ничего не слышал. Он держал за руку Зубра и тихо, настойчиво говорил ему, упрямо, тупо, монотонно:
– Ну давай, давай, давай, просыпайся, давай.
СМЕРТЬ КОТА
Каждой ночью бился в стены
Звал кого-то снилась стая
Зверь впервые так растерян
Зверь впервые умирает
Сжало сердце странной болью
Негде скрыться от удара
Беспощадною рукою
Ночь свободу вырывала
Он смотрел в глаза с тоскою
Замирал борясь с отчаяньем
Я такой же я с тобою
Зверь ответил мне молчаньем
Осип Фуфачев (Бес), группа «Черный дождь», «Зверь»
Пушистая шерсть, и черные полосы поперек, и глаза хищные, зелено-ночные, а рожа добрая, добряк, добрее не бывает. Шире варежки рожа; пух на щеках торчит, как нечесаные бакенбарды; а когда зевает, розовый шершавый язык заворачивается в смешную розовую трубочку, в такой ресторанный завиток ветчины.
Глаза горят! Зеленым фосфором, подземным ужасом, веселым хулиганством…
Любовью, любовью к нам, людям, горят-пылают.
И не мяукал – разговаривал: длинно, витиевато, вот так: мурн-мряяууу-мрак-мрак-мааауа!.. миаааууу… мр-р-р-рнн-ах…
Будто речь толкал. На митинге. Или в церкви проповедовал.
Кошачий Бог, отчего ты его не спас?
Или просто его время пришло?
Нет. Не пришло.
Мы его сами убили.
Кота звали Марс. Марсик.
Он появился на свет у нас дома.
Под кроватью. Его наша кошка родила.
Кошку мы нашли на улице. Она была еще котенок. Котенок бежал по мосту через Почаинский овраг, маленький пушистый бело-рыжий комок, и подбежал близко к краю, и вдруг сорвался, стал падать – и только коготочками передних лап за край моста зацепился! Я кинулась, подхватила котенка: вовремя. Он дрожал мелко, будто сильно замерз. Муж стоял, смеялся, смотрел на меня с котенком на руках. А тут подошел знакомый художник, Серега Ледков. Он тоже заржал, вытянул измазанный краской палец и воскликнул: «Эх, ребята, с пополнением вас! Котик в дом – прибыль в дом! Берите! Без раздумий! А красавец какой! Трехцветный!»
Мы принесли трехцветного котенка домой.
Да у нас дома-то и нет, живем мы в мастерской. Муж у меня художник. Очень хороший художник. У него картины живут, плывут, как лодки, светятся, как самоцветы. И мне кажется, все вокруг слепые, и его картины в упор не видят.
Что нужно, чтобы прозреть? Операция? Чудо? Воля?
Или – другое время и другие люди?
Муж мне говорит, когда ляжем спать, прижмемся друг к другу в холодной комнате, под старым одеялом: знаешь, а так все художники жили. Всегда. И мы – не исключение. Это просто судьба такая. Его... надо отработать.
Что, кого его, кого отработать, шепчу?
Счастье. Счастье быть на свете художником, отвечает. И обнимает меня теплой рукой за плечи, трогает, как чистый холст, живот. И я закидываю ему руки за шею и прижимаюсь к нему.
Мы греем друг друга теплом своих тел, и мне кажется, на нас, сверху, лежит не легкое, вытертое временем одеяло: лежат развернутые, закрашенные и чистые, грунтованные и негрунтованные холсты.
А за окном, низким, почти над землей, – ночной грязный снег, цветные звезды в ледяном небе.
Живем в мастерской, уже много, очень много лет… а квартиры все нет, и вряд ли будет. У нас миллионов рублей нет, чтобы квартиру купить.
Среди красок живем, банок и тюбиков, среди запаха скипидара и лаков… среди холстов, завернутых в рулоны, среди бумаг и картонов. Среди подрамников и старых рам: денег нет на новые. У меня отец тоже был художник, от него остались старые работы, они выпадают из старого багета, как старые зубы. Все шуршит, падает, летит, горит, дырявится, плавится. Мастерская. Старая мастерская.
И наша жизнь горит и падает. И рвется, рвется, как бумага. И разрывается, как холст под острым мастихином. Под пьяным ножом.
Принесли, значит, котенка домой. «Котик какой отличный! – завопил сын, Осип, котенка увидев. – Грудка беленькая!»
Ну, назвали котенка Шуркой. Александр – гордое имя.
Александр Македонский. Александр Пушкин. Александр Третий, царь. Круто!
И вот растет, растет наш котик. «Шурка, Шурка!» – кличем его. Отзывается. На зов бежит. Аккуратненький. В тазик писает. Красочки не опрокидывает, тюбики не грызет. И, странно, нежненький такой, изящный. Однажды мы ему взяли и под хвостик-то, любопытствуя, заглянули. И что же?
«Мать твою, кошечка», – досадливо сказал муж. И добавил: «Если бы курил, то закурил бы. Ведь ты даже не понимаешь, что нас ждет!»
«Кошечка, ну, ведь можно это самое, прооперировать», – осторожно сказала я, уже зная ответ.
«Никогда! Все должно жить истинно! Как живет! И мой… моя Шурочка будет нормальной кошкой! Она будет трахаться с котами и рожать котят!» – сердито и весело возгласил муж.
Хорошо, что другое имя давать не придется кошке, Шурка – это ж ведь и бабенка тоже, не только мужичок, грустно подумала я – и весело рассмеялась.
Ну понятное дело, бабеночка эта в возраст вошла – и выпрыгнула из форточки на улицу, и соседский кот, по имени Матвей, рыжий, вечно шатающийся, как пьяный мужик, прямо перед нашим окном ее покрыл. Шурка визжала на всю округу.
Понесла. Живот Шурочкин раздувался, я старалась кормить ее получше, повкуснее. Покупала ей в магазине на краю оврага – мы смешно звали магазин: «башмак» – баночки такой специальной кошачьей снеди, «Китикет» называется, и еще «Вискас». «Ваша киска купила бы «Вискас»! – сладким голосом вещала из телеящика реклама. «Ешь, ешь, Шурка, жри давай, – приговаривала я, – ты должна родить отличных котят, героев…» У кошки трясся от жадности хвост, я глядела на ее ходящие ходуном, широкие, круглым бочонком, бока.
Этот день настал. За окном, как сфинкс, тоскливо сидел рыжий Мотя. Шурочка долго металась по мастерской, опрокидывала банки с красками, краплак и индиго лились на дощатый пол, скипидар шибал в нос, муж тихо матерился. Кошка нашла себе родилку за старым диваном. Обивка дивана была вся в дырках: это Осип и его дружки курили, сигаретами прожгли.
Я слышала, как кошка, угнездившись за диваном, слабо кряхтела в тишине.
Потом услышала тонкое попискивание.
Заглянула осторожно за диван. Кошка умиротворенно лежала на боку, подняв высоко лапу и защищая ею два живых комочка. Один комочек был рыжий, другой – черный.
Сколько у нее там, нервно спросил муж, не рискуя заглядывать.
«Два, кажется», – робко ответила я. Поманила мужа пальцем.
Мы оба склонились и нежно смотрели на кошку и на котят, как на святое семейство.
Подошел Осип. Просунул голову между нашими головами и тоже смотрел. Довольно сказал: «Если черный – это кот, мой будет. Я назову его Черный Мамбо».
Тихо, еле слышно чмокали котята.
Муж пошел в «башмак», купил водки маленькую, 375, мы сварили пельмени, посыпали их черным и красным перцем и отметили это дело.
Ну и вот. Котята пищат. Мы на них смотрим, на слепых. Настал день – они прозрели. Глазенки сверкают: живые ягоды в шерстяных кустах. Шурка оказалась мамашкой очень заботливой. Вылизывала их все время. Кормила без перерыва. Бесперебойный, упорный насос жизни. Муркала над ними, причитала, фырчала на разные лады: поучала, учила жизни.
Жизнь, да... все маленькое, слабенькое, первенькое, что человечек новорожденный, что тварь любая, хочет жить. Жить! А не умирать.
Я вот не представляю себе, как топят котят.
«А как убивают людей, вы не представляете?!» – страшно, весело смеялся Осип, поблескивая желтыми от страшного курева зубами.
Я этого тоже не представляла. И не хотела, главное дело, представлять.
А вот они все – хотели. Дети. Наши дети.
Осип – не мой сын. Я его вырастила и выкормила. Когда его родная мама, первая жена моего мужа, умерла.
Умерла она тяжело и плохо, в далеком сибирском городе, на лютом севере, одна, дикой зимой, мороз под пятьдесят, в плохой больнице, под старый Новый год, когда уколы медсестры не хотели даже за деньги делать, а хотели пить, гулять и веселиться, от души, по-сибирски, с самогоночкой, груздями солеными и чиром копченым. Умирала страшно, одиноко, глухо, лучше в тайге на зимовье, рядом с голодной собакой, умереть. Я часто видела такую картину: она лежит, лицом вверх, глядит в потолок, губы закусила от боли, а за стеной, далеко, в ординаторской, или там в сестринской, не знаю, гудят, поют, стучат, танцуя, каблуками об пол, и опять выпивают и голосят.
Старый Новый год! С тех пор муж невзлюбил старый Новый год. В старый Новый год он покупал водки, большую бутылку, ноль семь, и выпивал ее один, и закусывал мало, чтобы тяжело и крепко опьянеть. Нет, не один. Я тут была, с ним. Я немного помогала ему, толклась возле стола со своей маленькой стопочкой. Он плескал мне в стопку водки, зажмуривал глаза и цедил: «За всех наших… покойных!..» – и опрокидывал стакан в рот стремительно, будто пожар внутри заливал.
У мужа отец его, сибирский казак Осип Ефимыч, тоже умер в старый Новый год.
И он поминал отца и первую жену вместе, в один день. Вернее, в одну ночь.
Маму Осипа звали Гуля. Гулю из большого сибирского города отвезли, в гробу, в КАМАЗе, в другой сибирский город, маленький, скорбный, тоскливый, на высоком берегу Ангары, и похоронили на старом заснеженном кладбище. Муж и Осип тогда там были, сами ее и хоронили. Вернулись оттуда мрачные, убитые. Долго не могли отойти. Осип научился тогда пить водку. Помногу, как взрослый. Муж бросился писать картины. Живопись развлекала, спасала его. Написать картину – тяжелая работа. Хуже иной раз, чем дрова пилить и рубить.
Он пилил подрамники, рубил ножницами холсты, рубил, казак, головы нарисованным всадникам, взрезал мастихином рыбье брюхо белого, свежего полотна. Вынимал из брюха живую, черную, сверкающую, кровавую икру жизни. Окунал в нее лицо. Пил скипидар стаканами. Закусывал красным краплаком. Занюхивал грязной тряпкой, которой кисти вытирал. Он жил, он хотел жить, он писал жизнь, писал, как сумасшедший, рыб, птиц, коней, и потом, отпрыгнув от холста, кричал: «Это все никому не нужно! Меня никто не понимает! Кто все это купит?! Никто! И никогда!»
И садился на пол перед замазанным холстом.
И я вытирала ему мокрое лицо вонючей пестрой тряпкой.
И говорила ему молча: я тебя люблю, ну что ты. Ведь и мы когда-нибудь умрем. Зачем тогда плакать. Работай. Пиши. Лови рыбу. Седлай коней. Стреляй птицу. Ты казак, и сын твой, Осип, – казак. Вы у меня два казака; а я ваша баба, и нет у меня другой судьбы.
Иногда муж во сне стонал: «Гуля, Гуля…» – и метался, головой елозил по подушке, вспоминая во сне дорогое, исходя в бессознанье бесслезной печалью. Я гладила его по лицу, по груди. В ночи, в тусклом свете фонаря за зашторенным окном, я видела, какие у него на груди седые волосы, какая седая борода, серебряные виски. Тусклое старое серебро. Серебряная стопка казацкая, полная зимней водки.
Старый уже мой, родной мой…
За чье здоровье выпить? За чью жизнь?
За детей, конечно.
А за смерть пить разве будем?
Помянем. Ушедших всегда надо помянуть. Они это любят.
Кошка под диваном вздыхала громко, как человек; котята тонко пищали, смешно крякали, будто не котята они, а утята были.
И стали котята расти. Подрастать.
Как все дети на свете.
Рыжий – оказался кошечкой. Его взяли наши знакомые. Богатые. Покупатели одной картины мужа. Однажды. Только раз купили, и одну – а на выставках виделись часто, такая славная, красивая парочка, бизнесмены. Прикатил на лимузине отец семейства, рослый, дородный, два золотых кольца на сосисочных пальцах, но не бычара, нет, лицо образованного человека, думающего. Щеки на воротник стекают. Как у бульдога. Улыбка радушная. «Как вы тут, ребята?» А у нас холодильник пустой. И даже хлеба нет. В холодильнике – коробка «Геркулеса» стоит одна. И все. Осип по этому поводу даже стихи написал: «Эх, Геркулес, Геркулес, ты зачем в холодильник залез!» Мы мнемся. «Мы-то? Да ничего!» Улыбчивые рожи делаем. Богатый дядька тоже улыбается сусально. «Ребята, у вас, это, никакого маленького этюдика не найдется? Для подарка». Муж аж весь просиял. Стал шарить в картонках своих. Его затылок веселый мне говорил, кричал: все, спасены от голодной смерти. Вытащил этюд, господин богатенький ногтем по засохшей краске довольно пощелкал.
Купил.
Деньги шуршали. Перебегали из рук в руки.
Наша еда. Наша жизнь перебегала.
И, когда он клал этюд мужа в сумку, я зачем-то, как иглой меня кольнули, сунулась: а вот вам кошечку рыжую не надо ли? Хорошая такая!
И котенка рыжего из-под кошки вытаскиваю, и ему в руки сую.
А он – на черного котенка глядит. На Черного Мамбо. Черный – к сиське мамки приклеился. Сосет.
«Мне бы вот черного. Это котик?»
И уже берет черного, и уже за пазуху сует!
И тут – в дверях – Осип. Мрачный.
Черного, зло так бросает, мне оставьте. Черный – мой.
Богатей наш прибалдел. Он-то думал – ему уже никто в мире возразить не может. Тем более тот, кто от него зависит. Кто ему служит. Художник ведь тоже служит ему, да!
«Мне черный больше нравится», – надменно, уже ледяным голосом проронил богатей. И прижал черного – к груди.
А Осип шагнул вперед.
И я ясно увидела на его лице надпись: СЕЙЧАС УДАРЮ, ЕСЛИ НЕ ОТДАШЬ КОТА.
И богатей – послушно – глядя Осипу в глаза – отцепил котенка от лацкана парадного смокинга и протянул ему.
А я тут же, рядом, наготове уже, вежливо стояла, лицо свое в зеркале напротив, белое, напуганное, видела, с потрескавшимися от соды и холодной воды руками, с рыжей в руках кошечкой.
2.
Он рос и вырастал, и становился из черного – полосатым.
Чернота исчезала, уступая место тигриным, по болотно-желто-коричневым бокам, по светло-палевому брюху, темным, живым, извивающимся, как змеи, полоскам. Только спина по-прежнему оставалась густо-черной, дегтярной.
И звали его уже не Черный Мамбо.
Я назвала его – Марсик: так в нашем семействе, у бабушки, всех котов всегда называли. Марсик, Мамбо, ты, Ося, не огорчайся, все равно с буквы «М». Ну разве мы негры, чтоб у нас – Мамбо? Марсик – это по-русски. Марсик, Марс, бог войны или чего там? Планета такая есть. Красная планета. Далеко от Земли в ночном смоляном небе висит; ее можно увидеть не только в телескоп, а – невооруженным глазом.
Не-во-о-ру-женным…
Вооруженный глаз. Вооруженная рука. Вооруженные отряды.
К оружию, граждане!
Наши дети хотели, чтобы революция пришла как можно скорее.
Чтобы как можно скорее на улицах появились толпы тех, кто пришел рушить и убивать старый, это значит, заевшийся богатый мир. Вот таких вот богатых дядек с золотыми перстнями на пухлых пальцах.
А мы почему-то с мужем этого не хотели.
Почему, вопил нам Осип, ну почему, почему?! Ведь глядите, как вы живете! Двадцать лет живете в мастерской, хотя в мастерских не только нельзя жить по закону; тут вредно жить, вредно, вы понимаете это или нет! Тут скипидаром воняет! Тут землей пахнет! Тут от сырости – плесень по стенам танцует! А квартиры у нас нет, и никогда не будет! Потому что жилье себе могут купить только богатые, вы понимаете это, бо-га-ты-е!
Он кричал нам это: «Бо!Га!Ты!Е!» – по слогам. Он втемяшивал это в нас, в наши картонные головы. Он орал: «Вы идиоты! Ну вы не подниметесь – другие поднимутся! Сейчас, уже скоро, вот-вот!»
Муж спрашивал: «А вождь у вас есть? Чтобы вас поднять?»
Не вас, а нас, орал Осип! Вы все делите на нас и вас, а надо – на нас, на страну, и на них, у кого власть!
«Что же вы хотите? – устало спрашивал отец сына. – Что вы конкретно, блин, хотите?!»
Он тоже срывался на крик.
«Мы?! Хотим?! Что?! Да смерти мы хотим!»
«За что?!» – орал отец.
«За нашу грязь! За нашу помойку! За то, что вы так вот живете и будете жить! – орал Осип. – Мы будем у них брать власть, а они что, возьмут и так просто ее нам отдадут?! Да никогда! Никогда! И мы на смерть пойдем! Но власть у них возьмем!»
Муж внезапно опускал плечи, они сдувались у него, как резиновый детский спасательный круг.
«И вот вы возьмете власть… и что?» Его голос становился бесцветным, ровным. Пустым.
«Ничего! – орал Осип. – Ни… че-го…»
Тоже замолкал, чувствуя, как оседал, падал куда-то на дно, как топор, отец.
Молчание висело в мастерской табачным дымом, таяло. Я стояла у плиты, варила гречневую кашу. Каша получалась размазней и не хотела, проклятая, рассыпаться. Воды я перелила, что ли? Кошка терлась лбом о мою ногу.
Марсик сидел на стуле, глядел на меня круглыми, как крыжовничины, ярко-зелеными глазами. Следил, как движется от кастрюли ко рту ложка с кашей.
Я наклонялась и клала кашу в миску Марсика.
Он будто нехотя спрыгивал со стула и подходил к миске.
У них с Шурочкой были разные миски: у Шурочки – с цветочком, у Марсика – с двуглавым орлом. Цветочек и орла муж сам нарисовал, масляными красками.
Молодой кот; молодой и красивый. Вырос – и в форточку! И – на улицу!
В мир, где: кошки, трава, снега, сугробы, жучки и черви, и ветки колышутся, и страшные машины кошек колесами давят, – а все равно здорово.
Живой кот должен жить живой жизнью. Он мужик, и у него есть яйца. И он должен мутузить кошек и продолжать род!
Марсик, молодой и красивый. Молодой, красивый, дерзкий, полосатый, – юный тигр, Марс, бог войны и любви, ха! Вся округа твоя. Гуляй, задравши хвост! Морда у тебя изумительная! Все кошки уже тоже твои. И бабушки на лавочках – твои! Они тебя любят! Лепечут над тобой: вот тебе, Марсик, возьми, поешь! На газетках, в пустых консервных банках тебе жратву выносят царскую: куриные косточки, рыбьи головы, кто и молочка нальет от души.
Будто мы его, сволочь такую, не кормим!
Кормим, и еще как. Да молодое сильное, полосатое тело просит еды.
Ну да, и у нас не всегда еда бывает... когда и картошку на воде жарим...
А коту нужно мясо, мя-а-а-а-со...
Охотник ты, кот, ты мужик, охоться! И он охотился. Птичку однажды притащил в зубах – воробышка, и его терзал, таскал по мастерской, воробей несчастный, обреченный, пищал дико, потом утих, голова набок, и только хруст слышен. Хорошо кот позавтракал, славно. Я потом искала пятна крови: нет, нигде не было. Только перышки валялись по половицам… и то немного, два, три. С перьями воробья сжевал, зверь.
Шурочка, мать, недолго матерью его была – пока малютку Марсика кормила. Как он возмужал – она его женою стала. Он и ее, как дворовых кошек, тоже иной раз за шиворот зубами по полу таскал. Ну куда деваться. Я понимаю, нехорошо. Кровосмешение. Инцест, по-научному выражаясь. Ну куда, куда денешь природу? Один умный сказал: гони природу в дверь, она войдет в окно.
Наши кошки выходили в окно, в форточку, низко над землей, и входили в него же. Окно в жизнь. Окно в юность.
Две молодые кошки: молодая кошка и молодой кот, свежие, гибкие, глаза горят, морды лоснятся.
Берегитесь, жирные голуби!
Ты умер. Тебя убили. Я знаю, как тебя убили, хоть я и не видела, как тебя убивали.
Прости меня, кот, пожалуйста, прости.
Прости, если можешь.
Душа твоя котячья видит, как я тут плачу. Разве по кошкам плачут? Разве по зверям вообще плачут? Это я уже загнула, да. Люди узнали бы – посмеялись бы надо мной.
Но люди глупые. Они не знают, что у зверей тоже есть души. И есть живые сердца. И что они думают тоже. И мыслят. И страдают. И плачут они, как мы. И – любят.
Любят они чище, лучше, крепче, сильнее, чем мы. Невозвратней.
Кот мой, кот, первенец, под диваном молодою Шуркой рожденный.
Ты слышишь меня, котяра? Слушай, как это было.
Я ведь знаю. Меня не обманешь. Не проведешь меня. Не заговоришь мне зубы.
3.
Осип с дружком, с Культпросветом, работали, деньги хотели заработать большие. На стройку ездили. Тяжести таскали. Красили-мазали. С утра до ночи. Им деньги хорошие посулили, а когда пришла пора выдавать заработанное – подло, обыкновенно обманули. Сунули им в руки немного жалких бумажек, ухмыльнулись криво: благодарите, что хоть так расплатились, и давайте шпарьте отсюда, чтобы духу вашего тут не было, ну, живо?! И Осип и Культпросвет – что ж, развернулись на сто восемьдесят и ушли, а что оставалось делать. Их, хозяев и их прихлебателей, было много, человек пять, или шесть, или даже семь, а их было двое, и они были безоружны.
И пришли Осип и Культпросвет – куда? Не в мастерскую, нет.
Они пошли к Кэт, к этой лупоглазой потаскухе, что рядом, через двор, живет, что их, бедняг, юных собачат, приворожила. Спит она с ними подряд со всеми! А если и не спит – то там такая богема у нее! Вольница. Делай что хочешь. Видела я однажды эту Кэт. Крашеная сучка. Молодится изо всех силенок. Я бы на ее месте уже давно сидела в кресле, ножки на грелке, и вязала носок. А она туда же: плечики из декольте дешевого торчат, сигаретка в зубках золотых, волосенки крашеные надо лбом – колтуном взбитым, как петуший гребень. Дешевка! И на Осипа сладко так посматривает. Ну сука и сука.
Я Осипу тогда сказала… Он и слушать не стал.
Явились к Кэт. Закурили, как всегда. Засмолили – хоть топор вешай! Кэт на гитаре бренькала. Культпросвет «козьи ножки» крутил, из рассыпного табака и газеты «Город и горожане». Потом пришел Кузя-хромоножка.
– Когда у тебя нога-то поправится, Кузя? – крикнул Осип сквозь гитарное бренчание Кэт.
– А когда рак свистнет! – радостно возгласил Кузя.
– Кузя, у меня есть бабло! – крикнул Осип.
– Бабло? Это классно! – крикнул Кузя в ответ.
– У Культпросвета тоже есть! – крикнул Осип.
– А-а-а! Превосходно! – крикнул Кузя.
– И у Белого есть! – крикнул Осип.
– Ну вы, пацаны, в натуре! – крикнул Кузя и сложил пальцы рогами.
– Кэт, перестань тренькать на балалайке! – крикнул Осип.
– Ну вы че, пацаны! Это ж музыка какая! – крикнула Кэт, не переставая фальшиво и нагло играть на гитаре.
Осип подсел к Культпросвету.
– Культ, ты…
Не договорил: в проеме двери стоял, колыхался, как ковыль в степи, Белый.
– Белы-ы-ы-ый! – заорал Осип.
– Бе-е-е-е-ес! – заорал Белый.
Обнялись.
– На шашлычки завтра пойдем? – выкрикнул Осип и сильно хлопнул Белого по плечу.
– Ты! Мне! Плечо сломал! – крикнул Белый и согнулся, схватившись за плечо и кривя бледное смеющееся лицо.
– Кэт! Хватит! – крикнул Осип. – Ты не Мария Луиза Анидо, блядь!
Кэт бросила гитару на диван, она соскользнула с дивана и шмякнулась на пол со звоном.
– Ты! Я из-за тебя гитару разбила!
Сидела на полу, уже хлюпала носом, гитару гладила, как кота живого.
– Ну Бес он и есть Бес, – Белый сел рядом с Кэт на корточки. – А вот шашлычки, это хорошо. Пойдешь завтра с нами на Откос?
– Не пойду, – сказала Кэт, шмыгая слезным соленым носом. – Мне завтра в лазарет, на обследование, мать его за ногу.
Осип сел на край дивана рядом с Белым. У них в руках было по банке светлого пива.
– Белый, есть одно дело. Белый, а?
Белый сразу понял, печенкой почуял: будет денег просить.
– Белый, мне надо бабок… Я отдам…
Белый хлопнул себя пальцами об ладонь и свистнул.
– Так я и знал!
– Дурень…
Осип уже улыбался, потому что видел рожу Белого. Рожа Белого ясно говорила: ну дам тебе, одолжу, конечно, ну мы ж друзья, ну ясен перец.
– Я хочу пистолет купить, вот, – сказал Осип, радостно, глупо, счастливо, всеми зубами улыбаясь. – Он же и для нашей борьбы пригодится.
– Ядрена таратайка, пригодится, – сказал хрипло Белый и стукнул весело Осипа по плечу.
Как он покупал пистолет, я тоже знала. Видела. С рук, по-черному, в старом гнилом гнусном подъезде, у пьяного мужика, которому все равно было, что он продает, пистолет-то был краденый, а мужику лишь бы денег дали. Мужику дали краденый пистолет и сказали: вот, настоящий, дорого продай. Врете, какой настоящий, это же газобаллонный! – так подумал пьяница про себя, но говорить это ворам не стал, а под полу заховал и головенкой закивал: продам, а как же, и денежки верну, а как же, ребятишки, все путем будет, не волновайтесь.
Они и не волновались.
Они просто не явились ни завтра, ни послезавтра за деньгами, вообще никогда.
Их, воров, почти всех отловили менты; а один утонул в зимней проруби, пошел с другом на подледный лов – лед под ногой и поехал, и булькнулся он в ледяную, черную реку, и сразу с головой ушел, не спасли.
И пьяненький мужичонка, с этим стволом, то ли газовым, то ли газобаллонным, да из него тоже ж убить-то можно, спокойненько причем, то ли нормальным, с патронами и настоящими пулями, он и сам не знал, да разве ж он смог бы его попробовать – и на ком? на псе соседском, блохастом? – не знал, что ж делать-то: то ли ждать пропавших воров, то ли продавать ствол самому.
Душа неистово желала спиртного.
А тут продавцы, Ванька, наверное, кто ж еще, парня прислали.
И морда у парня такая… просящая.
На жалость бьет. Деньги смешные. В кармане мнет.
Но ведь эти-то пропали! Точно, замели их, мать-ть-ть…
А выпить очень хочется.
Мужичонка, трясясь всем телом от радости, и отдал Оське пистолет.
И Осип – взял, тоже от радости трясясь.
Они оба тряслись от радости.
Потные бумажки перетекли из юных рук – в старые, костлявые руки.
4.
Кот, а помнишь, как мы веселились?
Как ты веселился! И нас веселил.
За одну только радость, что ты дал людям, я буду за твою котячью душонку молиться: пусть моему коту на небесах будет хорошо!
Я не знаю, грех ли это, за зверя молиться. Но я молюсь, провались все на свете. И молиться – буду. Не запретишь.
Ты был отличный мышелов. У нас в мастерской водились мыши. Иной раз и крысы приходили, противно, ужасно верещали за картонной стенкой. Кричали, как обиженные дети: «У-а-а-а! Уи-и-и-и!»
Ты был силен и молод, Марс. Ты выходил на ночную охоту. Ты ловил мышей и играл с ними, слегка придавливая зубами; натешившись, приносил уже неподвижную, уже мертвую – от страха мертвую – мышь к ногам мужа, мрачно сидящего в старом кресле перед начатой картиной. Клал мышь, вываливал из зубов на пол. На, мол, хозяин, подивись, какой я ловкий! И я тебя угостить пришел, вот.
Муж улыбался волей-неволей. Нельзя было не рассмеяться. Кот сидел как вкопанный, мышь лежала на полу. Кот ждал благодарности.
Муж брал его на руки, тяжелого, пушистого, молодого полосатого тигра, и чесал ему за ухом. И Марс запевал песню.
Он пел, мурчал, фыркал на всю мастерскую. Это была песня любви и победы.
Так он изловил и сложил к ногам нашим тринадцать мышей.
Тринадцать, я иногда думаю: двенадцать и одна, может быть, у мышей, у кошек, у зверей есть свои учителя и ученики, свои святые и грешники? Свои – боги?
Кто такая на земле бессловесная тварь, если мы не можем ее понять, если она глядит нам в глаза так смиренно и жалко и любовно, и она-то нас – понимает?
Она. Нас. Понимает.
А мы – ее – нет.
Вот где ужас. Вот где – меч нас разрубил.
Навек?
А может, придет еще время, и мы…
…и мы обнимем друг друга в саду, где на ветвях пахучие цветы, и абрикосы и помидоры и золотые яблоки и земляника вперемешку, и тигр сядет у ног, мурлыкая нежно, и лев будет тереться кудлатой головой о щиколотки, и жираф, ломая башенную шею, есть из ладони, и черная пантера, моргая синими, как сапфиры, глазами, разрезом похожими на персиковые косточки, будет читать чужие печальные мысли и улыбаться белыми, снежными зубами, и с языка ее, розового, как рассвет, будет капать радостная сладкая, как мед, слюна?
И кот наш, милый кот, первенец, полосатый, сибирский, спокойный как царь, Марс, Марсик, Марсюта, живой и невредимый, будет в том саду сидеть у меня на плече, – а напротив нас будет стоять Осип, и в руке у Осипа будет дрожать, как живой, пистолет, и кот засмеется, как человек, и человечьим голосом скажет: «Брось пистолет, Ося, брось, тебе говорю». И Осип, дрожа, как в болезни, как от озноба, швырнет пистолет, бросит далеко от себя, – и треснет, сломается он, железный, и раскатятся по нежной траве, как по ковру, медные пули, и сядет Осип на корточки, согнув спину, уткнет лицо в ладони, – а кот с моего плеча, вцепляясь мне в кожу живыми когтями, скажет, и слышно на весь сад цветущий будет: «Я тебя прощаю».
И будет кот глядеть, как плачет человек.
И буду я…
5.
Закрываю глаза — и вижу.
Лучше бы этого не видеть.
Но вижу все равно.
Они были все уже пьяные в дым. На ногах не стояли. Трезвей всех был Культпросвет. Он еще владел собой. Остальные уже плавали в полутемной комнате, как в аквариуме, и сизый, синий дым плавал между шкафов, полок и бутылок вместе с ними.
– Т-т-ты-ы-ы-ы... Ска-жи-и-и-и!..
– Я т-т-т-тебе щас скажу-у-у-у... у-у...
– Да попаду!.. да с одного... раза-а-а-а...
– А!.. врешь...
– Встань!.. Возьми в рук-ку буты-ы-ы-ы...
– Я что, с ум-а-а-а?!.. сошел...
Они были пьяны в дым, и они передавали пистолет из рук в руки, как священную игрушку, как тотем, как великий царский знак власти; да, это сейчас — и навсегда — была их власть, их победа, их смерть, что для них важнее жизни, – и тяжесть оружия оттягивала руку, и они наслаждались, да, по правде наслаждались этой тяжелой, железной смертью в юной руке. Возьми ты!.. Нет, возьми ты. Подержи, дурак. Ах-х-х-х, какой красавец!.. Т-т-т-т-ты... Ну дай... Не дам. Я сам хочу. Выстрелить? Да легко! Ах ты стрелок! Да, я стрелок. Я! Да-а-а-а! Я великий стрелок!
Ну т-т-т-ты и вра-а-а-ать... Я?! Вра-а-ать?! Да я... в движ... в движу... в движущую... мише-е-ень... В движущую-ся, грамоте-е-ей! Хеха-а-а-а!.. В дви... насрать!.. Дай! Да-а-а-а-ай!
Ну ты... локтем-то в рожу мне заче-е-ем!..
Ничо твоей драгоценной роже не-е-е-е...
Дай!
На...
Их руки были жадные. Их глаза были жадные. Они хотели стрелять. Они хотели стрелять на только в картонную перегородку; не только в вазу на старом обшарпанном пианино; не только в глаз человека-собаки, нарисованной Осипом и Культпросветом на бессмертной картине «Человек-собака на фоне рейхстага». Они хотели стрелять в живое. В то, что движется, бежит... убегает.
Убегает — от смерти.
А смерть такая быстрая. Смерть быстрее, чем жизнь.
И они — властелины смерти. Хочу — подарю жизнь! Хочу — отниму! Разве это не...
Это же счастье-е-е-е! Это ж такой балде-о-о-ож! Ка-а-а-а-айф! Супе-е-е-е-ер!
Я вижу все. Но крики усиливаются, и дым густеет. И в общей свалке молодых, зверьих тел и перекошенных потоками дешевой водки лиц я не различаю, кто у кого выхватил пистолет.
Кто навел дуло. Осип. Белый. Культпросвет. Кузя. А может, Зубр. Я этого уже никогда не увижу.
И хорошо. И это благо. Это очень, очень хорошо. Мне не надо этого видеть. Не надо никогда.
Но то, что я вижу — я вижу ясно.
Я вижу — распахивается форточка. Стукает стекло, громко так: тук! – и трескается. Я слышу шум и шорох. Это кот домой возвращается, прыгает в форточку и грузно валится на подоконник, на все четыре лапы. Он гулял. Он весь в репьях и щепках. У него довольная, радостная, широкая как подушка, полосатая морда. Зелень глаз изумрудная. Изумруд раньше называли — смарагд. Смарагдовые глаза. Смородиновые глаза. Кры-жов-ни...
Кот прыгает на пол. Тот, у кого в руках пистолет, наставляет на кота дуло.
Дуло слишком близко к коту. Кот слишком рядом, он почти под пистолетом.
– С такого... ик!.. расстояния... слепой... ик!.. попадет...
Это Белый. Ага, стреляет не Белый. Стреляет другой. Не вижу. Вижу?!
– Ты че, пацан, в натуре?! Ты охерел?! Это ж зверь! Это ж живой зверь! Да его щас...
– ТВОЙ ЗВЕРЬ.
Кто это сказал? Таким ледяным, трезвым голосом? Кто? Я сама?
Но меня же тут нет. Нет меня!
Кот поднимает было радостную, гуленую, исцелованную соседскими кошками морду к тем, кто качается в мареве дыма — и чует неладное. Он пришел домой! И не домой. «Надо бежать», – промелькивает зеленая молния в его внезапно ставшими дикими, настороженными, крупных, ягодных глазах. Он собирается. Он пятится. Он...
Дуло следит за ним. Дуло ведется туда, куда кот идет.
В глазах кота собирается, загорается ярко-золотыми точками свет. Я вижу этот свет. Я понимаю: это свет прощания. Кот понял: они все пьяны, они опасны, они все – смерть, и бесполезны здесь мяуканья родства и ласка, об ногу башкой потереться, хрюканья и царапанья, просьбы и прощенья. Ничего этого уже нет. И не будет.
Чужое, страшное логово, читаю я в глаза кота. Страшное. Здесь смерть. Надо бежать. Надо драпать! Прыгать! Форточка — открыта!
Дым уползает, улетает в форточку, в ночь и тьму.
– Дви-жу-ща-а-а-а... я-а-а-а... ся-а-а-а...
– Стреляй!
Я слышу крик. И я не вижу, кто кричит.
Кот прыгает. Полосатое, сильное тело пружинит. Дуло вздергивается, как башка змеи.
Занавеска отлетает. Задние ноги кота вязнут, путаются в занавеске.
Глотка чья-то истошно вопит:
– Ты дура-а-а-ак!
И хлопок. И кот, внезапно обмякнув, как куль, падает.
Цепляясь когтями за занавеску.
И карниз трещит.
И в занавеске дыры, дыры, дыры, длинные дыры-ы-ы-ы...
– Ты, на хер, что сдела-а-а-ал!..
– Не твое собачье... я испро-о-о-о... бовал... движ-ж-ж-ж...
Я вижу — из простреленного бока кота льется кровь. Кровь пачкает пыльный подоконник. Головой кот сбивает пустую бутылку. Она валится на пол и катится, как граната, под ноги пацанам.
И я вижу — кто-то отшвыривает бутылку ногой. И она летит в ребра батареи. И разбивается. И стекло — во все стороны, как зимний фейерверк в садах гуленой царицы Екатерины.
– Кот, – слышу шепот, – кот мой... родимый... Марсик... мой...
А, это я сама шепчу. Кому? Зачем?
Я вижу — они все, разом притихнув, оцепенело глядят, как кот дергается, хватает лапами занавесь, куда-то лезет, жмурится, открывает рот, не мяукает тихо — кричит в крик, как человек: а-а-а-о-о-о! – и опять лезет, лезет, лезет вверх. Кот, зачем ты лезешь на небеса?! Кот, у тебя же нет твоих небес! Там только снег. И лед. И сухая земля. И жара. И колючие репьи. И вечный ветер. И снова зима. Там земля. Земля, кот. Земля, и она примет тебя, и в ней ты сгниешь. И больше ничего.
– Ма-а-а-арс!
Кто это кричит? Я не вижу. Я вижу: за занавесью, вместо тьмы, внезапно — снопами — мощный, чистый свет. Фонарь зажгли?!
Он все-таки забрался. Он все-таки поднялся. Молодец. Сдюжил. Он уже на форточке. Он... вот хвост его, темный, почти черный, полосатый... вот лапа, в крови...
Кровь на занавеске. Кровь на подоконнике. Кровь на стекле.
Нет, это пацаны расписали занавесь и окно красным краплаком. Нарочно! Для смеха.
Человек-собака... человек-кот... человек... нечеловек...
Кот, еще немного... ну давай, прыгай... туда... на улицу... в свободу... еще потерпи... они больше не выстрелят в тебя, не выстрелят, не вы...
– Не стреля-а-а-а-ай! Не стреля-а-ай! Не стреляй! Больше не...
Хлопок! Промазал. Пуля разбивает старый фотоувеличитель. Пахнет улицей и грязью, сыростью из открытой форточки. Пахнет кровью. Кот всегда так любил есть сырое мясо. Я отрезала ему кусочки и давала, прямо с кровью. И он так радостно урчал. И даже грозно рычал. Наступал лапой на мясо, вцеплялся в него когтями. Настоящий зверь. Зверь мой, зверь мой, ну что же ты, беги! Прыгай! Умри не здесь, где тебя убили, а там, где ты бегал и прыгал, резвый и красивый, где кошек любил, где птиц ловил, где шнярыл между машинами и людскими ногами, где — спал под кустом цветущей, пьяной черемухи! На свободе!
На... сво... бо... де...
Я слышу третий выстрел. Я слышу дикие, взахлеб, рыдания. Я слышу дьявольский, рвотно-сдавленный смех. Я вижу — промазали снова, и я вижу — кот прыгает. Он прыгает вон, наружу, в кромешную тьму, и дикий свет прорезает лютый мрак, и я понимаю: это светятся во тьме его глаза и его зубы — это он, милый, оборачивает морду к окну, к своему родному окну, и в последний раз улыбается мне!
– Мр-р-р-рляу-у-у-у-у-а-а-а-а!
И я перевожу: прощай, моя хозяйка, прощай, мой дом, я пополз умирать, куда-нибудь далеко, нет, далеко я не уползу, я тут... я рядом... я... тут... под забором... у стены дома... моего любимого дома... хозяйка, я стану куском мяса, просто куском сырого мяса, покрытым шерстью... и меня никто никому не скормит... никто никого мной не угостит... и меня никто не похоронит... не возьмет лопату и не закопает... а просто отшвырнет ногой... вбок... подальше от лужи... и от стены моего дома... поближе к мусорным ящикам... к помойкам... там, на задах двора...
– Мрлям-м-м-м-м... мр-р-р-рн-аххх...
Изумрудины живые, и вас землей забросают?!
6.
Я больше не слышу его голоса. Я больше не слышу голосов. Я больше ничего не вижу. Я не знаю, где я. Лицо мое залито соленой влагой. Да, это слезы. Да, я давно не плакала.
А муж? Давно ли он плакал? Когда он похоронил свою первую жену — да, плакал. Но немного. Мужчины не льют слезы. Он так: всплакнут, сморщатся, закусят губу, и все. И — за работу. Это мы, бабы, реками солеными разливаемся. А потом капли сердечные пьем, валидол в зубы толкаем, по аптекам рыщем: у вас нет ли хороших таблеточек от депрессии? «А что, вы хотите все время радостной быть?» – надменно и насмешливо сказала мне одна аптекарша, толстая, корявая, лицо в оспинах. «Нет, не хочу», – сказала я. И оставила уже купленное лекарство на мисочке для денег, рядом с кассой, и повернулась, и тихо ушла.
«Володя, – сказала я мужу, – наступит время, и кто-то из нас первым уйдет. Я бы не хотела быть убитой. Никем. Никогда. Я молю Бога о легкой смерти. Чтобы вот так: уснуть и не проснуться». – «Ну, это уже супер», – весело сказал муж. Я говорила, я просила, а он в это время сидел за столом и штопал свою зимнюю куртку из чертовой, искусственной кожи. В особо сильные морозы кожа паршиво трескалась. Но меня радовало то, что эта кожа не убитого, не замученного зверя. Что ее сделали, в таинственных сложных машинах, сами люди, сами. За спиной мужа стояли, лежали, висели на стенах написанные им холсты. Они глядели на нас живыми глазами, брызгали в нас, как кипящим маслом, алым краплаком и синим кадмием, просили: «Посмотри на нас, полюби нас, поговори с нами».
Картины, картины любви... Картины жизни...
Все есть картина. Все есть фреска. Все есть икона внутри темного храма, и луч солца падает из-под купола, и пылинки играют, плавают, как мальки, в призрачном золоте.
«Уснуть и не проснуться? Отличная штука. Ишь чего захотела! Смерть, она ведь... у-у-у-у...»
Он скусил зубами черную нитку.
«Смерть у каждого разная. И мы, никто, не знаем, какая она на самом деле».
«Да ведь и я тоже не знаю, – муж разгладил грубый шов на жесткой коже. – Я об этом не думаю. Смерть придет в свой черед. И возьмет нас с собой. И все. Это природа. Это — жизнь. Смерть, это тоже жизнь».
«Если я умру первой, похорони меня, пожалуйста, не на кладбище!» Муж оторвался от шитья и подозрительно уставился на меня. «Не на кладбище? А где же?» Я слышала насмешку, любовь и веселье в его здоровом, крепком, как крепкий топор или молоток, родном голосе. «З-з-з-з... здесь. Рядом». – «Рядом?» В его глазах ясно изобразилось уже искреннее удивление. «Да что с тобой?»
Не опуская головы, я сказала мужу тихо, тихо:
«Я хочу лежать в земле рядом с тобой. Поблизости. Ты позови старух читать надо мной Псалтырь, как положено, два дня. А на третий тихонько вынь из гроба, возьми лопату... и похорони. Тут. Перед домом. Во-о-о-он... – я показала пальцем на окно, – на том откосике. Туда Марс уполз. Умирать. Он же лежит рядом с нами. Он тут. Он...»
Глотку перехватило невидимой веревкой. Муж бросил куртку на пол. Воткнул сильными пальцами иглу в чертову кожу.
«Ты... милая моя... я же тебя люблю... я же тебя...»
Я уже сладко, освобожденно, щедро плакала, прижавшись к его большой теплой груди, затихая в его руках.
И он сказал мне тихо, твердо, на ухо:
«А если я уйду раньше тебя — ты меня в деревне похорони. Я простор люблю. Там народу нет никого. Там — ветер, березы. И река. И кошки, там так много кошек, ну что ты, не плачь, ну пожалуйста! Хочешь, мы возьмем другого кота? Рыжего? Черного? Белого, как снег? Хочешь?»
«Его Оська застрелил», – вырыдала я.
«Не знаешь — не говори! Да может, он сам ушел! Может, время ему пришло! Коты, если зачуют плохое, уходят из дома. Чтобы их смерть не видел никто».
«Вот так бы и у людей...»
«У нас другие обычаи. Мы...» Он не договорил.
«Мне не надо другого! Мне — Марса — надо!»
«Милая моя, ну брось реветь, это же не ребенок, чтобы так сокрушаться... Когда уж это все было... Давно уж... Быльем поросло... Ты так не плакала бы, если бы...»
Он опять не договорил, ноя поняла: «если бы Осип у нас погиб».
«За живых молиться надо», – сказал муж жестко, далеко, словно с неба, над моей головой.
И я кивнула и руками размазала горькие, противные на вкус слезы по красному, ужасному, горячему лицу.
И он поднял мое лицо жесткими пальцами, выше, к себе, и поглядел мне в глаза глубоко, и, нежно смеясь, сказал: «Ну хочешь, я тебе его портрет напишу?»
«Кого?»
«Кота».
«Ты котов никогда не писал. У тебя не получится».
Рот мой улыбался, и по рту, по подбородку упрямо, неостановимо слезы текли.
«Я мастер котов. Я мастер кошачьих полуфигур. Ты еще не знаешь. Я гений Возрождения. У тебя над кроватью будет висеть портрет кота. Марс Первый, царь всего кошачьего, и собачьего, и мышачьего царства, император...»
«Замолчи! – я закрыла рот мужа ладонью. – Зачем ты!»
«Ну тогда я твой портрет напишу. Обнаженную натуру. Разденешься и будешь позировать. Ты ведь у меня красивая».
«Еще красивая. Завтра уже не буду».
Игла торчала из чертовой кожи куртки серебряной, жадной занозой.
7.
Я знала, что за котов не молятся, вообще по-церковному за зверей не молятся, запрещено, молятся только за людей, живых и усопших. Но я все равно молилась за нашего погибшего кота перед иконой Божьей Матери Знамение.
Богородица, на золотом фоне, поднимала золотые руки; у нее на животе, в золотом круге, сидел и улыбался маленький Спаситель, и оба Их лица, Матери и Сына, излучали золото чистой, солнечной радости.
«Всякая живая душа — твоя, Господи, и сохрани в Небесном Царстве Своем душу милого нашего, умного котика, красавчика родного... пусть он, у Тебя, так же мышей ловит... так же за кошечками гоняется... так же песню, песню вечную поет... Тебе поет, Господи...»
Что я бормотала — я не понимала.
Нет, я, конечно, не только за кота молилась. Я молилась и за Осипа и его дружков, чтобы Господь вразумил их, наставил на путь истинный; я молилась за маму, еще живую, старенькую, дай ей Господи еще пожить на свете; молилась я за душу покойной Гули, первой супруги мужа моего, а она некрещеная была, и мусульманство тоже не приняла, а покреститься перед смертью так и не успела, хотя и хотела, так тем более нужно о странствующей душе молиться, чтобы она обрела долгожданный покой; и о муже моем, труженике вечном, работнике старательном, художнике золотом, молилась я, и о том, чтобы он любил меня, дуру такую, слезливую.
И однажды мне во сне явился Марс.
Он явился торжественно и чудно, как царь котов. Усы вокруг его счастливой, толстой и пушистой морды торчали в разные стороны, как серебряные стрелы. На лбу был, черными полосками, начертан древний зверий знак: «ГОСПОДИН». От белой манишки на мягкой шерстистой груди исходило царское сияние. А как сверкали глаза, изумрудины, крыжовничины! Искры рассыпали! Лучше салюта! Моим глазам больно стало. Я протянула к коту руки и тихо спросила, сама себе не веря:
– Марсик, ты жив? Котик, ты жив?!
Кот изогнул полосатую спину, вытянул вперед длинные, кудлатые лапы, выпустил когти, сладко, длинно потянулся, поднял кверху зад, распушил хвост, и из его глотки донеслась до меня знакомая сложная фиоритура:
– М-р-р-р-ряоа-а-а-а!.. грр-р-р-рмр-р-рах... Миа-и-и-и-иррр!.. Муау-оу-у-у-у...
Он снова разговаривал со мной. Он пел мне арию. Он читал мне проповедь. Он был мой маленький звериный священник, мой родной шерстяной ребенок, мой полосатый выкормыш, и плевать мне было на то, какие тысячи, миллионы котов нянчили и тетешкали принцы и короли, магнаты и царевны, крестьянки и углекопы, санитарки и генералы, – это был мой, мой, слышите, только мой кот, и он снова был жив, и я видела его и слышала. Он пошел ко мне в руки, доверчиво, как раньше, я схватила его, погрузила лицо в его полосатый, как матрац, шерстяной бок, крепко поцеловала его в хищную, веселую, усатую морду — и крикнула:
– Марс! Мой Марс! Я так люблю тебя! Тебе хорошо там?
Я понимала, что вижу сон, поэтому и спросила его – «там».
– Ми-и-и-ау-я-а-а-а, – ответил он довольно, – мр-рр-аоу-у-у!..
И я перевела это так:
«Очень, очень хорошо, просто прекрасно. Другой мир есть. Не только для людей, но и для зверей тоже. Я там ем каждый день свежую рыбу, и у меня есть там жена! Красивая кошечка, да... Но я ей изменяю. Кот я и есть кот! А ты Осипа не ругай. Не кляни ты его. Когда он вырастет большой, и станет человеком, и однажды будет умирать — он все, все, все сам поймет. А теперь пусти меня. Я пойду».
И я разжала руки, и кот вышел из моих рук, и форточка опять была открыта, и близко, близко мерцала под форточкой земля, и кот прыгнул, поднял, как факел, хвост, и под хвостом я увидела у него два пушистых плотных шарика — знак его мужества, победы и любви.
Прежде чем прыгнуть, кот повернул голову, и в болотной зелени глаз зверя я прочитала:
«Если можешь — укради у Осипа пистолет. Не доведет он его до добра. Будь ему настоящей матерью. Береги его. Спаси его».
– Как же я его спасу, – горячими губами сказала я, а мне показалось — я мяукаю хриплой глоткой, как кошка, – как же спасу я его, ведь каждый сам живет свою жизнь, и на его оружие я не имею права, он сам его купил, он сам из него стрелял, он сам свою судьбу ищет, чтобы она встала под черное дуло?!
Прыг! Стук лап о мокрое стекло. Стук дождя о железный карниз. Стук времени о ржавую жесть. О щеку мою, в грудь мою, в сон мой кто-то стучится. Кто-то хочет, чтобы проснулась я. Кто-то хочет, чтобы я снова, снова, снова жила.
И трехцветная наша, скромная, старая, молчаливая кошка Шурка, будто муж сам озорно выпачкал ее, вымазал, вывалял в рыжей краске, в белилах, в сиене жженой, прыгнула ко мне на кровать, и сон ушел, а дождь все шел, все молотили капли о стекло, о стреху, о ржавый старый карниз.
И я прижала кошку, поющую страстно и хрипло, к еще живой груди и почувствовала себя старой, очень старой.
И поняла: каждый, и зверь и человек, когда-нибудь умирает — впервые.
А потом – рождается. Тоже впервые.
ПОДПОЛЬНЫЙ АБОРТ
1.
Тонкая все еще не верила, что она поступила учиться в Академию художеств. Она ходила по коридорам Академии и то гордо, то потрясенно думала: вот они тут все учились и преподавали, и Александр Иванов, и Павел Чистяков, и Архип Куинджи, и Валентин Серов, и Николай Рерих, и Игорь Грабарь, и Господи-Господи-Господи... “И моя нога вот ступает здесь”, – смешно думала Тонкая про свою тонкую ногу, затянутую в высокий, по самое колено, сапожок из тонкой, почти телячьей кожи.
Тонкая очень, очень хотела стать настоящей художницей. Или так: настоящим художником. Все, что звучало в женском роде, казалось ей прикладной, сусальной чепухой. Художник! Мастер! Она всем докажет, что женщина тоже может.
Судьбы Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой, Кати Медведевой и других живописиц не волновали ее. Они доказали одно, а она докажет другое. Свое.
Ее мальчик, раскосый Осип, тоже торчал тут, в Питере. Бес, тоже кликуху выдумал. “В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам! Дурачок, дурачок. И когда он этой революцией переболеет? Перебесится...” Тонкая любила Осипа, это да. Хотя часто плакала, любя его: оттого, что он слишком часто пил водку, оттого, что занимался всякой этой ерундой, ну, революцией, политическими партиями запрещенными. Тонкой казалось – еще немного, еще чуть-чуть, и Осип прозреет. И навсегда уйдет от этой... байды, другого слова она не могла подобрать, и губы ее поджимались обиженно, когда она вспоминала, как Осип и его дружки, собравшись вместе и водки выпив, воздымали вверх, резким броском, крепко сжатые кулаки и вразнобой орали: “Да, смерть! Да, смерть! Война и любовь! Любовь и война!” Тонкой казалось: если любовь, какая уж тут, к чертям, война.
Краски и холсты, холсты и краски, и листы ватмана большого формата, и пастель, и гуашь, и темпера, и сангина. Стать художником; художником стать. Сначала – художником, думала Тонкая, сжимая и без того тонкие губы, выдавливая масло из маленьких игрушечных тюбиков на вычищенную острым мастихином палитру, сначала – да, работа! Не смерть, а работа! А любовь потом. И замуж – потом. И детки – ну конечно, потом. Все потом.
Она простаивала у мольберта в классе до темноты. Ее уже знали все вахтерши. Ее уже обласкивали взглядами почтенные профессора, приметив эту не петербурженку, нет, – провинциалочку, девочку почти со скакалочкой, только от сиськи мамки, а туда же: работает как вол, как леший, как каторжанка! “Дело выйдет из девки”, – вроде как в сторону, а чтобы ей было слышно, сказал преподаватель живописи, старый Всеволод Юрьевич Емельянов, ученик аж самого Иогансона и друг аж самого Коли Ромадина. Они вот умерли, классики незабываемые, а Всеволод Юрьевич – жив. И студентов учит. И несет факел чистого художества, а не проклятого рынка.
Тонкая вспыхнула, как алая свечечка, вся заколебалась хрупким тельцем, как под ветром, и вместе с профессором уставилась на свою работу: она называлась “Праздник” и изображала застолье, ярко-самоцветные, даже нарочито слепящие, красные, индигово-синие, золотые, зеленые фигуры гостей облепляли стол с горами таких же самоцветных яств, не пожалела Тонкая масляной краски, густо и вкусно наложила, и формат холста выбрала смелый – квадрат, метр на метр, очень трудно в квадрате расположить многофигурную композицию, – и чувствовалось, Емельянову больше всего нравится прозрачный густо-малиновый, с оранжевым бликом, графин в центре стола, наполненный до хрустальной пробки сладким, должно быть, домашним вином.
Профессор даже облизнулся. У Тонкой очень хорошо получилась и красная икра, наваленная в большое белое фарфоровое блюдо. Тонкая тоже украдкой облизнулась. В животе у нее тихо проворчал, заскреб острым когтем котенок голода. Ела она от случая к случаю, и, кажется, уже заработала себе традиционный студенческий гастрит.
Тонкая всегда была очень аккуратной. Она дождалась, пока профессор потреплет ее по плечу, похлопает по спине старой желтой от табака ладонью, еще раз завистливо вздохнет – над чужой молодостью, над чужим огненным даром, наваленным пламенной красной икрой в щедрое блюдо, – и медленно, чуть прихрамывая, уйдет из класса и затворит дверь за собой. Вымыла кисти с мылом – рукомойник висел тут же, в углу, – вытерла их тряпкой досуха. Руки тоже вымыла. Масло от рук отмывалось с трудом. Тонкая терла, терла пальцы докрасна губкой и плюнула. Пусть буду пятнистый леопард, решила.
Она была в классе одна, за окнами смерклось, кобальт синий залил аудиторию синим вином, неслышно надвигалась ночь, и Питер за окном был осенний, мокрый, призрачный и скорбный, как огромное каменное кладбище без крестов и фотографий.
Тонкая подошла к окну – полюбоваться питерским чернильным вечером и мокрыми перламутровыми крышами и жемчужной сетью дождя, – и вдруг в ней, так глубоко, что она и сама не знала, что такие в ней есть темные глубины, нежно и слабо ударило, как малек хвостом, еще немного шевельнулось – и затихло.
И она затихла. Стояла у окна и слушала себя. А может, еще... дрогнет!
Нет. Глубоко в тайной, нежной тьме, глубоко и далеко, все молчало.
И она сначала до боли закусила губу, а потом уже испугалась.
Она считала по пальцам: неделя, другая, да, два месяца уж, как она... нет, ошибка, нет, тут что-то не то! И снова загибала пальцы, и дни, недели, месяцы считала. Она так старательно училась и так упоенно писала свои первые питерские картины, что забыла о себе, – а ведь и до отъезда в Питер, в Нижнем, и здесь, в Питере, она спала со своим мальчиком, с Осипом, а еще немного, совсем немного поспала, ну, ночь, две, с одним итальянским режиссером, красавец такой, его звали Паоло, зачем она это сделала? – низачем, из любопытства, из озорства, из-за того, что они тогда с Оськой поссорились, а тут подвернулся этот черный ангел Паоло, и такой ухажористый, и вообще иностранец, лестно ей было это, он ворковал как голубь: “Настиа, ио сниать тебья на кино!” – а когда она с ним переспала, попросив очкастую соседку на ночь уйти куда-нибудь, хоть куда, и соседка уехала к родне в Царское Село, – и она совсем, ну совсем не думала, что она от этих своих мальчишек забеременеет, у нее же были такие безопасные, насквозь безопасные дни!
“Безопасные дни”, – повторяла Тонкая про себя, как заклинанье, и с ужасом думала: два месяца, да, два. Очкастая соседка въедливо из-под очков, взглядом мудрой спесивой старухи, смотрела на нее, на то, как Тонкая полоумно шевелит губами. Звала ее пить чай. Тонкая садилась за стол и тупыми телячьими глазами глядела на печенье, на очищенные бананы, шкурки валялись тут же, рядом, на столе, шкурки почудились ей содранной змеиной кожей, и Тонкую чуть не стошнило. Соседка взгромоздила очки на темечко и приняла окончательно старушечий вид. “Настюха! – важно выцедила она. – Ты ж залетела!” Что такое залетела, спросила Тонкая беззвучными губами – и тут же поняла, что это такое.
“У меня знакомый врач есть”, – насмешливо сказала соседка и цапнула с тарелки скользкий, переспелый очищенный банан. Она ела банан похотливо, слегка похохатывая, ее острые, как у хорька, клыки поблескивали в свете казенной общежитской лампы, очки серебряными рыбами плыли в зеркале. У Тонкой закружилась голова. “У меня денег нет”, – сухо сказала она.
“Переспи с ним, и все, и все дела, ты что, дура?” – весело сказала очкастая кобра, весело дожевала банан и показала Тонкой тонкий змеиный язык.
2.
Тонкая не спала ночами. Она думала. Она плакала, но бесполезны были эти слезы, она понимала это. Как хорошо мужчинам, думала она, они бросают в женщин семя, а зачинает и дальше тянет весь этот чудотворный груз – женщина, а какая из нее, из Тонкой, на хрен, женщина? Она девочка, и она – художник. Она слабыми руками даже ребенка не поднимет! И потом, чей это ребенок?
“Тем более делай, если сомневаешься, – уговаривала она себя, – делай, делай”. Профессора не узнавали эту хрупкую, работоспособную девочку с Волги: перетрудилась, матушка, сказал ей профессор Емельянов, кисти-краски бросить в сторону, ать-два!.. и в харчевню, в харчевню, и кушать, кушать, кушать, вон какая тощая... Профессор ласково ущипнул ее за бочок, и она шарахнулась от него, как от прокаженного.
После бессонной ночи, похожей на пытку временем, Тонкая вытащила из-под подушки телефон и набрала номер соседкиного врача. Голос у врача оказался молодой, бодрый, будто бы он орал в диктофон на праздничном митинге. “Я хочу сделать аборт”, – прямо и грубо сказала нежным голосом Тонкая. “Приходите! – выкрикнул привычный лозунг радостный комсомольский голос. – Таксу знаете?!”
Знаю, шепнула в телефон Тонкая – и нажала кнопку, чтобы голос скорее исчез.
Ей показалось – очкастая кобра уже позвонила доктору, они в сговоре, они все знают про нее, да и она знает все про них. И уже никому ничего не интересно.
3.
Куда тут у вас пройти, да вот сюда, а одежду? Зачем я с одеждой-то с этой, как маленькая, а, какая разница, стащу и брошу на пол. Все вешалки забиты! Почему одежды так много? Тут домашний концерт? Или тут просто коммуналка, а может, он коллекционирует пальто, плащи и шляпы? Ерунда какая, а где же у вас кабинет? Пройти-то куда? А никуда, а вот сюда. Сюда это куда? Вот, вот, сюда, ну что ты как слепая! Он говорит мне “ты”, это ужасно. Жутко это. Тогда я ему тоже скажу “ты”. Никогда ты не скажешь ему “ты”, потому что ты стесняешься. Я просто не так воспитана! Он тоже не так воспитан, но вот он говорит, а ты – нет. Ты для него мусор. Он съест конфетку и сомнет и выбросит фантик. Какой странный ковер, какой странный диван! Восточные разводы, дымы кальяна. А где же это дурацкое, страшное кресло? Ну, железное такое, серебряное кресло. Куда в железные браслеты кладут ноги, а не руки. Нет тут такого кресла! Нет! Ну, оглянись. Туда, сюда! Нет?! То-то же! А может, он совсем и не доктор. Вы тот доктор, я правильно пришла? Ты много болтаешь, девочка, садись-ка сюда. Да, да, сюда. Хорошенькая. Так что же, совсем бабла нет? А папка с мамкой что, отверженные Виктора Гюго? Какого Виктора Гюго? Такого все. Иди сюда. Я не хочу! Тогда пошла вон. Но больше не звони и не приходи. Я, я это! я это! я... Тогда иди. А вы закрыли дверь?! Чего ты боишься, дура, иди. Я не кусаюсь. Ого, какая грудка! О-о-о, прекрасно! Слушай, курочка, хочешь, после абразио я поставлю тебе спиральку? После аб... чего? Ну, когда вычищу тебя, дуреха. За спиральку надо платить. Живые деньги. Жи... вые?! Жи-и-и-и... а-а-а!.. Видишь, видишь, как тебе хорошо. Ну, я же говорил, что будет хорошо. Еще никому со мной не было плохо! Еще никто... не... а-а-а-а!.. жаловался. Зачем вы так? А что, не нравится?! Так не нравится?! Ну, давай попробуем вот так. Вот так! Вот так! Вот та-а-а-а-ак! Та-а-а-а-ак! Та-а-а-а-ак! А-а-а-а-хра-а-а-а...
...а почему тут ковры такие пыльные, и на полу столько пыли, рука свисает до пола, и ногти корябают паркет, здесь паркет, плашки-деревяшки, зачем же столько пыли, только бы не вырвало, только бы не залить ему рожу и грудь всем, что я ела сегодня в общаге, а на улице дождь, слышно, как он идет, капли стучат по стрехе, капли стекают по стеклам, а правда, слово “стекло” – от слова “стекать”?.. да. Именно от этого слова. Скорее бы он уже! Он уже. Он хочет еще! Меня сейчас вырвет. Не надо! Я смогу. Я выдержу. Держись! Я держусь. Я! Дер! Жусь!
...быстро одевайся. Сюда могут зайти. Вы же говорили, что не могут! Могут. Еще как могут. Быстрее! Копунья! Вот визитка. Куда бросаешь, идиотка! Здесь адрес клиники. Ты туда приедешь завтра. Или нет, погоди, послезавтра. Ты запомнила, послезавтра?! Ты слышишь меня?! Ты глухая?! Ну, ты дура! Я вот Ляльке скажу, чтобы таких дур больше не посылала!
...и черная рожа, чернильная рожа, прижатая к мокрому оконному стеклу, липкая морда вечера, когда жизнь перестала быть жизнью и стала просто смертью.
4.
Она пришла к нему в клинику в назначенный день, в назначенный час.
Коридоры клиники были белые, голубые, желтые, золотые, пустые. Иногда попадались люди. Тонкая не видела их лиц. Она крепко вцеплялась пальцами в ремень сумочки, где лежала чистая простыня, чистые трусики, чистые колготки и целый пук стерильной ваты, а еще бинт.
Она открыла дверь кабинета и поразилась бело-голубому, холодному блеску. Острый глаз художника подмечал подробности: ледяной никель кресельных подколенников, снежную эмаль тазов, ножевой, смертный, инистый блеск кюреток, ложек и неведомых страшных ножей, лежащих рядком на вафельном полотенце. Врач кивнул головой на кресло: садись, мол. Тонкой не хотелось смотреть ему в лицо, тем более рассматривать его. Она ничего не хотела видеть здесь, но глаза же смотрели. Ослепнуть бы, тоскливо подумала она. Задрала ногу, потом другую и влезла в кресло смерти ее ребенка, будто садилась на железного коня, вдевала ноги в ледяные стремена. Какой конь, конь это слишком красиво, наверное, со стороны она смешна и безобразна, похожа на распяленную для жарки утку. “Утка, утка, проститутка”, – ехидный голос отвратно, рвотно пропел в ней. Она широко развела ноги и увидела снизу свои торчащие в разные стороны колени – острые, совсем детские. Крикнула внутри себя: остановись! этого нельзя! не надо этого! – а ее руку выше локтя уже грубо перехватили резиновым жгутом, и уже игла входила под кожу, и втекало в нее пьяное и бесполезное лекарство, и она отсюда, снизу, увидела лицо врача.
Харю. Рожу. Морду. Она представила себе Оськин пистолет, с которым он прибыл в Питер. Революционный такой, черный пистолет. “Макаров”. Поддельный или настоящий? Теперь все поддельное. А все поддельное – настоящее. Убить из него запросто можно, Оська сказал ей.
И она представила себе Оськин пистолет в своей руке. И она поднимает его. И в эту харю, в эту рожу-морду – всаживает – одну за одной! одну за одной! – все пули, что внутри этой черной, холодной игрушки, все! Все! Все-е-е-е-е!
– Что ты орешь-то, еп твою мать!
– А-а-а-а!
– Я ж укол тебе сделал, кляча!
– Почему так больно?! А-а-а!
Боль разрывала ее надвое, будто б она была цыпленок табака, и над ней наклонился жующий, чавкающий, страшный едок, зубастый, с масленым жирным подбородком, и жирными тяжелыми руками раздирал, рвал ее пополам, запускал в нее, еще живую, зубы, хрустел крылышками, срывал белое и темное мясо, сладко обсасывал косточки.
И она слышала, с потолка, из-под плоской хирургической лампы с шестью прожекторами, она сосчитала, или из-под кресла, из подполья, из ржавой и черной больничной пьяной котельной, дикий, хохочущий голос, голос не человека, а медицинского инструмента, железной кюретки:
– А это чтобы больше не трахалась с кем попало. Я садист, ха-а-а.
Это ножи стучали о ножи. Они готовились отрезать от нее кусок.
Они готовились, клацали и уже отрезали от нее, с мясом и кровью, горячий, дымящийся, самый сладкий и самый счастливый кусок ее жизни.
И она содрогалась всеми своими внутренностями, и содрогалась не своей, чужой, маленькой, неизвестной, непрожитой жизнью, и всей вытекающей из нее кровью целовала ее, уходящую, убегающую, растерзанную, погибшую, нежную.
И голос лязгающих друг о друга ножей слышала она над собой:
– На самом деле хороший наркотик стоит хороших бабок, крошка. Я понял, спиральку не будем? Одевайся! Финита ля комэдиа! Я мастер, ха-а-а?
Она спустила с распялок ноги, пробрела, как сквозь тину и водоросли, к застланной резиновым ковриком кушетке, легла без мыслей, без слуха, без сердца.
Так лежала долго. И никто почему-то не тревожил ее.
А ей казалось – ее гнать будут отсюда в три шеи.
Врач поглядел на часы на волосатом запястье. Врач содрал с рук резиновые перчатки. Врач вымыл руки тщательно, совсем как она после работы. Будто бы у него на руках засохла масляная краска. Врач повернулся к ней, лежащей на кушетке спиленной тонкой, мертвой березой, поглядел на нее, как на мусор в корзине.
И ничего не сказал. И она почувствовала этот взгляд – плечами, кожей, лбом, животом.
Встала. Пошла, шатаясь. Вышла молча. Тихо закрыла за собой дверь.
5.
Тонкая еле добралась до общежития, поднялась по лестнице, как во сне, никого не узнавая и ни с кем не здороваясь, открыла ключом дверь и повалилась на кровать.
Она немного полежала так, и вдруг кровь как начала хлестать из нее, как из резаной утки!
“Бабушка так говорила: как из утки”, – вспомнила она, улыбнулась покойной бабушке, будто бы бабушка была тут и видела ее, видела, как она страдает, – и с этой улыбкой тяжело поднялась с койки, нашарила в сумочке бинт и вату, стала наверчивать на вату бинт, мотать, заворачивать, – а руки тряслись, и внутри тряслось.
Дверь щелкнула, и в комнату вошла соседка. Сдернула с носа мокрые очки и протерла их юбкой.
– Ну че? Все окей? Я ж говорила, – подмигнула, стоя над Тонкой и нагло разглядывая ее живот, будто бы сквозь кожу живота было видно то, что доктор делал с ней. – С тебя коньячок! – хохотнула. – К тебе там этот... твой. Он пьяный, его вахтерша не пускает.
Тонкая сняла с шеи крестик на золотой цепочке. С рубинами. Бабушкин. Бабушка подарила, на нее надела, еще когда была жива. Сейчас ей было все равно. Бабушка, крестик, ребенок. Ее ребенок. Ее! Ребенок! Его...
– Отдай. Пустит...
Очкастая змеюка изумленно навертела золотую цепочку на палец.
– Ты спятила! Коза! Это ж золото, я ж вижу!
– Отдай! – крикнула Тонкая, и у нее стало такое лицо, что очкастая кобра увильнула под дверь всем ползучим, быстрым телом.
Осип ввалился. Заревел, как медведь. Навалился на Тонкую, ей на грудь, на живот. Облапил. И так, лежа на ней, внезапно тонко, жалко заплакал, как ребенок, как маленький.
– Ты... что сделала!..
– Ничего.
Она отвернула, лежа под ним, лицо в сторону от него. В сторону.
Она убегала лицом от него.
– Ты понимаешь, понимаешь... ничего больше не будет... ничего... ничего... ни-ко-го-о-о-о!..
– Кого – “никого”?
Она старалась, чтобы голос был спокоен, он и был спокоен.
– Сына моего!
Он скатился с нее: понял, ей тяжело лежать под ним. Замолчал. Взял в рот угол простыни и стал жевать. Жевал, как сено бык жует. Зажевывал свои слезы. Она смотрела в сторону, на ободранные казенные обои, и не видела, какие у него глаза были страшные, пустые. Как две могилы.
– Ты убила его.
– Я дрянь, да? – очень спокойно спросила она.
Сквозь его холодные с мороза джинсы и общежитскую, с черной казенной печатью, простыню она чувствовала черный тяжелый холод его пистолета.
“Всюду носит с собой. И зачем носит? Будто бы на него из-за угла нападут. Питер бандитский город! Питер такой же город, как все остальные. Ему просто нравится таскать пистолет в кармане. С кем я связалась! Зачем мне этот пацан! Дурак! С его лозунгами! С его пистолетами! С его революцией, никому не нужной! Горстка подонков, и играют в серп и молот!”
“Серп и молот, смерть и голод”, – опять вспомнила она: так бабушка говорила. Бабушка родила маму, мама родила меня, а я родила кровь и пустоту.
Осип почуял лед и пустоту, исходящую из ее пустого, плачущего живота. Лицо ее было спокойно и мертво, и он нашел в себе силы поглядеть в него. Глаза ее не видели его. Они смотрели в потолок и видели там казенный плафон и трещину, и легкую, как дым, паутину. Он встал с кровати, шагнул к двери и вышел.
6.
Тонкая встала с кровати и подошла к окну уже вечером. “О, уже зима, а вроде бы вчера была осень?” – нежно, удивленно и глупо подумала она. Время, не подвластное ей, шуршало по бокам от нее, пролетало-свистело сквозь прозрачные, как у блокадницы, ладони. Она вся была прозрачная, вся на просвет. Большая живая лупа, и через нее можно было рассматривать надписи и буквы, сгоревшие в войну картины и засохших в старых детских коллекциях бабочек и жуков. “Никогда мой сын не будет ловить бабочек, накалывать их на иголки, высушивать и собирать коллекции. Никогда”.
Сковзь мельтешение снега за окном, белила цинковые, подумала она медленно, или нет, белила титановые, если ими снег написать – долго сохнуть будут, – она различила потеки крови на асфальте. Вздрогнула. Вцепилась пальцами себе в плечи. Нет, это не кровь, сказала Тонкая себе неслушными губами, ты что, не видишь, это нарисованные буквы. Огромные какие! В человеческий рост. Или больше? Чем намалевали? Аэрографом? Или банку с красным акрилом открыли, и широким флейцем наяривали? Пелена снега штриховала свинец вечера. Грязь горами сиены жженой застывала на палитре асфальта. Тонкая щурилась, прижималась горячим лбом ко льду стекла и наконец рассмотрела:
“...ЕБЯ”.
На остальных буквах стояли сразу три машины: милицейская, с синей полоской, инкассаторская – с зеленой, и чей-то громоздкий, как самосвал, черный джип.
Соседка сидела за столом и ела. Она всегда что-нибудь ела.
– Пиковая Дама тебе привет передает. Ну ты и дура. Крестик натурально золотой. С цепочкой. Небось, мамка подарила.
– Бабушка.
Стекло охлаждало костер лба. Тонкая снова и снова читала вслух, шепотом, эти красные, огромные буквы в снегу и во тьме.
Тонкая обернулась к соседке и спросила:
– Пиковая дама, это кто?
– Господи! Что с тобой! Вахтерша наша! Счастлива до жопы! Золото, и пробу рассмотрела!
Тонкая отвернулась к стене.
“Это Бес написал. Это Бес написал! – Сердце сделало внутри нее чудовищный, красный вензель. Алой краской безжалостно прошлись по ребрам, по кишкам, по брыжейке, по брюшине. Кисть была острая, как нож, как предсмертная кюретка, и сразу и мощно хлынула кровь, краплак красный, кадмий красный, сурик, киноварь. – Он написал! Я поняла! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!”
– Жрать-то будешь? Тебя же сейчас уже не тошнит! Не притворяйся! – Голос доносился с потолка, или, может, из-под пола, с другого этажа. – Вот у меня бутербродики есть – закачаешься! С красной рыбкой! И еще с копченой колбаской! С сервелатиком, м-м-м-м! Давай, Настька, хватит кобениться! С тебя коньяк, за доктора, ты поняла?! Ты меня слышишь?!
По полосатым, как старый матрац, казенным грязным обоям бежали сумасшедшие кровавые цветы. Они бежали, летели, спотыкались, падали, разбивались в кровь, упрямо вставали и снова бежали, бежали за ее родным, маленьким, смешным мальчонкой, которого сегодня навеки убила она.
ИНТЕРМЕДИЯ: ДРУГ БЕСА, ЧЕК
ЧЕК И ДАРЬЯ
1.
Вместо лица у него была страшная маска. Раззявленный до ушей рот. Бугристые, рваные, грубые сине-лиловые шрамы вдоль и поперек щек. Сбитый, свороченный чудовищным ударом кулака на сторону, сломанный нос – хрящ вдавился внутрь, в череп, как у сифилитика. Рваные, будто их насильно отрывали от головы, терзали щипцами, резали ножницами, уши – не уши, а кожные лохмотья вместо ушей. Через весь лоб шел страшный белый рубец, будто по голове парню заехали казацкой саблей или маханули острой бандитской финкой. Зубы во рту виднелись – половина была повыбита, черная скалящаяся пасть ужасала.
И только глаза на том, что когда-то было лицом, глядели умно, бешено, ясно.
Он не помнил, когда и как попал в лапы бандитов. Бандиты навсегда остались безымянными для него. Бандиты собирали, сколачивали маленький отряд бесплатных рабов-нищих, уличных попрошаек. Бандиты изощренно изуродовали его, чтобы он просил на улицах милостыньку, вызывая у жадных людей страх и жалость.
Мальчонку звали Чек. Он не знал, прозвище это было или имя; его всегда окликали так, и он привык. Чтобы избавиться от побоев и подневольного труда, он убежал из большого города, имени которого он не знал, далеко на юг, в горы; просто сел в поезд и поехал зайцем, забрался в плацкартном вагоне на третью полку и скрючился, свернулся в клубочек, так и ехал, голодный, не слезая с полки, пока его не обнаружила дотошная проводница: кто это у меня там сопит под потолком?! – и не ссадила с поезда, не вытолкала в шею на станции, а станция-то была уже южная, уже за Краснодаром-Главным. Он пробрался в горы – и попал, как кур в ощип, в лапы к боевикам. Он не знал, что на Кавказе шла война; ему пришлось это узнать. Боевики приволокли его, грязного, маленького, упирающегося, нещадно матерящегося, в часть – и хохотали, уставив руки в бока, и надрывали животы: ну и ну!.. вот это картинка!.. вот это чудище, ночью приснится, Ахмед, испугаешься, в штаны наложишь!.. – и тут же поняли, как его можно использовать на войне. Они засылали его разведчиком в федеральные части: “Ты, бей на слезу, пацан, гавари, шыто тибя изрезали на куски эти гады чечнюки!.. гавари, шыто всех тваих перебили, шыто сестру изнасилывали, а ты чудам убижал!.. и вот не знаишь, куда бежать!.. А сам, ты, слышишь, все у них разглядывай, все – запаминай, нам патом расскажышь, ты, понял?!..” Они бросали его под федеральный танк со связками гранат: “А, плевать, умрет малец – туда ему и дорога, подумаешь, цаца какая!.. а нам надо, чтобы этот танк в ущелье не прошел, нам надо его остановить!” – и он швырял гранаты под танк, падал на пузо и отползал прочь, оглушенный взрывом, он выживал – чудом, и он удрал от воюющих чеченцев – тоже чудом.
Он убежал, уродец по имени Чек, и так начался его БЕГ.
Начался его Бег Через Всю Страну.
Так бегут не люди: так летят птицы-подранки и низко, почти распластавшись по земле, бегут голодные битые собаки. Он видел ужас жизни лицом к лицу. Он видел, как на Кавказе воют над трупами убитых детей одетые в черное, коленопреклоненные женщины; он видел в Крыму вырубленные, выкорчеванные тысячелетние виноградники, видел крымских татар с бешеными лицами, бегущих по улицам с плакатами в руках: “КРЫМ — НАШ!”; он видел, как на Каспии вытаскивают из моря огромных остроносых рыб с колючими костяными боками, похожих на крокодилов, вспарывают им брюхо ножами и вынимают из брюх блестящую на солнце, смоляную икру, выгребают руками, трясясь, чтобы никто не увидел, не заловил, бросают черные икряные влажные комки в алюминиевые цистерны, грузят в лодки и увозят, под грубую музыку матюгов заводя мотор, а рыб так и бросают на берегу – гнить. И он подходил и трогал острые рыбьи носы, когда лодки уже скрывались в сизой морской дали и его уже никто не мог увидеть, и отрезал от самой большой рыбины кусок, и разжигал костер, и жарил рыбу, и с нее капал вкусный желтый жир, и он ел рыбу и плакал – ему было ее жалко, такую большую и бесполезно мертвую, и других рыб, валявшихся поодаль. Он видел воров в Ростове-на-Дону, всовывающих ножи под ребро, как браконьеры – той колючей рыбе, молоденькой девчонке из отельного варьете – за то, что она не сняла нынче ночью того, кто ворам был позарез нужен; он видел, как в Курске под электричку пацаны толкнули приятеля, не принесшего на встречу заказанные деньги, и пацана переехало пополам, и еще полминуты рот распяливался в крике, хотя сознание мальчишку уже покинуло; он побывал и на северах с сезонниками, помогал бить оленей в кровавой бригаде, и видел, как тяжело и высоко вздымался грубый молот в руках бича — и опускался на покорно подставленную голову оленя; ошивался с геологами, спал в их дырявых палатках, помогал их поварихам варить на костре суп из перловки и тушенки; закинулся неведомым ветром в славный бандитский городок Питер – ух, и весело же погулял он там! В Фонтанке чуть не утонул, на черных уток на первом, слюдяном льду засмотрелся.. В странствиях Чек взрослел, учился быть сильным, злым, гордым. На севере, в Воркуте, один старый зэк, с жалостью и пониманием глядя на его изуродованное лицо, тихо сказал ему: “Помни, малец, в жизни есть условие: никого не бойся, никому не верь и ни о чем не проси. Соблюдай это условие, и ты будешь жить. А нет – будешь существовать. “Петухом” будешь. А потом и убьют тебя, пришьют как миленького”. – “Меня и так пришьют! – оскалился Чек. – Странно, что до сих пор не пришили!” Так – озлобленный, повзрослевший, заимевший не опыт жить, но опыт ненавидеть, он закатился, наконец, туда, откуда выкатился когда-то – в Москву. Ощерившийся уродливый щенок, затаивший глубоко внутри себя ненависть к миру, родившему его на свет и тут же искалечившему его, он растил в себе эту ненависть, лелеял ее, холил – и, нарвавшись на ребят-скинхедов, избивавших однажды в метро лощеного раскосого, богато одетого, желтолицего господина – кейс богатого азиата валялся далеко, у эскалатора, чемоданчик зло пнула нога в огромном черном ботинке, – примкнул к ним.
Он примкнул к скинам, как примыкает к ним каждый отверженный.
Каждый, кто был сильно бит – и выжил.
Каждый, у кого был отнят кров, семья, очаг, стол и собственная постель – и кто поднялся над своим бездомьем и одиночеством, скрипнув зубами.
Каждый, кто копил в себе ненависть и горечь, не зная, на кого ее вылить, и кто обнаружил: ого, враг-то есть, оказывается! Вот он!
2.
Вчера скины с Моховой мочили вусмерть рэпперов из Марьиной Рощи. Побоище удалось на славу. Скины отомстили рэпперам за то, что они подражают проклятым ниггерам и носят широкие негритянские штаны, и поют вшивые ниггерские песенки, и танцуют на площадных коврах и старых одеялах, разложенных прямо на улице, свои поганые ниггерские танцы. Так отомстили, что – любо-дорого! Рэпперы еле ноги унесли. А самого главного, Грина, они хорошо мочканули. Как клопа. Грин, мать его, самый главный расп..дяй у этих г….едов и есть. Он-то скинам в лапы и попался. И они его отделали. Отделали будь здоров. По первому разряду. Мамашка у любимого сыночка костей не соберет. Башку двумя камнями придавили. Били классно, били везде. Во все места. Детишек теперь у суки не будет. И сам он – будет ли, нет ли, еще бабушка надвое сказала. Башку так измолотили – хоть сейчас в фильм ужасов. Да у нас сейчас все сплошной фильм ужасов! Выходи на улицу с камерой и снимай! Не хуже, чем у американов, получится!
Отдубасили реппэров – пора и отдохнуть. Нажраться и подраться? Нет, сначала подраться, потом – нажраться! Слова в слогане меняются местами! Эй, ребята, все бритые?! Волосики не подросли?! Никого машинкой обчекрыжить не надо?! А водочки дашь, братишка, опосля стрижки?! Дам, дам, конечно, как истинному арийцу – истинный ариец!
Вперед, вперед. Где соберемся? Соберемся сначала у Зайца, потом все, кучей, двинем в Бункер.
А кто сегодня в Бункере?
Не кто, а что. Сегодня в Бункере – сборище века! Таракан приезжает, твою мать!
Сам Таракан?! Во классняра! И что лабать будет со товарищи?!
Ну что, что! Ты сам не знаешь разве, что может выдать на-гора “Реванш”! Всю классику! “Арии спустились с Белых гор”, “Белая кожа, черная кожа”, “Бритоголовые идут”, “Аркаим”… ну, как всегда, конечно, “Убей его, убей”… ну и там, наверное, новяк какой-нибудь, не знаю…
А “Дон’т стоп, хулиганс” – будет петь?!..
А пес его знает, Таракана, что ты, Зигфрид, у меня спрашиваешь, я что, автоответчик кинотеатра “Россия”?!..
Таракан был знаменитейшим рок-музыкантом, популярным у бритоголовых. “Реванш” – знаменитейшей рок-группой со скандальной, нечистой славой: немало побил Таракан тарелок и фужеров на именитых сейшнах, немало салатов, приправленных майонезом, вывалил на белые пиджаки спонсоров престижных рок-концертов, немало девиц перещупал и перетоптал даже не в гостиничных номерах – прямо за кулисами, на коробках и ящиках из-под аппаратуры. Таракан был славен не только скандалами. Его рок-музыканты, наголо обритые, в противовес ему, обросшему, мохнатому, с неряшливо спутанной жидкой бороденкой, не только откалывали на сцене хулиганские номера, орали и выкрикивали нацистские лозунги и во всеуслышание матерились в микрофон – дешевым эпатажем искушенную публику было уже не удивить, – но и выдавали, время от времени, на удивление знатоков, такие отпадные хиты, что и не снились ни “Джей-3”, ни “Герцеговине флор”, ни “Фигляру”, ни “Истинным арийцам”. Это была музыка! Можно было улететь, как от хорошего косячка, слушая ее. Таракан приобретал вес. Его песни гремели по России. Пару раз он выбрался на Запад, в Германию и Англию, и даже записал там пару альбомов, но больше на Запад не ездил – не хотел: “Снобы там все, ребятишки, кого ни копни – снобы! Прогнили!” Германия, страна классического нацизма, привлекла его лишь потому, что он хотел попьянствовать в мюнхенском кабачке, где начался знаменитый мюнхенский путч Гитлера. Да, вот такая блажь, только и всего. “С группы “Реванш” начнется наш реванш”, – пошутил однажды их Фюрер.
О, их Фюрер был классный парень.
Их Фюрером можно было клясться, божиться, материться и лечить рваные раны. Их Фюрер знал дело туго. Будущее было в руках их Фюрера – в этом они все не сомневались.
Никто из них не сомневался.
Ну да, вчера была отличная бойня, не такая, конечно, масштабная, как задумывалось, но все равно отличная; и от ментов они ускользнули, вовремя ушли; и приезжал из Питера Таракан со своими бритыми; и давненько они не слушали такой музыки; и в Бункере, о, в Бункере всегда была какая-нибудь – не какая-нибудь, что он брешет, а отличная! – хавка, это уж Фюрер всегда расстарается, на концерт знаменитости спонсоров нароет, изысканной жратвой столы завалит, ешь не хочу, икрой мажь морду, раками бросайся, как камнями! Торт на голову ставь и так, с тортом, иди плясать, все равно он когда-нибудь упадет и всего тебя кремом обмажет! Вот веселья-то будет!
Да, бойню надо отмечать, это славно придумано. Да, он пойдет сегодня в Бункер.
И он пошел нынче в Бункер, и ногой распахнул дверь подъезда, и постучал, как между ними, скинами, было условлено, в массивную железную дверь; и ему открыли; и тут же, сразу же, около входа, он увидел сидящую на вертящемся офисном стуле девушку в белом. Ее странные, чуть раскосые глаза смотрели странно – куда-то вдаль. Будто бы она презирала всех, кто путается у нее, царственно сидящей, под ногами.
Чек сплюнул. У, какая царица! Цаца, а не царица. Платье зачем-то белое, до пят. Старорежимное платье. Таких телки сейчас не носят. Особенно – их телки, бритые. Они носят такую одежду, чтобы удобно было рассматривать наколки, многочисленные tattoo и рисунки на теле. Сейчас на теле модно рисовать все что угодно. А эта сидит – ни рисуночка, ни татуировочки, и волосы черной волной вдоль лица висят. Как спущенный черный флаг.
Ишь, а что это такое чернявая телка держит в руках?! Бляха-муха, да у нее же на коленях корзина, а в ней – что в ней?.. Чек наклонился. Свечи! Провалиться на месте, свечи! И еще – странные глиняные пузырьки, и она так осторожно их протягивает входящим, и они, немало удивленные, берут у нее эти глиняные свистульки из рук. Чек присмотрелся. Высокий скинхед с уже отрастающей на башке темной щетиной взял из рук девушки свистульку, поднес зажигалку. Светлое пламя язычком взвилось, задрожало на сквозняке.
Светильники! Эта телка раздавала вновь приходящим в Бункер светильники!
Ну да, и свечи – тоже… Вон, все со свечами в руках стоят, свечи горят… что, в Бункере сегодня света нет?!.. или это Фюрер прикол такой придумал, новый?!.. Какой прикол, дурак, может, просто правда света нет…
Эй, – негромко сказал Чек и слегка двинул девицу кулаком в плечо. – Дай твою игрушку.
Она медленно повернулась к нему, протянула ему – в обеих руках – и свечу, и глиняный светильник. Ее лицо не дрогнуло. Она по-прежнему смотрела вдаль, поверх него, сквозь него. Уоыбнулась. Он взял из ее рук глиняный светильник, похожий на птичку, на жаворонка. Сказал:
– А зажигаешь тоже ты? Обряд такой? Или мне можно зажечь?
Она не ответила. Смотрела вдаль, мимо.
И он понял, что она слепая.
Зажег светильник, нашарив спички в кармане. Отошел от слепой, раздававшей свет. Вошел в зал. Там уже буквой “П”, каре, стояли роскошно накрытые столы, и во тьме сияли и вспыхивали огни, освещая бритые головы скинхедов, светлые модные, от Фенди и от Зайцева, пиджаки и смокинги спонсоров и именитых приглашенных, металлические бляхи и цепи на кожаных “косухах”, блестевшие в ноздрях и в проколотых губах пирсинги. Тьма, как это красиво. Мрак. И во мраке – огонь. Мощный огонь древних ариев.
Дверь в зал слегка приотворилась, и Чек снова увидел сидящую у двери девушку с корзиной на коленях. Из-под подола белого, будто невестиного, платья высовывались аккуратные белые туфельки. Он потихоньку сплюнул. Невеста! Божья невеста, что ли?.. Невеста Фюрера?.. Чек знал – Фюрер относился к женщинам никак. Что есть они, что нет. Никто и никогда ни разу не видел его с женщиной. Его интимная жизнь не была предметом обсуждения у скинов и у ребят постарше, уже не бивших каблуком в морды в метро и на рынках, а занимавшихся разработкой новой идеологии и поисками денег для покупки… чего? Оружия? Чек предпочитал не думать о войне в открытую – он уже навоевался, настрелялся, навидался смертей. Пусть Фюрер делает что хочет. На то он и Фюрер.
“Вот они-и-и-и!” – заорали скинхеды, воздевая над головами кулаки, приветствуя изо всей силы – вопя, брызгая слюной, топая ногами, оглушительно свистя – ультраправую рок-группу “Реванш” с Тараканом во главе. На небольшую сцену зала в Бункере выкатились налысо бритые ребята, присели с гитарами в руках – и завыли, заорали, надсадно завопили, скандируя текст всеми скинами обожаемого хита: “Убей его, убей! Убей средь бела дня! Убей его скорей! А то убьют тебя!”
– Ты желтых и цветных,
Ты черных и жидей
Бей в морду и под дых!
Убей его, убей! –
восторженно завопила, подпевая, толпа. Зал бушевал. Со столов уже хватали, не чинясь, не ожидая особого приглашения, яства и бутылки. Пробки летели в стороны, в лица и в потолок. Шампанское пенилось, выливалось на пол и на стол в неумелых мальчишеских руках. Иронично глядели, косились спонсоры. Или это были не спонсоры? Чек многих видел впервые. Вместе со всеми он вскидывал руки, бесился, выкрикивал: “Убей его, убей!” И все косился на дверь. Где эта девушка? Неужели ее не пригласят к столу?
Таракан уже нажрался водки и выкидывал коленца. Влез на стол, топтал ногами салаты и мясные закуски, схватил непочатую бутылку, раскрутил в руке – и швырнул, как гранату, об стену: “Вот вам, вы, черные гады, съевшие нас! Так мы замочим каждого, кто…” Длинный, продолжительный вой был ему ответом. Ребята из “Реванша” снова кувыркались на сцене. Теперь они пели нечто новое. Чек, накачавшись водкой и объевшись горячим – притащили антрекоты и куриные котлеты с косточкой, по-киевски, – с трудом разбирал слова. Он понял только: “…начнем сначала! Начнем, Россия-мать! Тебя все убивали – мы будем убивать!..” Пьяные скины, обнявшись за плечи, качались из стороны в сторону и горланили уже кто во что горазд. Таракан развалился на столе. Его взасос целовала бритоголовая девица с искусной татуировкой на спине. Татуировка изображала свернувшуюся клубком огромную змею, по виду – анаконду. Спираль времени, да. Жирненькая спина девицы подрагивала, как холодец. Чек снова покосился на дверь. Слепая девушка в белом платье стояла в двери, взявшись за косяк. Она печально, мучительно прислушивалась к тому, что происходило в зале. Ее ноздри раздувались, она ловила запахи еды. “Черт, ведь она хочет есть, – догадался Чек, – посадили слепую телку раздавать свечи, а покормить-то и забыли”. Он сгреб со стола в чью-то тарелку остатки салата, две тарталетки с паштетом и икрой, кинул два мандарина, пару яблок и двинул к ней со всем этим угощением. Она уже снова сидела на вертящемся черном стуле. Он сел перед ней на корточки. Положил ей на колени тарелку. Корзина со свечами стояла у ее ног, на полу.
– Жрачку тебе принес, – сказал Чек, не зная, что еще сказать, взял из тарелки яблоко и сунул ей в руку. – Вот, яблоко, возьми! Пощупай…
Девушка осторожно обняла пальцами круглое красное яблоко. Поморщилась.
– Холодное, – тихо сказала.
– Ешь, грызи! Ты же тут обалдеешь с голодухи, пока они все там надрываться будут…
– Спасибо.
Она поднесла яблоко ко рту. Не надкусила. Вдыхала запах.
– А… какого оно цвета?..
Чек растерялся. Яблоко было густо-красное, темное-алое, его блестящие бока глянцево лоснились.
– Оно?.. – Он вздохнул, пожал плечами. Сидеть на корточках становилось все невыносимее, ноги затекли, и он сел на пол, раскорячив ноги, обняв ногами щиколотки слепой девчонки. – Красное такое. Как кровь. Ты знаешь, что такое кровь?
Слепая улыбнулась. Он ни у кого никогда не видел такой улыбки.
– Знаю, – тихо прошептала она.
– Откуда знаешь? Ты ж ни хрена не видишь.
– Знаю. Я любила красную краску. Краплак, кадмий красный… сурик. Я до сих пор вижу свои картины… когда засыпаю. И палитру, – сказала она, по-прежнему мертво глядя перед собой слепыми глазами.
3.
Чек гладил волосы и плечи обнаженной Дарьи. Слепая девчонка сидела, не шевелясь, на кровати; она обнажилась по его просьбе. Он сказал ей тихо, внятно: “Я трахать тебя не буду. Ты, в натуре, беззащитная, как мохнатка. Я просто хочу видеть твое тело. И немного потрогать его”. Слепая усмехнулась: потрогать? Знаем мы эти троганья. Но разделась в одно мгновенье, быстро, беспрекословно, будто бы он был хозяин, а она была рабыня.
Села, подобрав под себя ноги и разведя в стороны колени.
В комнате, которую снимал за копейку Чек у вечно пьяной старухи Пелагеи Власьевны во дворах на Большой Никитской, в старом мрачном, похожем на слона доме, было темно, глаз выколи. Глубокая ночь давила книзу черным камнем. Чек понимал: эту послушную слепенькую девушку имели все, кому не лень. Он ничего не знал о ней, кроме того, что она раздавала из корзины, сидя на сейшне великого Таракана, свет. Светильники и свечки. “Береженого Бог бережет, подумала монахиня, надевая на свечку презерватив”, – вспомнил Чек старый анекдот, и его рука вздрогнула на слишком, как слоновая кость, гладком плече слепой Дарьи.
Он потрогал ее плечо. Потом грудь. Она не застонала, не выгнулась вперед, не заохала истомно, как сделала бы всякая другая кошелка на ее месте. Она сидела неподвижно, как изваяние. Ему казалось – он гладил холодную бронзу. Нет, кожа была теплая, но такая гладкая, до того гладкая!.. У людей такой быть не могло. «Будто ванны из молока принимает девка, что ли?.. или – из крови?.. Из крови младенцев, твою мать”, – весело, хулигански подумал он, и улыбка защекотала ему губы.
– Эй, Дашка, слышь, – Чек подался к ней ближе, его лицо нависло над ней. Какое счастье, что она слепая и никогда не увидит, какой он урод. – Ты, что ли, фригидка?.. Или ты – на игле?.. Что ты сидишь как зомби, туда тебя так?.. А?.. – Он шептал тихо, сбивчиво, отчего-то стесняясь. – Ну хоть кожей дрогни, что ли…
Он отнял руку. Вгляделся в ее лицо. Оно показалось ему в темноте круглой старинной медной монетой с полупрофилем древней восточной царицы.
– Я с нарками не вожусь, – тихо ответила Дарья, и во всем недвижном существе дрогнули, раскрылись только губы. Руки бессильно висели вдоль тела. Скрещенные колени торчали в стороны. От ее черных курчавых волос внизу живота пряно пахло морской солью и черемухой. – Я боюсь иглы. Мне предлагали. Не раз. Меня пытались уколоть насильно. Я отгрызла тому, кто хотел сделать это, палец.
– Палец отгрызла, вот это класс, ну ты даешь! – восхищенным шепотом выдохнул Чек и ближе придвинул лицо к слепой телке. – А как ты к нам попала, а?.. Кто тебя в Бункер приволок?.. Ты ж сама прийти не могла…
Смоляные волосы Дарьи внезапно вывалились из заколотого шпильками пучка, черными прутьями заскользили вниз по плечам, по груди, как живые. Чек уже очень ее хотел. Его живой нож готов был вспороть ширинку. И все же он не делал резких движений. Он сам замер. Будто замерз. Его рука словно бы обрела отдельный разум. Действовала помимо него. Сама протянулась. Сама коснулась внутренней поверхности смуглого тонкого бедра. Сама скользнула вниз, глубже, нащупала влажные исподние кудри, пальцы поласкали, потом, дрожа, раздвинули чуть вывернутые кнаружи губы. У Дарьи вокруг женской расселины было все аккуратно побрито. “У, монголка, должно быть, это у них обычай такой… бреется, как блядь”. Чек всунул в горячую, мокрую тьму палец. Тяжело дышал, глядел на неподвижное женское лицо из-под опущенных век. Она чуть приподняла колени. Он наклонился и прижался губами к ее колену, круглому и холодному, как булыжник.
– До чего я… Ну поцелуй меня… Ну же…
Бесстрастное, недвижное лицо во тьме, будто лик Луны, плыло над ним, глядело вперед и вдаль, будто перед нею была не обшарпанная стена убогой меблирашки, а раскинувшаяся до горизонта, дикая ночная степь, и россыпи звезд над головой вместо трещиноватого потолка с засиженной мухами люстрой. Он задержал дыхание. Он мог бы запросто схватить ее за шею, изломать, скрутить, вонзиться в нее с размаху, как в добычу, и, может быть, ей бы это понравилось, степнячке. Почему он не делал этого? Что его останавливало?
Дарья сжала бедрами его руку и стала отклоняться, заваливаться назад. Легла на постель навзничь, и Чек мог видеть ее лицо с приоткрытым ртом, блестящую в заоконном лунном свете подковку зубов, темные соски, странный, распахавший ее впалый живот надвое, безобразный шрам. Шрам на миг отрезвил его, испугал. Но – только на миг. Отчего это у нее?.. Кто-то поигрался пером?.. Неудачная операция?.. А, все равно. Она лежала перед ним, под ним, и соблазн был слишком велик. Он налег безобразными, искривленными губищами на вздрагивающий нежный рот. Его язык вплыл в ее покорно раскрывшийся ротик, и кровь темной волной затопила разум. Он весь обратился в то, что рвало, разрывало штаны там, внизу, между судорожно сведенными в струну ногами. Он стал рвать на себе джинсы, стаскивать их – неумело, нервно, одной рукой. Покрыл быстрыми, бешеными поцелуями ее лицо. Лицо – статуи?!
Холодное, твердое лицо...
– Почему ты такая… послушная, Дашка… Почему ты… как мертвая…
Он застонал – она прикусила зубами кончик его языка. Он не понял, не помнил, когда уже не его, а ее руки стали нетерпеливо рвать ремень, “молнию” на джинсах. Его дубинка уже истекала соком, а девка все возилась, так ее и перетак! И все сильнее, все оглушительнее, как два барабана, бились о ребра оба сердца. Чеку казалось – он слышит грохот.
Это кровь стучала в ушах.
Как... как копыта лошадей... коней там, в ее степи...
Живой нож, выскользнув из матерчатых ножен, вырвавшись на волю из тюрьмы, ткнулся Дарье в губы. Чек уже стоял над ней, лежащей на кровати, на раздвинутых коленях, шептал: я хочу, чтобы он потрогал твои губы, чтобы он поцеловал тебя так, как целовал тебя в губы – я… Он, закидываясь над ней на кровати на вытянутых руках, запрокидывая голову к потолку, понял: ему без этого рта, без этих холодных ручек, без этих игрушечных смуглых пальчиков, без покорно закрытых, как у спящего Будды, глаз – не жить.
Он еле успел вынуть себя из ее рта и всадить быстро, безжалостно, по рукоять, в ее увлажнившуюся гладкую расщелину. Два биения вверх-вниз, две судороги. И все было кончено. Крик, сотрясший комнатенку и всю старушечью рухлядь в ней. Нежный, тихий женский стон, втекший из губ в губы.
Он еще содрогался, лежа на ней, придавливая ее к старому матрацу своим жилистым, железным жгучим телом. Кончено… Конец… Начало…
“Это только начало”, – подумал он отчего-то со страхом. Начало – чего?..
Девка, это же просто девка, кошелка, телка, Чек…
Жидкое горячее олово жизни медленно, как смерть, перетекало из тела в тело.
– Дашка, – его хрип обжег ей искусанные, исцелованные им губы. – Дашка, эй, слышишь, скажи… А ты… Ты знаешь такого хмыря – по имени…
– Зачем, – ее шепот обвивает, обволакивает его. Ее ноги обнимают его, сплетаются у него над голой поясницей. Его штаны, что он не успел до конца сбросить с себя, смешно, идиотски болтаются на его щиколотках. – Зачем ты говоришь мне о всякой ерунде?.. о каком-то имени… Кто… что… не знаю…
– …по имени Ефим Елагин?.. Ну, крутой богач… Его вся Москва в лицо знает…
– Почему ты, – она задыхалась, лежа под ним, но, как и подобает ступной рабыне, не выпрастывалась из-под него, не перечила ему, – почему ты спрашиваешь меня о каком-то человеке, которого я не…
Она замолчала. Он хорошо видел в темноте, как ее смуглое лицо смертельно побледнело. Он же не был слепой – он все видел.
Он еще теснее прижал ее своим телом к кровати. Он не выходил из нее, чувствуя, как он опять наливается горячей сталью. Стал двигаться в ней, сначала тихо, потом все упорнее, снова теряя голову от того, что там, внутри, она опять сжала его всеми узкими мышцами; она вся там, в красной тьме, была маленькая и тесная, все у нее, как у девочки, было узко и сладко, он любил таких, он всегда любил спать с молоденькими девочками. Она отвернула голову. Ее щека коснулась жесткого старого одеяла.
– Ты – да! – шепотом крикнул он. – Не нет, а да! Ты знаешь его! Ты знаешь Ефима Елагина!
Они опять раскачивались в едином мучительном ритме. Старая кровать скрипела. Пружины пели. Чек понял – все будет сладко, мучительно и долго, и поэтому не спешил. Он хотел всласть помучить ее собою, огромным и настойчивым, втискивающимся в нее так, что больно было ее голому лобку. Раздавить ее. Подчинить ее совсем, без остатка.
– Ты… знаешь… да-а-а-а!..
Они сливались, срастались в неудержимом содроганье. Наконец-то он разбудил ее, спящую раскосую статую. Обливаясь потом, распластавшись на ней, в полной тишине – только свистело в каморе хриплое дыхание их обоих – он не услышал, скорее почуял:
– Ефим… Ефим Елагин… Если это он – то это он… Он, может быть…
Он сполз с нее, выдернул себя, дымящегося, из нее, упал на кровать, раскинув ноги и руки. Он понимал – он больше не кинет эту слепую раскосую курицу.
– Говори! Я… – Горло у него перехватило. – Если что – я тебя не выдам…
– Моя подруга, – тихо прошелестела Дарья, глядя вверх, в потолок. – У меня была подруга. Динка. Прелесть. Дикая собака Динка, прелесть. – Она подняла руку, во тьме рука белела, как белая длинная рыба. Она отерла ладонью пот со лба. – Я училась в Москве рисовать…и еще училась на актрису. А Динка кончила школу и нигде не училась. Она влюбилась. Без памяти. И забеременела… Она сказала мне, что забеременела… И я так обрадовалась, кричала: Динка, рожай! Это же так отлично, родить ребеночка… А она говорила: как Ефим скажет… Его тоже звали Ефим… И тоже – Елагин… А потом…
– Что было – потом?..
Чек почувствовал, как его голос сел, обратился в мерзкий сип.
– А потом… – Он видел, как ей трудно говорить. Пот стекал по ее щекам. Любовный пот. Или это были уже слезы? – А потом он ее убил. Она все говорила мне: я так люблю его, что я готова умереть с ним вместе!.. как Изольда с Тристаном, как Ромео с Джульеттой…
– А кто это такие – эти твои чуваки, ну, этот фраер... Тристан, и эта… как ее… Зольда?.. На мине, что ли, в горах подорвались?..
– Какой ты глупый. – Она прерывисто дышала, и он понял: по-настоящему плачет! – Это любовники. Они жили раньше… умерли давно… еще до нас с тобой. До всех нас.
– Как он ее убил?.. За что?..
Его голос растаял во тьме.
Она глубоко вздохнула. Отерла мокрый висок тыльной стороной ладони.
– Он обманул ее. Она мне сказала: мы решили оба умереть, я хочу умереть вместе с ним, если уж нам нельзя быть вместе! Я кричала, отговаривала ее… кричала: дура, он тебя обманет!.. А Динка пошла… И – не вернулась… А он… Он – остался жив… Остался жить… Сволочь… Своло-о-о-очь!
Внезапный крик, острый как нож, вспорол ночное темное пространство. Чек подумал: хорошо бы бабка Пелагея пьяная в дым была, не напугалась бы, не заколотила бы в дверь клюкой, отломанной ножкой стула. Он положил ладонь ей на губы. Дарья укусила его руку.
– Кусай, кусай, – пробормотал он, как бормотали бы собаке, – только, прошу тебя, не ори… Я все понял… Все…
Ни черта он не понял.
Голая слепая девушка рядом с ним, по имени Дарья, беззвучно плакала, раскосыми неподвижными глазами глядя в потолок.
4.
– Я урод! Урод! Урод! Ты же ничего не понимаешь!
Дарья сидела на корточках перед ящиком. В ящике лежало оружие. Винтовки, автоматы. В другом ящике, стоявшем за спиной Дарьи, лежали базуки. Дарья протягивала руки, брала винтовку, ощупывала ее.
Она видела оружие пальцами.
– Что ты так кричишь, – сказала она спокойно. – Зачем так орать. Ну, урод. Просто у тебя такая судьба. Ты должен быть таким.
Чек сгорбился над ящиком с оружием. Хотел, в ярости, вцепиться в черные волосы Дарьи, сидящей на полу около смертоносных ящиков. Не смог. Ему стало жалко ее.
– Они сказали… они сказали, что я конченый! Что мне – дорога на свалку!
– Кто?
– Зубр, Люкс… я их! Я – их – убью! Сегодня…
– Ты их не убьешь никогда. – Дарья выгнула шею и обернула к Чеку незрячие глаза. – Они твои друзья. Твои соратники. Ты с ними вместе будешь драться. Так нельзя говорить о друзьях, даже если они тебя обидели. И потом, Люкс вообще жестокий. Я слышала, как он разговаривал с Пауком. Это был не разговор. Люкс просто бил Паука словами. Давал ему словами пощечины. А тебе… – Она встала с полу, гибко разогнулась, и он снова, как всегда, поразился ивовой, юной гибкости ее стана. – Тебе они просто завидуют.
– Завидуют?! Что ты мелешь!
– Ничего я не мелю. Ты очень сильный. Ты такой сильный… как Фюрер.
– Как Фюрер?! Сказанула! Еще чего сбрехни…
– Я не собака, и я не брешу. – Она коснулась рукой его щеки, смешно и осторожно нащупав его лицо в воздухе. – Если бы ты захотел, ты мог бы стать вождем. Я чувствую это.
Чек внезапно опал, утих, как сдутый мяч, медленно осел на пол, к ногам Дарьи. Обнял ее ноги, прижал лицо к ее животу.
– Дашка… Дашка… – Под ее зрячими пальцами текла теплая влага его слез. – Дашка, ты ж мне просто как маманька… Дашка, ты не просто моя девушка… У меня никогда не было маманьки… Не было никогда… Меня никто никогда не ласкал… доброго слова не сказал… только все бьют и шпыняют, как… как эти… Люкс и Зубрила… А я же человек… Человек! Человек! – вдруг страшно, на всю комнату крикнул он.
Медленно поднял глаза. Обвел взглядом обшарпанные стены. Ящики с оружием. Комната была пуста, и только оружие лежало в ней, сваленное в ящиках, и только они одни, плачущий парень и слепая девушка, были тут.
– Когда назначено?..
Он не сказал: выступление, восстание, начало, бой, бунт. Она и так поняла.
– Фюрер говорит – завтра. Завтра воскресенье. В Манеже международный подиум высокой моды. И футбольный матч транслируют из Аргентины. Наши играют с аргентинцами. Если выиграют – выступаем празднично. Если проиграют – выступаем отчаянно.
– Дура. Отчаянно в любом случае, – сплюнул на пол Чек, продолжая одной рукой обнимать ноги Дарьи, другой утирая эти поганые стыдные слезы с исковерканного лица. – Без отчаяния в нашем деле ты хрен что сделаешь. Успех, девушка, это дело безумцев. Хочешь, я завтра раскрашу тебе лицо синей, белой и красной краской?
– Как индейцу, что ли?..
– И опять дура, – Чек плюнул на пол уже в сердцах, злобно. Утер рот рукой. – Это цвета флага нашей святой России.
5.
И настал этот день.
И двери выбивались ногами.
И в двери врывались люди.
И люди с порога стреляли в людей.
И люди ударяли ножами в грудь того, кто пытался убежать, крича.
И люди, чтобы спастись от людей, бросались с балконов, скатывались по лестницам, падали вниз, в шахту, в лифтах, карабкались на чердаки, на крыши.
И в безумии ночи и тьмы уже никто не различал, за что бьются, кого убивают. Люди убивали людей, и это была самая последняя правда, какую на земле в зимней ночи можно было придумать.
Дарья стреляла, стреляла и стреляла. Ново и необычно для нее было это ощущение – стрелять, не видя, только слыша, как тебе кричат снизу, от твоих колен: “Направо! Жми!” – и толкают тебя под локоть. И она нажимала и стреляла, и пистолет содрогался, как в любви, и отдача бросала ее руку назад, и она смеялась, и снег залетал ей в смеющийся рот. И маленький человечек, меньше ее ростом, что назвался ей смешным сказочным именем Нострадамий, а потом кричал ей в ухо оглушительно: “Хоть груздем назови, только в кузов не клади!.. лишь бы на рюмочку ты мне в кармашке наскребла!..” – опять брал ее за локоть, за запястье, и она чувствовала, как от него терпко, кисло пахнет перегаром, и она кричала ему: “Нострадамий, ведь уже патронов не осталось!..” – а он, озорник, кричал ей в ответ: “Жми, я знаю, есть еще!” И, когда она выстрелила в последний раз, раздался душераздирающий крик, и она поняла, что попала в человека, и побледнела, побелела как простыня, – а маленький человечек у ее ног испугался, схватил ее обеими руками за талию, под мышки, верещал: не падай, не падай, гордо стой, гордо голову держи, видишь, и ты повоевала, постреляла, видишь, уже все кончилось! А война-то противная штука, девка, а?!
Видишь, он говорил ей «видишь», а она не видела ничего.
И она, как отвратительную жабу, расширив незрячие глаза, бросила пистолет на ступени. И Нострадамий-пьяница подполз к нему, воровато схватил, оглядываясь, быстро спрятал под зипун.
И дворами, назад или вперед, он не разбирал уже, несся, расшибаясь, падая, сметая все на пути, выпучив глаза, страшный гололобый человек. Вместо лица у него застыла на морозе страшная маска. Он бежал, не видя ничего перед собой. На лбу, на подбородке у него запеклась кровь. Под распахнутой курткой у него виднелась голая грудь, вся в шрамах и татуировках. Никто не знал, молод человек или стар. Он выбежал на Тверскую, огляделся, как затравленный зверь, и увидел – на ступенях Центрального телеграфа стоит, запахнувшись в короткую шубку, слепая девушка, и длинные черные волосы девушки летят по ветру, как черный пиратский флаг. А у ног девушки, двумя ступеньками ниже, сидит странный человечек – то ли бродяга, то ли юродивый, то ли подгулявший пьяница: зарос серой щетиной, глаза просвечены ночными огнями насквозь, как стеклянные, застыли на лице двумя ледяными каплями, нос курносый, будто бы ему в рыло кулаком как следует заехали, волосенки на голове ветер мотает, шапку, видно, где-то потерял. И держит этот человечек девушку за руку, и что-то говорит ей, кричит – видно, как рот разевает.
– Дарья! Дашка! – закричал бегущий.
И побежал, побежал к крыльцу Центрального телеграфа сломя голову, скользя на черных наледях, чуть не падая, и все кричал как безумный: “Дашка!.. Дашка!..” – и на него, на его безумное, страшное лицо глядели тайно и строго из угольной тьмы кровавые кремлевские звезды.
Чек не успел добежать до стоявшей на крыльце телеграфа Дарьи. Дверца машины, мимо которой он бежал, открылась, ему ловко дали подножку, и он упал носом вниз, растянулся на ледяной закраине тротуара. Он не успел пикнуть, как чьи-то руки втащили его в машину. Он попытался выдернуть из кармана пистолет. Ему не дали это сделать. Быстрые, оглушающие удары – в печень, в висок – и он затих, скорчился на заднем сиденье. Машина взяла с места в карьер бесшумно и быстро, будто была большой черной птицей и полетела над смертной белизной последнего снега.
Чек, корчась от боли на сиденье, попытался рассмотреть того, кто его вез в машине. В салоне хорошо пахло – импортными дезодорантами, дорогим табаком. Кажется, немного коньяком. Машина неслась по Тверской по направлению к Белорусскому вокзалу, и Чек промычал, играя под дурачка:
– Куда везешь-то, дядя?.. Не виноватый я ни в чем, между прочим…
– Невиноватые с собой, между прочим, оружие не носят. – Тот, кто вел машину, не обернулся. Чек увидел только коротко стриженные светлые волосы на затылке. – Пистолетик, между прочим, неслабенький. Не из домашнего музея, надеюсь?
Тот, кто безжалостно и умело насовал ему в бок, сидел рядом с ним на сиденье, раскуривал сигарету, сложив ладони лодочкой. Поднял голову. Его нос и подбородок были освещены тусклым красным огнем сигареты. Чек всмотрелся в лицо. Он не знал этого человека.
– Все равно отпустите, – сказал Чек зло, упрямо в спину тому, кто сидел за рулем, и скривил искалеченный рот подковой. – Я вам ничего не сделал, правда?!.. так что ж вы меня…
– Ты? – Тот, кто вел машину, усмехнулся – Чек понял это: кожа собралась у него на затылке странными складками, шевельнулись уши. – Ты мне сделал, сука, уже много всего. Я тебя не выслеживал. Ты попался мне случайно. Но в жизни, видишь, много случайностей. И сегодня у меня маленький праздник. Праздник у меня, понял?
Тот, кто вел машину, обернулся, и Чек увидел его лицо.
– Я Елагин, – сказал он тихо и жестко.
– Елагин, – только и смог выдохнуть Чек.
Однажды вечером, полгода назад, Чек наставил на него пистолет у него во дворе, около его машины.
Чек знал о том, что Елагин богатый. Чек выследил его. Чек хотел от него денег.
Много денег. Чтобы купить на них оружие.
Машина шуршала шинами по подмерзлому асфальту.
6.
Ефим обернулся к Чеку. Чек бесстрашно встретил его взгляд.
– Берцы можешь не снимать. Вы ими забиваете людей насмерть, так?
– Таких, как ты. – Светлые зенки разрезали Ефима пополам. – Таких, как ты, запростяк забиваем.
– Но я же не негр. И не кавказец. И не…
– Ты богатый. Мы против богатых. Вы съели нашу землю. И все никак не можете нажраться. А мы все глядим вам в рот. Нужна новая революция.
– Проходи, убивец. – Елагин презрительно кивнул в сторону ярко освещенной гостиной. – Миша, – оглянулся он на бодигарда, – уже поздно, ночь, горничная давно спит, будь добр, похлопочи, налей нам чаю.
– Только чаю? – осклабился бодигард. – А чего покрепче?
– Валяй и покрепче. Веселенькая ночка нынче выдалась. Я сам не ожидал. Все только языками мололи про это, да ни капли не верили, что все может случиться на самом деле. Скажи, ты, урод, все это действительно организовано?
– А ты как думал?
Чек, не дожидаясь приглашения, нагло уселся на роскошный, обитый тонкой телячьей кожей диван, играл носком башмака, расстреливал Ефима глазами. Его лягушачий рот растянулся до ушей. Ему здесь нравилось. Что-то непохоже было, чтобы радушный хозяин собирался его пытать и истязать.
– Я так и думал.
Вошел бодигард, катя перед собой столик с выпивкой, закусками и дымящимся чаем в больших пиалах. Остановил столик около Ефима. Покосился на Чека, откинувшегося на спинку дивана.
– Я могу идти, шеф?
– Можешь, Михаил. Спасибо. Отдыхай. Выключи верхний свет. Горячая ночка, однако.
– Наружный досмотр не снимать? На сигнал ставить?
– Я сам поставлю. Ступай.
Они остались в гостиной одни. В мягком приглушенном свете торшера – пышная, как лилия в алмазах росы, люстра под потолком уже не горела – Чек напряженно всматривался в лицо богача, сидящего перед ним. Много денег! Каково это – иметь много денег? Почему одни имеют их чересчур много, а другие сосут лапу от голода, как медведи в берлоге? Нет, он точно бить его не будет. И к потолку на крючьях подвешивать – тоже. И ток не будет через него пропускать. Что же он будет делать с ним?
– Ты хочешь… – Ефим разлил коньяк в два широких приземистых бокала. Взял в руку бокал, поднес к носу, понюхал. – Ух, клопомор. Ты хочешь иметь много денег, урод?
Чек подтянулся к столику, тоже взял в руки бокал.
– Меня зовут Чек.
– Собачья кличка. Все равно. Ты хочешь иметь много денег, Чек?
Ишь как он об этом, о главном для него. Будто его, Чека, мысли прочитал.
– Может, сначала вмажем, Елагин?
– Вмажем.
И они вмазали.
Коньяк был отличный, пошел как по маслу. Чек, в полумраке гостиной, таращился на этикетку. По-иностранному написано, черт его разберет. То ли “Теннесси”, то ли “Хеннесси”. Нет, не надо верить этому хлыщу. Он его накормит-напоит, да и пристрелит спокойненько в этой гостиной, похожей на зал театра, на этом телячьем диванчике.
– А теперь я тебе отвечу, Елагин, – сказал Чек, не закусывая, промакивая рот рукавом черной рубахи. – Да, я хочу иметь много денег! Так много, чтобы…
– Чтобы наесться от пуза? Чтобы нажраться коньяком под завязку? Чтобы скупить во всех оружейных лавках все новомодные пушки?
– А ты гад, Елагин, – с радостным изумлением сказал Чек, и его страшную стянутую маску повело вбок, перекосило – он улыбался.
– Сколько тебе нужно для хорошей жизни?
Чек медленно взял с блюдца витую золоченую чайную ложку. Запустил ее в вазочку с черной икрой. Проглотил икру.
– Не слышу! – крикнул Елагин.
– Ну-у-у… пес его знает… ты тоже спрашиваешь… ну, так я думаю, штук двадцать…
– Чего? Рублей?
– Ну, баксов, ты что, дурак, что ли…
Чек, будто в тягомотном неправдашном сне, следил, как Елагин встает, как подходит к секретеру, как вынимает деньги, зеленые хрустящие бумажки, много бумажек, как кладет перед ним пачку на столик, уставленный роскошной, никогда им не виданной жратвой.
– Хватит тебе?
– Это что же… – Чек сглотнул. Не прикоснулся к долларам. – Подачка? Или… откупаешься?
– От чего мне откупаться? От кого? От тебя? – Елагин пожал плечами. Чек видел, как слегка дрожат его пальцы. Как дергается в тике щека. – Щенок. Много тебе чести. Я просто даю тебе деньги. Ты же хотел денег. Ты и твои пащенки. Бери.
– Брать и уваливать? Щас. Вот только врежу еще и закушу. И побегу, ай-яй, как быстро помчусь.
– Козел. Язык без костей. Умел пугать, что ж не умеешь достойно вести себя?
– Уж лучше бы ты мне суставы выкручивал, Елагин.
Они глядели друг на друга, как два зверя в лесу.
– Еще выпьем?
– Выпьем.
Ефим налил. Они выпили. На сей раз Чек закусил основательно – бутерброд, кусок омара, прямо пальцами цапнул с тарелки соленые маслины и отправил в рот.
– М-м-м, черт бы драл, как классно!..
– Если хочешь, я еще добавлю.
– Чего?..
– Десяток штук. Чтобы тебе совсем комфортно было. Чтобы ты чувствовал себя как я.
– А зачем тебе это надо все, Елагин, а? – спросил Чек с набитым ртом. – Это не спектакль? Это ты по правде? Так я ж эти деньги тогда не на себя пущу. На наших.
– Ну и псих. Я даю их тебе. Чтобы ты устроил свою жизнь, как хочешь ты.
Ефим отвернулся. Он не мог глядеть на порезанную ножами, всю в диких шрамах, страшную рожу Чека.
– А я сам не знаю, чего хочу. Налей еще!
– Не развезет?
– Развезет – усну прямо здесь! Не диван у тебя, Елагин, а облако! Знаешь, такие облака в церкви, на сводах, рисуют… пушистые, пухлые…
Налили по третьей. Бутылка “Хеннесси” опорожнилась наполовину. Исчерканные шрамами щеки Чека густо порозовели. До Елагина долетало его коньячное дыхание. Они оба одновременно подняли бокалы, сдвинули.
– А я помню… помню, как к тебе в твоем дворе подошел… ты тогда чуть в штаны не наклал, ха-ха-а-а-а-а!..
– При виде тебя, парень, да. Так оно и было.
Чек закусил губу. Влил в себя коньяк, как горючее в бензобак.
– Отличное питье… И что, шеф?.. Подпоишь… и головой в унитаз… ха-а-а-а…
– Охота была. У тебя, Чек, девушка есть?
И снова на миг Чек, пьяный, уличный бродяга, бритый хулиган, по которому давно плакала тюрьма, показался отчего-то ему таким родным, таким своим, что сердце всплыло из груди вверх и комом, как непрожеванный кусок, встало в горле. “Это все коньяк, – подумал он злобно, – отвратительный “Хеннесси” я купил сегодня, никогда не надо брать эту марку, зря ее повсюду рекламируют”.
– Есть, – важно кивнул Чек. Перед его глазами встала Дарья, как живая. – Есть, а как же! Это я к ней бежал… а ты мне подножку из машины твоей гадской подставил… ты меня – от нее увез…
Елагин встал. Сердце билось непонятно, тревожно.
– Тогда ты вот что. – Он встал, шагнул к шкафу. Рванул на себя дверцу. Вынул из шкатулки что-то, ярко сверкнувшее. – На, подари ей браслет.
Чек протянул непослушную руку. Сначала схватил воздух, потом ювелирную бирюльку. Ого, чистое золото! Или подделка?.. Он поднес браслет близко к глазам. Вертел. Рассматривал. Золотая змейка с изумрудными глазами. Да, похоже, золото настоящее. Он попробовал его на зуб. Елагин ударил его по руке.
– Ты, что в пасть суешь…
Чек снова уставился на браслет.
– Бери
– Че дерешься...
– Суй в карман. Подари своей девушке. Ей понравится.
Ефим отвернулся. Вытащил из кармана сигарету. Закурил, глядя куда-то в угол остановившимися глазами.
Он нашел, кому наконец сбагрить этот, жегший ему душу, золотой браслет мертвой Дины Вольфензон.
Чек повертел бирюльку в руках. Осторожно положил на подлокотник кресла. Золотая змея ползла по подлокотнику, светилась зелеными глазами.
– Ты, бритый крыжовник, – Ефим щелкнул его пальцем по бритому набыченному лбу. – Сильно изменишь своим принципам, если скажешь мне, кто все-таки стоит за тобой? За вами?
Они оба допились той хрустальной ночью до того, что Елагин подмял под себя Чека. Он охмурил его. Он обаял его. Он все-таки купил его – урода, озлобленного мальчонку, дикого звереныша, со всеми потрохами, со всем его нехитрым серым веществом в покалеченной башке, со всем тяжелым, как чугун, скарбом его жизни. Он сказал ему: “Чек, ты отныне служишь мне. Я тебя приобрел, Чек. Ты больше не служишь своим вождям, фюрерам и дурерам. Ты теперь – на службе у меня. Я сделаю из тебя человека, урод. Я тебя выучу! Я отправлю тебя в Кембридж! В Гарвард! В Уортон! Я отграню тебя, как алмаз! Ты себя не узнаешь! Мы, Чек, дружище, сделаем тебе пластику… и рожа твоя будет как у Алена Делона, клянусь, зуб дам…” Ефим щелкал себя ногтем по клыку. Чек идиотски смеялся, пускал пьяные слюни. В разгар ночной пьянки из дальних комнат выплыла дородная седовласая матрона, изумленно воззрилась на попойку, на вусмерть надравшегося коньяка сына, машущего рукой перед лицом, вернее, перед дикой, уродливой мордой какого-то парня в тупорылых черных башмаках и в черной рубашке с закатанными до локтей рукавами. Ефим у нее всегда был мальчик с причудами. Матрона пожала плечами. Пусть веселится. Может, этот уличный лысый уродец – и где только респектабельный Фима подцепляет таких?! – ему для чего-то понадобится. У Фимы каждый мусор идет в дело. Фима мальчик непростой. Мать развернулась, как корабль, поплыла обратно к двери. Кажется, эти двое, увлеченные коньяком и болтовней, не заметили ее. На столике на колесах стояла уже третья пустая бутылка из-под “Хеннесси”.
7.
Он втискивал свое тощее молодое тело в ее, темнокожее, нежное и податливое. Он вжимался в нее, влеплялся, будто хотел врасти, и она подавалась навстречу ему, чуя его состояние, стремясь вобрать в себя до конца, защитить, заслонить, накормить всею нежною собой.
– Дашка, Дашка… Я не раб, Дашка! Я не раб!
Они сплетались, входя, вминаясь, вонзаясь друг в друга, как всегда, на полу. На брошенном на пол матраце, залитом вином, водкой, чужой мочой и чужой кровью. Это была их первая, единственная и последняя постель.
– Я – орудие, Дашка… Ты не понимаешь… Я – всего лишь нож в руках хозяина…
– Какого хозяина?..
– А-а-а-а… Обними еще… Вот так… Любого! Любого, понимаешь ты! Любого, кто словит меня тепленького!
В Бункере было темно. Хайдер дал ему ключ, и они с Дашкой нынче ночевали в Бункере. Они пробрались в самую дальнюю комнатенку Бункера, там было пусто и голо, и только стояли ящики из-под оружия. Из-под тех винтовок, автоматов, пистолетов и базук, которыми они баловались вчера ночью. А сегодня…
Половину скинов переловили. СИЗО переполнены. Тюрьмы переполнены. Больницы забиты ранеными. Или – спятившими с ума. Кое-кому действительно удалось удрать в Котельнич. Вождь утешил уцелевших. Тех, кто остался в городе. Ценная информация. Да только она им всем по хрену. Зачем Фюрер затеял все это? Он же знал, что все обречено. Он показал нам, каково это – героизм, когда заранее знаешь, что все обречено?!
А не пошел бы он, наш Фюрер…
– А-а-а-а… Дашка… Дашка… Люби меня… Мне так хорошо… А-а…
– Я люблю тебя, – раздался над его ухом жгучий шепот. – Я люблю тебя, Чек. Еще сильнее… Вот так… Так… Я не покину тебя… Только ты меня не брось…
– У меня опять хозяин, Дашка!.. Я устал от хозяев… Я всегда был чей-то раб… Чек – раб… Чек – туда… Чек – сюда… Я не раб! Слышишь, не раб!
– Слышу… Слышу… Не раб… Ты – свободен… И я – свободна… Ближе… Ближе… Иди ко мне… Иди…
Он прижался к ней, выгнулся в судороге радости – и затих. И уронил уродливое, страшное лицо ей между нежной шеей и нежным смуглым плечом. Ее плечо пахло сандалом. Она зажигала, ожидая его здесь, в Бункере, сандаловые палочки.
Он дышал тяжело, задыхался. Она приложила ухо к его груди.
– У тебя легкие хрипят, – шепнула она. – Может, у тебя туберкулез. Тебе надо сделать снимок.
– К чертям снимок. Пусть я сдохну от чахотки. Если все так сдыхает. Наше движение сдыхает. А мы еще не набрали силу. Нас всех переловят поодиночке, Дашка. Нас всех переловят поодиночке, слышишь?!
– Я вчера ночью стреляла, – гордо сказала она. – Там, у Центрального телеграфа. Я слышала, ты звал меня. Куда ты делся? Почему ты пришел только сегодня?
– Никуда. Встретился с одним... – Он не сказал, что с Елагиным. – Знакомым мужиком. Гад мужик, конечно. Он меня завербовал. Он купил меня. У нас теперь куча денег, Дашка. Чертова прорва деньжищ! Мы можем купить себе квартиру! Мы… – Он задохнулся. Налег на нее, распластанную на грузном матраце, тощей костлявой грудью. – Как ты стреляла, если ты не видишь ни хрена?!
Она оттолкнула его от себя обеими руками.
– Слезь с меня, я задыхаюсь. Вот так. Ляг так, рядом. Я стреляла туда, куда мне велел Нострадамий.
– Что за Нострадамий, к чертям собачьим?!
– Нострадамий, – повторила Дарья упрямо. – Человек такой. Я ощупала его лицо. Он маленький, весь в щетине, от него пахнет вином, и у него очень красивый голос. Он говорит так, будто гладит тебя.
– Ну и ложись тогда под него, если он тебе так нравится.
– Я никогда ни под кого больше не лягу в жизни, кроме тебя. Когда у меня еще были глаза... – Она сглотнула слюну. – Я работала два месяца... в борделе. Я ложилась под многих мужиков. И у меня тоже была хозяйка. Ее звали Фэнь. По-настоящему ее звали Машка Распопова.
– Распопова!.. Ха!.. – Он приподнялся на локте. Обежал острым барсучьим взглядом ее закинутое кверху слепое лицо. – А твое фамилие-то как?..
– Не фамилие, а фамилия. – Она отвернула голову. Под прядью ее смоляных волос на матраце просвечивала корявая надпись, сделанная красным фломастером: “МЫ ЕЩЕ ПРИПОМНИМ, КАК ПРЕДАВАЛИ НАС”. – Улзытуева.
Она еще немного помолчала. Он лег на спину, тоже молчал, глядел в пустой потолок.
– Я слепая, и ты меня все равно бросишь.
– Мне до феньки твои хныканья! Нас всех завтра перестреляют поодиночке, как цыплят!
– Принеси мне чистый белый лист бумаги, ватман, – сказала Дарья, и ее горло перехватила судорога. – Ты всунешь мне в пальцы карандаш и будешь держать мою руку, чтобы она не сползла с бумаги. Я хочу нарисовать бабочку.
8.
Убили Люкса. Убили Железного Жеку. Убили Тука.
Убили Сашку Дегтя.
Когда убили Сашку Дегтя, половина тех скинхедов, что были завсегдатаями Бункера, свалили вон из Москвы – кто куда. По друзьям, по родным в разные города и веси. Липучка подался вообще за границу, в Варшаву, завербовался работать. Даллес рванул в Питер – у него в Питере были друганы брата-вора, он кинул на прощанье: “Лучше подучусь фраеров жирных грабить, чем ихние тачки в хлам колошматить. Я сам себе хочу тачку купить!” Паук исчез тихо, не афишируя отъезд; по слухам, он укатил в Сибирь, к новосибирским скинам. Куда сгинул Бес, никто не знал. В Бункере устроили собрание. Свалка закончилась ничем. Никого в новые Фюреры не выбрали. Никого не убили и не побили. Так, потолклись, как мошкара в столбе света, и разбежались, плюя под ноги, матерясь. По дороге накупили пива, оттянулись. Зубр потерял подтяжки, шел, поддерживая пятнистые штаны руками. Ржал как конь: “Если меня щас убьют выстрелом из-за угла, я, блин, пацаны, такой счастливый буду, бля, мне щас море по колено”.
Назавтра в Бункере поминали Сашку Дегтя, Люкса, Тука и Жеку. Набрали ящиками водки, палками – колбасу, принесли сетку лимонов, пили, пели, ели, орали и плакали, как дети, размазывая слезы по красным от водки лицам. Фюрер в Бункере больше не появлялся.
И этот, Уродец, не появлялся тоже.
И эта его слепая девка, чернушка, раскосая Дарья, тоже как провалилась.
9.
– Н-на!
Размах руки. Он не знает приемов. Он бьет напропалую. Нет, конечно, он все же что-то знает. Те, в горах, боевики, научили его кое-чему. И те, кто его бил когда-либо в жизни, тоже научили его кое-чему. И те, кого бил он, жестоко, отчаянно, с кем дрался не на жизнь, а на смерть, тоже научили его кое-чему.
И сейчас он все это вспомнил.
Некогда было особо вспоминать. Надо было бить. Соперник был сильный. Он брал телесной крепостью, сытостью, упитанностью и упругостью молодящегося изо всех сил тела, натренированного, напичканного импортными питательными смесями, накачанного на новейших тренажерах. Он дрался с сильным мужиком, и мужик вмазывал ему будь здоров. И надо было все время быть на стреме. Надо было, как на ринге, рассчитывать силы и движения. Не махать руками. Не бить глупо. С таким противником надо было быть умным. Умнее зверя. Умнее человека. Умнее Бога.
– Н-на!.. Получи!..
Они оба валялись на полу. Громадная сытая туша навалилась на него, прижала к полу. Сильные руки душили. Он ощутил удары по лицу. По своему уродливому лицу. Один. Другой. Третий. Он понимал: его лицо разбивают в кровь. В лепешку. В отбивную.
Он понимал: его лицо уродуют во второй раз. Окончательно. И бесповоротно.
– А-а-а, ты гад…
Он напрягся, попробовал скинуть с себя человека, что одолел его и бил его. Бесполезно. Его убивали. Хладнокровно? Нет. Туша над ним сопела, брызгала слюной, материлась, била, била, била его – яростно, ненавидяще, до конца.
До его конца.
Голова гудела, как котел. Ребра гнулись под ударами. Резкая боль пронзила его, он выплюнул зуб. Он уже не чувствовал боли. Краем сознания он понял: если он сейчас не выпростается из-под него, ему и впрямь конец.
– А-а-а… м-м-м-м… А-а-а!..
Вырвись. Вырвись из-под него, Чек. Найди силы. Найди. Ну!
Упереться ногами в пол. Еще напрячь мышцы живота. Он бьет тебя, отвернуть быстро сейчас голову, ну. Не удалось. Удар. Зубы полетели. Нижние зубы. Осколки ранили рот. Кровавое крошево. Выплюнуть. Отверни голову! Удар! Только не в висок! В висок – смерть!
У тебя уже не лицо. У тебя уже не маска. У тебя уже вместо лица котлета.
И ее подадут к столу. К чьему?!
Он превратился в сплошной комок железных жил. И ему удалось оплести ногами ногу раздавливающей его туши. И ему удалось, упершись локтями в пол, резко повернуть тушу на бок.
И Ефим крикнул:
– Чек! Ты что! Хватит!
И еще женский крик раздался.
Это кричала седовласая матрона. Жена этого, что дергался, бился под ним.
Раз. Два. Три. Четыре. Жив?! Еще жив. Вот он и взял верх. Еще дать ему. Еще, от души. Бежать отсюда! Вот так, так и еще раз так. Отлично! Тоже сломаны кости. Тоже разбита рожа. Еще вот так дать, от души, под дых. И – последний удар – послать его туда, откуда не возвращаются. В последнюю темноту.
– Н-н-на!
Он побежал по длинному коридору. Его ноги заплетались. Он упал. Встал, шатаясь, держась за стенку. Сломанное ребро жестоко ныло. Ловил ртом воздух. В тумане, впереди него, появились черные тени. Ему показалось: это родные скины в черных рубашках. Он хотел было крикнуть им: “Пацаны-ы-ы!..” – как его сцапали чужие руки, и совсем рядом он увидел заплывшими глазами чужие лица. Охранники, догадался он; а они уже били его, хотя он был и так весь в крови. Били страшно, с оттягом, с выкриками: “Ха!”, с наслежданием. Били, наслаждаясь безнаказанностью пытки.
Ребята, что вы, ребята, бормотал он, выплевывая осколки зубов, бесполезно спасая голову от ударов, бесполезно поджимая ноги к животу, а в живот били ногами, изощренно, умело, с кайфом, ребята, зачем вы, мне и так уже накостыляли как следует, ребята, пустите, вы же видите, я же вам ничего не сделал, ребята, ребята, ну что вы… “Вы-ы… Вы-ы… Вы-ы…” – волком выло над головой призрачное эхо. Он не помнил, когда его, избитого до полусмерти, взяли за ноги и вышвырнули на улицу. Он не сознавал уже ничего. Кроме того, что еще может, что должен двигаться. Ползти.
Ползти вперед. Ползти только вперед. Не умереть здесь. Отползти в кусты.
Ползти вперед. Кусты… близко…
Он завалился в кусты, торчащие на газоне около дома. Он не чувствовал сухих колючек, впившихся ему в тело через окровавленную рубаху – это был куст шиповника. Замер. Жизнь еще билась в нем. Сцепить зубы. Напрячься. Расслабиться. Нет сил. Отдышаться. Сказать себе: ты выживешь, ты будешь жить, не в таких переделках ты бывал, Чек, ты должен… должен…
Помутившимся разумом он уловил движение, разговор, шелест рядом, справа от себя. Люди. Глубокой ночью к себе домой возвращаются люди. Они идут мимо. Он должен. Он должен их позвать, чтобы не умереть.
Ему показалось, он крикнул.
– А-а-а!.. э-э-э-й…
Кровь из лунок во рту, там, где были выбитые зубы, заливала глотку.
Уродец Чек избил отца Ефима Елагина.
За то, что отец Ефима, Георгий Маркович Елагин, банкир, занимался торговлей малыми детьми. Елагин-старший продавал детей на органы. На расчлененку, по-простому. И деньги большие за это получал.
Чек пришел к Ефиму в гости; они опять пили коньяк; и напились; и Ефим Чеку сам об этом сказал.
А потом в комнату вошла седовласая матрона, маманя Ефима; а потом вошел этот, папаня дерьмовый, банкир этот; а потом Чеку разом ударили в голову кровь и коньяк; а потом они стали драться, вот и все.
А на столе стояли кулич, бутылка кагора и зажженные свечи, потому что Пасха была, большой праздник. И седая матрона визжала: «Хватит! Побойтесь Бога!»
А потом охранники Елагина избили Чека до смерти.
По-простому — просто убили его.
10.
Маленький человечек держал за руку слепую девушку.
Была ночь, и на улице ярко горели злые фонари.
Куда человечек вел слепую?
Куда слепая шла за ним?
А разве они знали друг друга?
Они не знали; но узнали.
Была ночь, и горели фонари; и слепая спотыкалась, едва не падала, и маленький человечек осторожно поддерживал ее, пожимая ее холодную, узкую, как рыба, ладонь.
И из придорожных кустов раздался стон.
И Дарья, оттолкнув от себя человечка, кинулась к газону.
И Нострадамий видел, как она, наклонившись, закусив губу, шарит под кустом руками, и вытаскивает, тащит за плечи, за рубаху, за ремень штанов оттуда, из-под куста, человека, мужчину, мужика… нет, молодого парня. Когда его лицо на газоне вплыло в круг фонарного света, человечек вскрикнул. Вместо лица у парня был красный кровавый круг.
– Ишь, как измолотили… Погоди, я сам!..
Подхватил избитого мальчишку под лопатки. Господи, какой легкий, худой. Да, лицо уж не сошьют. Если выживет – не сможет на себя в зеркало смотреть. Как уж срастется, так и срастется. Блин комом. Все хрящи размолочены. Носа нет – свернут набок. Глаз тоже нет. Кажется, один выбит.
Глядя одной, оставшейся зрячей щелкой подбитого глаза на склоненную над ним Дарью, избитый парень изумленно прошептал:
– Дашка…
И Нострадамий изумленно смотрел, как Дарья склоняется над ним низко, низко, как гладит, осязает пальцами его разбитое лицо, как ощупывает ладонями его окровавленные скулы, подбородок, брови, вернее, то, что от них осталось. И как ее черные нефтяные космы свешиваются, льются ему на то, что осталось от разбитого лица. Как прорезают страшный красный круг черными полосами. Как закрывают его черным флагом.
– Дашка!.. Дашка… Это ты… Как ты… тут…
– Молчи, не говори ничего, – слезы лились по ее лицу ему на лицо, как ее волосы. Она гладила его дрожащими пальцами по разбитым ошметкам губ. – Молчи, Чек. Это ты, Чек. Это ты! Сейчас… сейчас я тебе помогу… тебя избили… не плачь…
– Я не плачу, Дашка… это кровь льется… ты пальцами чувствуешь кровь…
– Это я плачу… я не буду… я спасу тебя… я…
– Все мы… Дашка… помрем… это дело слез не стоит…
Сидя над ним на корточках, она подняла незрячее лицо к маленькому человечку.
– Помогите!
Нострадамий сказал тихо:
– Пока будьте оба здесь. Ждите меня. Я скоро вернусь. Я вижу, вы знаете друг друга. Куда мы его повезем? – Он положил руку Дарье на плечо, сжал.
– В Бункер, – ответила Дарья.
Дарья ждала, ждала, ждала. Нострадамий не приходил. Она держала обмякшее тело Чека на руках, сидела под кустом шиповника. Прислушивалась. Никого. Ни шагов, ни голосов. Чек изредка постанывал. Кажется, он погрузился в забытье. Она поняла, что светает. С улицы донеслось шуршанье машинных шин, перед темнотой ее незрячих глаз забрезжило тусклое марево. Светает, а Нострадамий не пришел!
– Чек, – она встряхнула его, – Чек, надо добраться до Бункера.
Чек промычал что-то, помотал головой туда-сюда.
– Чек, надо ловить машину. Чек, у тебя есть деньги?.. Нет?.. – Она осторожно ощупала его карманы. – И у меня тоже нет… Деньги были у Нострадамия… Я слышала, как он ими шуршал… – Она разговаривала сама с собой. – Что же делать?.. И я боюсь выходить на шоссе… С ним что-то случилось, Чек… Он кинул нас… Ну и что, а я не боюсь… Я не боюсь, ты тоже не бойся, я спасу тебя, спасу…
Она осторожно выпростала колени из-под головы Чека, ощупывая, уложила его на сырой утренней земле, осторожно, ощупывая воздуха впереди себя руками, пошла вперед. Гул улицы был совсем рядом. Она нащупала ногой тротуарный бордюр. Встала. Выбросила вперед руку.
Она голосовала, останавливая машину, так, как скинхеды взбрасывали руку в победном кличе: “Хайль!”
Возле нее остановились сразу же.
– Эй, девушка хорошенькая, куда так рано!.. От любовника к мужу спешишь, что ли?.. ну садись… сколько дашь?..
Дарья опустила руку.
– Я слепая, – сказала она. – Надо довезти до места моего парня. Ему очень плохо. Побили его. Помогите. Пожалуйста! У меня денег нет, но я заплачу, когда приедем. Там у всех деньги есть.
– Где это там, крошка? – Она слышала – водитель присвистнул. – В Центробанке, что ли? Что ты мне мозги компостируешь?!
– В Бункере. На Красной Пресне. Парню очень плохо. Вы же видите, я не вижу ничего! Подвезите нас! Пожалуйста!
“Скорую” надо вызывать, коза. – Шофер хлопнул дверцей. – Садись. Где твой хахаль валяется? Поблизости? За что накостыляли-то? Должок вовремя не отдал? А ты правда слепая или заливаешь? Ты что, хочешь, чтобы я сам его в машину заволок, да?!
– Хочу, – сказала Дарья.
Она взяла его на руки. Господи, какой же он был тяжелый. Кости у него были тяжелые. Она еле приподняла его.
И все же она подняла его.
И поволокла – на руках, на себе, как могла, как уж получалось, надрываясь, думая: а как же сестры милосердия солдат на себе таскали в войну, а вдруг война, и вот она так же таскала бы раненых, – все вниз и вниз по лестнице, а шофер, чертыхаясь, остался ждать у входной двери – когда вынесут и отдадут деньги за извоз.
Она чувствовала знакомые запахи Бункера. Она слышала знакомые голоса Бункера. Она погружалась в знакомое пространство Бункера, как пловец погружается в привычную теплую воду родной реки. Ей навстречу раздались голоса:
– Эй, Дарья!.. Эх ты, Дашутка, кого это ты волокешь на горбу?.. Нашего, глянь-ка, пацана-то!.. скина…
– Дашка!.. Привет, Дашка!.. Не пустая бежишь!..
– Дарья, где это ты, блин, пропадала?.. нам тут некому у входа огонь на сходках раздавать… и на концертах тоже…
– Даш, эй, а кого это ты так классно обняла?.. Ты с провожатым?.. Одна?!.. Ни хрена себе… Тебе новые моргалы вставили, что ли?..
– Да помогите девке, не видите – она парня в бессознанке тащит, замучилась…
Чьи-то руки хватали тело Чека у нее из рук. Чьи-то голоса галдели возбужденно. Кто-то вертел ее в руках, разглядывал, хлопал по плечу: Дашка, эх ты, выглядишь классно!.. только вот что все платье белое кровью замазюкала?.. И внезапно вопль кого-то из скинов сотряс Бункер:
– Пацаны-ы-ы! Это же Че-е-ек!
– Как Чек?! Это – Чек?!
– Зуб дам, Чек! Гляди: ремень, на нем пряжка, на пряжке что выцарапано? “ЧЕК” – у него всегда такая пряжка была, для опознания, если заловят… или замочат…
– Эх и отделали-и-и!.. под орех…
– Ребя, несите тряпки чистые! Полотенца! И таз с водой! Кровь смывать!
– Где я тебе тут полотенца возьму?.. придурок…
– Ну тогда рубаху рви на бинты! Я-то уж свою – рву!
Хруст раздираемых рубах. Грохот стульев – она слышала, как составляют вместе стулья, чтобы положить на них Чека. Она стояла с протянутыми вперед руками. Кто-то взял ее за руки и подвел к стульям, на которых лежал Чек. Она опустилась перед ним на колени. Ощупала его лицо. Его безобразное, липкое от крови лицо. Она видела его пальцами, как видела бы глазами.
– Чек, – сказала она тихо, приблизив губы к его разбитым губам. – Чек, я люблю тебя. Я очень люблю тебя. Ты слышишь меня?
Он простонал. Она поняла: он говорит ей: слышу.
Черные кресты на красных кругах по стенам. Черные кресты на флагах. На плакатах. Бритые головы.
Она не видела нарисованных Кельтских Крестов. Она не видела бритых голов. Она не видела горящих глаз. Она только слышала голоса.
– А ты слыхал… Бес-то… сам себя гигнул… в той больнице, где валялся… Дырку себе в башке сделал…
– А из-за чего, брат?..
– А из-за всего хорошего… Наших сколько полегло… Он, видать, переживал по-крупному… на тыкву ему и подействовало…
Дарья, стоя на коленях перед лежащим на сдвинутых стульях Чеком, прислушивалась, как большая птица, к тому, что кричало, шептало, гомонило вокруг нее.
– А ты думаешь, если наших повыбивали круто, то мы еще круче не станем?! Нас гребут, а мы крепчаем!
– Мы ж упертые ребята, Зубрила, ты прав…
– Эх, налей!.. Вспомним Люкса…
– Ты ж с Люксом дрался на кулачках, когда тот еще в ящик не сыграл!..
– Мы все равно пойдем вперед под нашим священным флагом! Под знаком Креста! Мы будем драться и убивать! Мы будем жечь и разрушать! Наперекор всему! Пусть убивают нас! Наш час придет! Над миром встанет Кельтский Крест! Великий знак Суувастик! Хайль!
– Ха-а-айль!..
– Наш Крест, осени нас! Направь нас!.. Ха-айль!..
– Эй вы, без базара, тихо, Дашка слушает, что ей Чек шепчет…
– Отдубасили Чека клево… Морда вся заплыла…
– Новая морда отрастет… ему не привыкать…
– Не узнаем, когда из гроба встанет!..
– А он встанет, старики?.. Чего-то мне сдается – не очень… Ему, кажись, косточки крепко помяли… поломали…
– Нарвался…
– Таракан завтра приезжает, слыхал?.. С гастролей…
– С каких, к херам, гастролей… ограбил бутик своего двоюродного дядьки – и пошуровал в Питер… Кстати, в Питере до хрена скинов загребли… с Марсова поля… они там, братья наши, расчувствовались, погуляли… день рожденья великого фюрера Гитлера, учителя нашего, отмечали…
– Какое отмечали, день-то рожденья Гитлера завтра! Это что-то другое они отмечали!
– А сегодня что?..
– А сегодня, чувак, Пасха…
Она стояла на коленях, держала разбитую голову Чека в руках. Ее уши слышали бесконечное, без перерыва: Крест, убить, драться, будем, свастика, вождь, Фюрер, наперекор всему. Наперекор?.. Она сморщила лоб. Произнесла про себя еще раз: на-пе-ре-кор. Наперекор – это вопреки.
Чек лежал без движения. Стонал еле слышно. Дарья чувствовала, как около стульев поставили таз с водой, как мокрыми тряпками чьи-то руки обмывали окровавленное тело Чека. Она поняла, что Чек может не выбраться. И тогда она тихо сказала сама себе:
– Все равно. Наперекор.
Бункер молчал.
Чек умирал.
Дарья склонилась над ним. Обвивала руками его голову. Повторяла одними губами: Чек, Чек, не уходи, не надо…
Скинхеды стояли вокруг них черным кольцом.
Огромный черный Кельтский Крест висел, намалеванный на плакате, над бритыми головами.
Когда Чек умер, Дарья взяла его на руки и вынесла его на руках по лестнице наверх, на улицу, в ночь.
Скинхеды расступались перед ней. Кто-то плакал.
В животе у Дарьи шевельнулась новая жизнь.
Нострадамий исчез уже навсегда. Может быть, он сидел в привокзальном дешевеньком кафе и тянул из грязного стакана плохую водку, для вкуса посолив и поперчив ее.
Никто уже не стрелял. Никто не бил стекла. Не втыкал священные ножи в податливую, густую, как тесто, плоть. Никто уже никого не убивал.
Надо было умереть, чтобы снова родиться.
Для чего? Зачем?
Чтобы пришла новая Хрустальная ночь?
Враги человеку те, кто богаче его. Враги человеку те, кто иной крови с ним.
И не будет ни богатых, ни бедных; ни иноверцев, ни инородцев.
Слепая подогнула колени и положила мертвого Чека на холодный сырой асфальт.
Новая жизнь жила в живом животе.
А в душе? Что жило в убитой душе?
Красная апрельская Луна медленно, страшно катилась по черному небу.
ЛОДКА
Пришел Культпросвет, нарядный, в немыслимых сапогах с отворотами, в невиданной шапке с кисточкой, в обалденной черной куртке с завязочками.
Белый сказал:
– Н-да, Культпросвет, ты прямо с подиума. Задорого шматье купил?
– От кутюр, – сказал Осип и поднял вверх большой палец.
– Но-но, в девицу не превратись, что перед зеркалом крутишься? – сказал Кузя.
Мачехи не было дома. Отца тоже. На столе стояла полторашка недопитого пива и лежал хвост вяленого леща.
– Недопитое пиво, недобитый кома-а-ар, – пропел Культпросвет. – Пацаны, я вот что пришел.
– Видим, прикидом хвастануть пришел! – выкрикнул Белый и потянулся за рыбьим хвостом.
– Не в этом дело. – Культпросвет поморщился. – Никогда не дослушают.
– Слушаем, – сказал Осип и ливнул себе пива в щербатую фаянсовую кружку.
– Художники тут, из Центра современного искусства, один неслабый проект делают. Называется «Анестезия». И мы...
– Ха, ха! – Белый обсосал соленый хвост несчастного леща. – Анестезия! Белые бинты! Все ранены! Доктора сюда!
– Э, нет, все мертвы, живых нет! И некого лечить! Некого — обезболивать! Боли нет! – хохотал Кузя, хлебая пиво из стакана.
– Анестезия, кто придумал такое поганое название? Кто там куратор всей этой байды?
– Название хорошее, – сказал Культпросвет и сдвинул брови, что означало: «Молчать, сосунки». – Куратор хороший. Вы не дослушали. Я ухожу.
Повернулся. К двери пошел.
Кузя подбежал, за плечо схватил.
– Ты! Не кобенься. Ну веселые мы, вот и веселимся.
– Не веселые, а кривые.
– Ну кривые. Говори! Парни! Тиха-а-а-а!
Культпросвет встал в ораторскую позу, выкинул руку вперед и стал похож на бронзовый памятник Ленину на площади Ленина.
– Анестезия. Обезболивание. Лечить искусством. Искусство — бальзам на раны. Бальзам на душу. На раненую душу. Анестезия, наркоз. Все под наркозом. Уйти от вечной боли. Окунуться в – кайф. В забытье. Забыться. Забыться и заснуть. Уплыть. В море радости. К призракам. В чудо. Которого нет. Все? Поняли?
– Да, хороша концепция выставки, – причмокнул Белый, рыбью косточку досасывая.
– И что дальше? – спросил Осип.
Культпросвет шагнул к столу, взял бутылку и допил пиво из горла.
– Блин, у тебя колокольчики на шнурках, – потрясенно сказал Белый, трогая завязки Культпросветовой куртки.
– Это прикольно, – сказал Кузя.
– Ты как корова, – сказал Белый. – Ну, как бык, прости.И ты заблудился?
Под легкий смешной звон пришитых к завязкам медных колокольцев глухо звучал Культпросвета голос:
– А дальше вот что. Уплыть. Это значит — лодка. Лодка, поняли? Лодка. Ее — смастерить. Ну, как объект. Ну, вроде как скульптуру слепить. Только не слепить, а связать. Из веток. Ну, из досок там сколотить. Вообще построить. Поняли? Построить и выставить.
– Где? – растерянно спросил Белый. Рыбий скелет выпал у него из рук и упал к ногам.
– Где, где! На колу мочало, начинай сначала! На проекте! Ну, на выставке!
Осип молчал. Пиво прибоем шумело в голове.
Он сказал тихо:
– Построить и выставить на выставке. И все? А если сначала построить, потом поплыть, а потом выставить? А?
Белый склонил голову набок по-птичьи, заинтересованно слушал.
– Это как — поплыть? – спросил Кузя.
– Поплыть? Где? Куда? – спросил Культпросвет.
Осип немного подумал. Совсем немного.
– Построим лодку, самую простую. Я знаю как, – он тоже нахмурил брови, подобно Культпросвету. – Я расскажу вам. Мы с пацанами в Сибири строили. Когда я там жил. И по Енисею сплавлялись. Недалеко, правда.
– А почему недалеко?
Белый сосал спичку, как чупа-чупс.
– Лодка утонула.
– А вы? – Белый подмигнул белым глазом.
– А мы не утонули. Мы выплыли. Доплыли до берега, вода дико холодная. Грелись у костра. Лодку жалели. Она продырявилась.
– О горе, – холодно сказал Культпросвет. – Мне идея плавания нравится. Это тоже инсталляция.
– Что, что?! – крикнул Белый и выплюнул спичку.
– Инсталляция. Ну, это значит, объект. И притом не мертвый объект, живой. Лодка должна жить. Все верно.
Культпросвет подумал, поднял палец и для важности сказал еще раз, веско и громко:
– Все верно!
И Осип засмеялся и перевернул пустую бутылку.
Они нарубили в парке «Швейцария», на крутосклонах, спускавшихся к реке, деревьев для строительства лодки. Не деревья, а тонкие деревца, подростки. Такими они сами были недавно. Они не знали, что это за деревья. Может, осины. А может, молодые топольки. Зелено-серая, перламутровая кора. Ствол голый, и наверху — тонкие ветки.
Белый пнул берцем стволенок, пробормотал:
– И дереву не хочется умирать.
Осип придирчиво пощупал один свтол, другой, сгибал их, безжалостно гнул.
– Сломаешь! – сказал Кузя. Он курил, сидя на пне.
– Не сломаю. Важно понять, насколько они гибкие.
– Мы же не корзину вяжем, а лодку строим!
– Неважно. Почти корзину. Если хочешь — речную корзину.
Осип терпеливо объяснял парням гениальную идею. Костяк, скелет лодки связывается из длинных молоденьких стволов. Ветки идут на то, чтобы сильнее, крепче затянуть узлы. Никакого клея и никаких гвоздей. Только древесные узловины. И когда остов будет готов — обтянуть его целлофаном. «Чем, чем?!» – возмущенно крикнул Белый. «Чем слышал, – спокойно произнес Осип, – целлофаном. Несколькими слоями целлофана. Он не пропускает воду. Трехслойный — выдержит нашу тяжесть, не бойся». Белый фыркнул как кот: «Теперь я понимаю, почему ваша енисейская лодка гробанулась. Любой корягой ткни в нее — и все, дырка! И привет!»
Культпросвет раздумчиво поводил плечами, покрутил головой. Да нет, ребята, примирительно сказал он, нет, все правильно Осип задумал, все отлично. Такой лодки, хватит, чтобы доплыть... Прищурился. Посмотрел вдаль с речной кручи. «До Мочального острова». И обратно, хмыкнул Белый с сомнением, набирая на телефоне кому-то длинное, как простыня, SMS. «И обратно», – кивнул Культпросвет.
– Давай вяжи!
Осип ткнул носком ботинка в сваленный около спиленных деревьев хворост. Парни брали прутья, обвязывали ими сочленения стволов, их перекрестья, объятья. Пыхтели; вспотели. Апрельское солнце стояло в зените. Культпросвет сдернул, содрал с плеч куртку с колокольчиками, потом рубаху.
– Ты офигел, Культ, в больницу загреметь хочешь?
Осип заискрил сердитыми узкими глазами.
– Двустороннее крупозное, – пожал плечами Культпросвет, играя под кожей мускулами. Согнул руку, мускул напряг, как Иван Поддубный в старинном цирке.
– А где полосатые штанишки?! – покатывался со смеху Кузя. Он стесывал топориком концы стволов. Белый затолкал телефон в карман, сел на корточки и стал аккуратно, маникюрными ножницами, разрезать огромные квадраты целлофана на куски.
– Ты бы еще щипчиками для бровей его выщипывал, – мрачно сказал Осип. Склонялся, будто грибы собирал, заматывал прутом скрещенные стволики. – Все же это осина, братцы. Кора так горчит.
Наклонился, лизнул содранную кору. Подкожная зелень дерева обварила язык горечью, как кислотой. Пальцы жестоко гнули дерево, не боялись сломать. «Сломаем — другое срубим, и все дела».
Под руками парней из древесных костей собирался скелет лодки. Сначала мертвый скелет, потом прозрачная плоть. А потом — рожденье, плеск воды.
Скелет был еще не похож на лодку. Скорее — на человечьи кости. Осип отошел, из-под ладони, как художник на картину, поглядел на дело рук своих. Сквозь прутья просвечивал последний снег и первая трава. И вечная грязь.
– Перекур, – сказал Осип.
Белый вытащил из кармана пачку сигарет. Потом помедлил и вытащил фляжку.
Все по очереди прикладывались к фляжке, глотали, крякали, утирались.
– Ром?
– Догадайся сам.
– Арманьяк!
– «Бурбон четыре розы», дурак.
– А если без шуток!
– Самогонка, неужели не узнал?
– А если честно? Дай глотнуть еще, тогда точно скажу!
Кузя напрасно наклонял над разинутой пастью флягу, вытряхивал последние капли.
Древесный скелет обтянули целлофаном, не туго, свободно, чтобы пружинил, выдержал тяжесть четырех тел. Превосходная лодка, и как настоящая; и в то же время игрушечная, неправдашняя, хоть сейчас вешай на новогоднюю елку: прозрачная, слишком легкая, слишком легкомысленная, слишком призрачная. Лодка-призрак. «Летучий голландец!» – кричал Кузя и тряс лодку за корму, и нос нырял в воздухе, как в волнах.
Лодку легко было взять в руки, легко было донести до воды. Они, все четверо, чувствовали себя настоящими скандинавами-берсерками, сподобившимися построить ладью на берегу ледяного моря. Вместо ледяного моря была река, она звалась Ока. И еще была река, чуть побольше, Волга звалась. Ока впадала в Волгу, их город стоял на слиянии двух рек. И точно против Стрелки, где качались у бетонных причалов грузового порта баржи и катера, торчал из синевы желто-зеленый Мочальный остров — маленький кусок ржаной суши, и туда надо было доплыть, чтобы получилась эта, как ее, инсталляция.
Весла лодке сварганили из оструганных досок: доски Кузя приволок из старого сарая, и доски были совсем не старые, очень даже свежие, дерево желтое, спиленное, видимо, прошлой осенью. «Украл, Кузьма?» – придирчиво спросил Культпросвет. «Не украл, а позаимствовал на благое дело», – горделиво ответил Кузя. Желтое весло, сосновый смолистый дух, ах, какие красивые! «Для другой лодки пригодятся, когда эта прикажет долго жить», – сказал Белый, любовно оглаживая весла.
Вместо уключин к стволам платяные крючки прицепили.
С собой в дорогу они взяли всего один рюкзак, чтобы не отяжелять лодку грузом. В рюкзаке лежали консервы — тушенка и сгущенка, в лучших традициях путешественников, фотоаппарат — для хорошей инсталляции обязательно нужны документальные фотографии, как все происходило, как голодный Кузя зверски гребет, а Белый в это время тушенку из банки втихаря доедает, – на всякий случай остаток целлофана — а вдруг дождь, тогда укроются, – котелок, соль в спичечном коробке, луковица и две удочки: а вдруг на острове наловят рыбы, надо сварить уху, как же на реке и без ухи? Они гордо несли лодку мимо домов и людей, и дома молчали, а люди иной раз говорили, пускали им вслед непонятные словечки: то ли похвальбу, то ли насмешку.
«Смеются, скорей всего», – думал Культпросвет, волоча лодку; он гордо вышагивал в коротких шортах. «Жаль, деревца срубили по весне, соки самые в них сейчас ходят», – жалостливо думал Кузя, чуя под ладонями молодую кору тонкого ствола. Белый думал так: поплывем, и куда премся, ведь апрель, хоть и теплый, а снег еще лежит в лесах, а вода-то холоднющая, а если прорвется эта чертова лодка, и мы все навернемся в Волгу — прости-прощай, наша великая инсталляция, и великая слава тоже, прости-прощай!
А Осип ни о чем не думал, просто шел и вдыхал запах тополиных липких почек — тополя распускались, выпускали наружу из зимнего плена свободные цветы и листья, и хотелось вволю надышаться запахом света, в запас.
Подошли к берегу. Перепрыгнули через бетонный парапет. По наклонной бетонной трещиноватой дамбе спустились к воде. Лодка плыла в их руках, как прозрачная чудовищная стрекоза.
– Опускай, братцы! – сказал Кузя. – Прибыли.
Очень осторожно они опустили лодку на прибрежные камни.
– А раки здесь водятся? – спросил Белый и поежился. Речной свежий ветер вздувал рубаху, расстегнутую куртку продувал насквозь.
– Тю! – крикнул Кузя. – Раки! Сунул Грека в реку руку! Рак за руку Греку...
– Цап!
– Не цап, а — херак!
– Як, як!
– Пацаны! Кончай базар, – шумнул Культпросвет. – Спускай на воду! Всем кавалерам снять башмаки и шляпы с перьями! Рюкзак — в лодку — бросай!
Разулись; закатали штаны.
– Культ, тебе хорошо, ты в шортах.
– Я предусмотрительный. Давай! Сюда! Осторожнее! Камнем не прорви!
По берегу в изобилии валялись острые, сколами, белые камни, покрытые зеленой тиной.
Лодка уже качалась на воде. Парни побросали обувь в лодку. Держась за борт, первым влез в лодку Кузя. Она заметно осела.
– Кузя, ну ты и могуч, ты гоняешь стаи туч...
– Прыгай! Больше дела, меньше слов!
Прыгнул, высоко задрав ноги, Белый.
– Ну, Белый, ты пушинка! Она тебя даже не чувствует! Ты весишь как таракан!
– Почему «как»?
Осип тоже был легкий и худой. Лодка, с гребцами внутри, обрела достоинство и величие настоящего судна.
Культпросвет, прищурившись на солнце и посвистев фальшиво-весело, погрузился в лодку последним.
– Капитан последним садится на борт и последним покидает корабль, – философски изрек Белый.
– А я разве капитан? – удивился Культпросвет.
– А то кто же?
– А я думал, я — харизматический лидер.
– Хариз... еще раз! Не понял.
– Хочешь сказать — не расслышал?
– Я не глухой!
– Да, ты не глухой Бетховен.
Хохотали.
Лодка отплывала от берега, будто нехотя; будто медленно, нежно разрывалась живая пуповина-паутина между нею, изделием рук человеческих, и водой, стихией, куда она впервые отправлялась в плавание, это значит — в жизнь; и лодка, так же, как и человек, не знала — сколько она проживет, а быть может, много жизней, и много раз будет вот так же от берега отплывать; а может быть, всего одну, да и то короткую. Так же, как человек, лодка дрожала и тряслась при рождении, при спуске на воду жизни; и, если бы могла, она бы, как человек, кричала — от ужаса жить и от радости рождаться. Ее острый нос, состоящий из двух крепко связанных молодых осинок, точно, подрагивал. Дрожали и складки целлофана — от ветра, от напора волны. День был ветреный, не так чтобы очень. И ветер шел с юга теплый, накатистый, упругий. Там и сям на стрежне взлизывали синий воздух «беляки». Человечьи руки направили лодку на северо-восток, и чей-то голос произнес над ней: «Курс норд-норд-ост!» – и лодка это слышала.
Да, слышала, потому что дрожала всей шкурой, как зверь; и плевать на то, что шкура была искусственная, она-то была настоящая. Дрогнув еще раз и чуть накренившись на правый бок, лодка послушно повернула, разрезая серо-синюю рябь, и услышала над собой восторженные, несдержанные крики. Если бы лодка могла думать, она подумала бы: «Так кричат люди?» – или, скорей всего, так: «Так вот как кричат эти люди!» Чуть подрагивая, но все больше набираясь уверенности и радости, лодка медленно поплыла туда, куда ей приказали.
Вода плескалась по обеим ее бортам, и лодка, если бы имела глаза, видела бы свое отражение в воде — отражение одновременно и странное и прекрасное, и гордое и смешное: вот плывет деревянный скелет с прозрачной кожей, а плоти нет, нет деревянного корабельного мяса, куда подевалось? Слишком легкая я для этого мира, так могла бы подумать лодка — а может, и подумала уже; клонилась то на один бок, то на другой, как плывущий тюлень. А может быть, дельфин. Дельфин красивее тюленя; но это не факт. Каждый из них поет по-своему; и каждый похож на лодку, так бы думала лодка, если бы ей позволено было.
Вода блестела. Вода искрилась. Вода вбирала и выталкивала; по ее неспокойной поверхности разбегались бесплотные солнечные водомерки.
Вода говорила и пела: «Милые дети, зачем вы плывете по мне? Я коварна, я хитра. Я красива, но опасна. Так опасна любовь, и вы все равно поплывете по ней — на тот берег любви, не зная, что никакого другого берега нет. Нет берегов — а вы все равно плывете! Так поступают всегда все молодые. А старые? Разве старые не переплывают любовь вплавь? Еще как переплывают, еще как взмахивают бессильными руками! Особенно по весне. Весна тревожит кровь. Я уже — не вода, а водка, и я играю на солнце вашим сердцем. Плывите, наклоняйтесь с борта, зачерпывайте воду! Вы не боитесь утонуть, я знаю».
Так говорила и пела вода, а может, это ей лишь казалось.
Голоса людей плыли и сшибались над водой, и вода все шире раскрывала глаза, любуясь ловкими и красивыми, поджарыми, смешливыми парнями; парни гомонили, ухмылялись, переругивались, притихали, молча созерцая ширь воды, и вода всей ширью, молча, улыбалась им.
Вода знала: нет начала, так же, как и нет конца.
Путешествие начнется и закончится? Так это парням только кажется. Еще нахлебаются меня, грязной и холодной! Еще — меня — проклянут.
Солнце забежало за облако, и вода нахмурилась. Почернела. Парни глядели с бортов вниз, в глубину, и им казалось — толща воды прозрачна, и они видят дно.
На самом деле черная слепота простиралась под ними, слой слепоты, холода и мрака.
И только рыбы, проснувшись после долгой зимы, оживали, двигали плавниками, бодали черный холод глупыми тупыми головами, но это им так казалось, что они глупые, на самом деле мудрее и нежнее первых весенних рыб никого не было, не плыло в этой реке, в этой огромной, на полнеба, воде.
И Культпросвет, взмахивая веслами, как настоящий капитан, глядел вдаль и хотел раскурить трубку, да трубки у него не было.
И тут началось.
Откуда прилетел ветер? А откуда вообще прилетает ветер?
Он прилетел, и уже налетел, и уже налетал, наскакивал, мял и гнул, и мотал утлую, призрачную лодку; и парни сами себе показались призраками — так близко светлело под холодной толщей дно, так бледны стали они под косыми солнца лучами, бьющими из быстро, в панике, бегущих туч.
Дырки в тучах, и в дыры бьет свет; свет внизу, и свет вверху, а между ними тучи, и это и есть вся жизнь.
– Эй! – заблажил Кузя. – Навались!
Осип сплюнул в воду.
– Куда уж круче.
Осип сидел на веслах, а Культпросвет на корме, а Кузя на носу. Они сидели? Стояли? Лежали? Плыли? Им казалось — они уже висят в дымном воздухе, в сером небе, меж мышиных напуганных туч.
Солнце ушло. Ветер, насмешник, сильнее задул. Лодка накренилась и черпнула бортом воду.
– Ух ты, – выдохнул Кузя.
На целлофановом прозрачном дне валялась старая детская кастрюлька. Кузя принес: на всякий случай, воду черпать. Раньше в кастрюльке Кузина мама варила яйца.
– Пальцами и яйцами, – сказал сквозь зубы Кузя, бешено вычерпывая воду, – в солонку не лазить.
Осип греб, а ему казалось — он делал вид, что греб. Он хорошо видел, как белеет лицо Культпровета, будто он накурился до одури и сейчас перегнется через борт и сблюет.
– Ребята, раздевайсь, – тихо сказал Культпросвет. – И прыгай, ребя!
– Я те прыгну, – мучительно выдавил скрюченный Кузя; кастрюля в его руках металась вниз-вверх, вниз-вверх.
– Дыр в лодке нет, – угрюмо сказал Осип, наворачивая веслами. – Без паники.
Мочальный остров был уже совсем близок.
Осип прищурился. Ой нет, далек.
Солнце на бешеный миг выскочило из-за туч и буйно заплясало на серой мертвой воде.
– Вода мертвая и живая, – мертвыми холодными губами вылепил Кузя, – мертвая и жи...
– Давай-давай, – мрачно бросил Осип, задыхаясь, работая веслами, – еще про Иванушку-дурачка нам расскажи.
– Не, – губы Культпросвета тряслись, – лучше про царевну-Лебедь.
– Царевну-Лебядь? Белять?
Лодку мощно сносило. Вода как взбесилась, волокла ее беспощадно, играла с ней, прозрачной дурной игрушкой, куриной косточкой, дохлой щепкой.
Играла с людьми, непрочно, мимолетно сидевшими в ней.
– Пацаны, – Культпросвет закусил губу и стал совсем цвета простыни, – нас мимо тащит. Ну мимо Мочалки несет! Сто пудов!
Осип уже ничего не говорил. Взмахивал веслами и вонзал их, два деревянных ножа, в серое плотное масло воды.
– Господи, – сказал Кузя. – У меня руки онемели вообще.
– Господи? – спросил Культпросвет. – Где тут Господь?
– На Мочалке Он сидит, – зло сказал Осип, махая веслами, – ждет не дождется.
– Блин, – сказал Кузя и кинул на слюдяное дно лодки кастрюлю, – здесь же течение! И ямы, ямы! Засосет.
– Лес, поляна, бугор, яма, – прошептал Осип. – Обрыв, взрыв.
Лодка осела в воду уже до странных смешных бортов, сработанных из тоненьких древесных стволишек. Круглые глаза Кузи видели только кастрюльку. Косые прищуренные злые глаза Осипа — только воду и весла. И только Культпросвет видел все.
Он видел, как они, не успев стащить с себя джинсы, прыгают в воду. Как плывут, переругиваясь, отплевываясь, дрожа от охватившего и снаружи и изнутри холода. Как ноги все тяжелее, медленнее, потом очень, страшно, дико медленно и сонно и обреченно, шевелятся под водой, наливаясь черной чугунной кровью. Как все бессильнее, беспомощней взлетают над поверхностью реки руки.
Как Кузина голова ныряет в воду, потом опять поднимается над водой, и глаза у него как у рака, и волосы стоят как рачьи усы, и он уже рак, а не человек. И черный рачий страх в его глазах, а потом, внезапно, подводная рачья усмешка. И потом — рачье темное, тинное равнодушие. К серому воздуху. К серой воде. К серому недосягаемому острову, так и оставшемуся мечтой. Ко всему. И даже к тому, чего нет и не было.
Как Кузя, вместе с руками его, ногами и головой, весь скрывается под водой, и ни пузырька, ни всплеска, ни ряби, ни кругов: ни горя, ни радости. Ничего.
Как Осип выгребает мелкими, яростными саженками, борется, фыркает, и вот он похож на плывущего тюленя, а может, на нерпу, а может, на китенка, а может, на косатку; он не человек уже, а водяной зверь, а может, просто водяной — жить в воде тоже ведь можно, это люди боятся воды, а если туда погрузиться с головой и вдохнуть воду, легкие сначала разрежет звериная боль, а потом они расправятся и зашевелятся, затрепещут по-иному. Мир иной! Сколько сказок и брехни. Мир иной — это вода, только вода, и ничего больше.
Как...
Осип внезапно перевернулся на спину, и Культпросвет узрел его голый живот, тюлений живот; можно такой живот почесать, погладить, он беззащитен и нежен, и его омывает светлый, мятный холод весенней воды. Весной. Плыть весной. Утонуть весной. Они выбрали прекрасное время, чтобы утонуть. Их родные запомнят этот день.
Уши Культпросвета, слышащие теперь все вокруг, услышали и легкий шорох, бормотанье, шуршанье воды — это была ее песня шепотом, и слов не разобрать, да и не надо, поздно уже. Его голова окунулась и выплыла, и на миг он ослеп и оглох, а потом стал слышать опять, но хуже. Гудение наполнило мир, густой басовый гул: оказывается, вода и так тоже может, басом, изумленно подумал Культпросвет — и обнаружил, что у него нет рук и нечем ему взмахивать, чтобы плыть.
Что вместо рук? Холод. Вместо ног тоже был холод, он уже не плескался и не вздрагивал, а стоял водяным тяжелым столбом, об этот столб можно было разбить руки и лицо, лоб и ребра, раскроить череп, раскатать красным тестом сердце, а он бы никогда не шелохнулся, он так и набычивался, торчал бы стально и бесчеловечно, тупой, грубый, непробиваемый столб, бейся не бейся, не сломаешь, к подножию его падай — не вымолишь.
А что бы ты хотел сейчас вымолить, Культпросвет, спросил он себя быстро, судорожно, уже не было особого времени спрашивать, уже одежда намокла до последней малой нитки и тяжелела, и никла, и тянула за собой, влажная и сладкая тяжесть шкуры сливалась с протяжной жалобной тяжестью тела, и одежда превращалась в клещи, цепкие, не вырваться, и жестоко, рьяно рвала тело вместе с остатками воздуха в его полостях и пустотах — вниз, все вниз и вниз, и еще вниз, а разве у мира были когда-то низ и верх, их же не было никогда, разве у мира был воздух, он сам куда-то исчез, сгинул, – но по-прежнему страшно было погрузиться в воду совсем, страшно было не увидеть серого чужого мира в последний, да, распоследний жалкий раз, – и еще раз выплыл, выпростался в исчезающий мир из засасывающей рыбьей тьмы Культпросвет, и вместо глаз у него были всевидящие стекляшки, и вместо рта — осколок стекла, и вместо зубов — стеклянное крошево, и это стекло стало нагреваться, раскаляться, таять, вот поплыло, вспучилось, вздулось, огромный невидимый стеклодув за ним выдул его, Культпросвета, наружу из черной стальной дудки, выдул шар лица, шар живота, потешные шарики пяток; стеклянный жидкий пузырь раздулся неимоверно и, вместо того чтобы лопнуть, странно изогнулся и вывернулся наружу, прозрачным мутным стеклянным чулком, и человек, потеряв тело, запутался в последней мысли: он так и не успел ее додумать, он навек, прежде чем стать водяным струящимся пузырем, водной дрожащей лупой, запомнил ее начало, и оно звучало так:
АНЕСТЕЗИЯ
ВРАЧЕВАНИЕ НЕИЗЛЕЧИМОГО
ВРАЧЕВАНИЕ НЕИЗЛЕЧИМО
ВРАЧЕВАНИЕ НЕ ИЗЛЕЧИ
...а потом короткий бульк, и уход глубоко, глубже, еще глубже, и задержать дыхание, и бояться, все время и всю вечность бояться вдохнуть в себя жидкое, твердое, медное, золотое, огненное, пепел и прах, кровь и землю, – разве их можно вдохнуть когда-либо внутрь, они же слишком плотны и весомы для такого бедного, нищего, костлявого, воздушного, стрекозиного, невесомого тела. Я водяная стрекоза, подумал он еще, и хотел колючей лапкой летящей мысли зацепиться за плывущий по вольной воде тонкий осиновый ствол, но крыло накрыла волна, и оно вымокло вмиг, и перестали видеть глаза сквозь прозрачную сетку, полоумную фасетку, – и, сжав зубы, он выдохнул из себя последний страшный воздух, он серебряными дикими, адскими пузырями затанцевал перед лицом и резко пошел наверх, а может, вниз — верх и низ поменялись местами, это было так дивно и жутко, будто бы сам он в воде перевернулся вверх ногами и так плыл; и болтались ноги у него над головой, вместо рук шевелились и ласкали синь и зелень бедные ноги, и весь он стал наоборот — безглазый и безгубый, безъязыкий, он ощутил, что человек равновелик и туда и сюда, он мыслит маленьким, съежившимся от холода хреном, а размножается горячей головой, пылающей головней; и, уже без мыслей, с погибшими крыльями разума, он переворачивался, кувыркался в воде, все еще не вдыхая ее, все еще боясь открыть пустоту тела своего для самой великой полноты, для полной и бесповоротной боли; и не глазами, а кожей видел он через густую зеленую синь — вот плещется рыбой Осип, он плывет рядом с ним, он тонет рядом, и все еще держит весло в руке, крепко зажал, смертной хваткой, никогда не отпустит, вот камнем, недвижно, ледяно, опускается на дно Кузя — он уже вдохнул воду и благополучно, бесповоротно захлебнулся, и его не откачают, даже если выловят.
Выловят рака, не выловят — все равно. Будут махать застылыми клешнями. Будут вдувать в тинный песочный рот ненужный воздух. Напрасно. Ни к чему. Дух земли. Они наглотались духа воды, и вода взяла их, обняла и пояла.
Культпросвет наконец решился — вернее, тело решило все за него. Он раздул ноздри, открыл рот, как рыбий детеныш, мимо которого плывет дохлая муха, вкусная еда, и ртом и ноздрями втянул внутрь себя обнимающую его ледяную воду. Лед хлынул в него радостно и торжествующе, забил носоглотку, втек в легкие, и легкие скрутила эта проклятая боль, он так ее боялся, не хотел. Тело закрутилось в клубок, в комок, повторяя извивы боли. Тело пыталось зажать боль руками, ногтями, локтями. Боль, вползи в меня, как улитка в ракушку. Я не хочу отпускать тебя. Ты теперь моя. Моя.
Вращаясь в невесомости воды как волчок, он старался не упустить, не выпустить изнутри боль, приручить ее, сделать ее своей. Грызи меня, вгрызайся, ты станешь родной. Он вдохнул еще, и еще раз острый огромный стальной нож прошелся по набитым водой, как солью, легким. Голова стала легче пуха. Анестезия. Обезболивание. Зачем эта выставка. Зачем эта лодка. Что они придумали. Кто их остановил. Никто. Низачем. Никогда. Нигде. Никого. Не было.
Став неподвижным и каменным, как Кузя, он опускался на дно, возвращался в родной дом.
А наверху, или, может, внизу, глубже глубоко и выше высокого, еще плыл, еще бился Осип.
Он все еще боялся вдохнуть.
Верх и низ опять поменялись местами, и их наполненные водой головы перевернулись, как тяжелые кувшины, и из них вылилась вся вода, из всех дыр глазных, ушных и ротовых, и вылился весь воздух, и вылились вся дурь и вся мудрость, и они снова сидели в непрочной, колеблющейся прозрачной, призрачной лодке, и Кузя подумал: вот мы уже и призраки, – а Культпросвет подумал: неужели мы на том свете, а Осип подумал: черт, почему мы видим, мы же ослепли, почему слышим, мы же оглохли, – и рядом с лодкой плыла глупая Кузина обгорелая кастрюлька, покачивалась на волне, и течение уносило ее все вдаль и вдаль от лодки, казалось, торжественно стоящей.
– Эй, – сказал Кузя хрипло, – лодка-то наша... корни пустила...
– Голос прорезался? – мрачно спросил Осип. – В Большой пора.
– По-большому, – басом сказал Культпросвет и выхаркнул в реку из стеклянной, наждачной глотки сгусток бреда.
Бред, в обнимку с болью, поплыли вслед за кастрюлькой, течение вихрило их и крутило, течение пьяно играло с ними, хулиганило, улыбалось, шептало, ворчало, напевало, обтекало их, вспыхивало то алмазом, то металлом, и парни ошалело глядели, как уплывает мимо них их жизнь.
– Пацаны, – подал голос Кузя, – а что это с нами было?
– Весь ты мокрый, гляди, – кивнул головой Осип.
Осип злобно стаскивал, рвал с себя мокрую куртку, рубаху. Голую спину последнему солнцу подставлял.
Солнце толстым круглым выменем выпрыгнуло из-за туч и наконец яростно, весело залило реку, остров, лодку, из руки и затылки желтым молоком.
Струи солнечного молока текли, стекали прямо в Оку и Волгу, и вода на глазах из серой, гадкой становилась золотой, нежной, сладкой.
Кузя сказал:
– У меня ноги дрожат.
– Обувка к херам утонула, – улыбнулся Осип.
– А как мы выплыли-то? – хрипло спросил Культпросвет.
– А пес его знает, – сказал Осип. Вздохнул: – Курево жаль.
Закатное молоко густо и сладко облило прибрежный тальник, мокрый грязный песок, лодка неловко, по-щенячьи ткнулась деревянной мордой в берег, и они странно, долго, как во сне глядят на уходящую любовь, глядели на шелестящий под холодным ветром прошлогодний дерн, на стебли новой свежей травы, упрямо, жадно лезущей из черноты и тьмы наружу, в боль и грязь, да, но и в золото и сладость тоже.
Выпрыгнул первым Кузя. Он схватил лодку за нос и подтащил ее к берегу.
– Руки не гнутся, – извиняющимся голосом сказал, усмехнулся ледяными губами.
– И губы не говорят, – поддакнул Осип.
Он прыгнул вторым, уцепился за осиновый серый ствол рядом с Кузиными руками.
– Холодные, аж обжегся, – на Кузины руки кивнул.
Культпросвет не вылезал. У него отнялись ноги.
Он сидел в лодке, медленно оседающей на дно, на песок и мертвые ракушки и живые камни, и смотрел на свои ноги — не босые, нет, в мокрых черных носках.
– Где башмаки?
– Утонули, дурень. Говорят тебе. Вместо тебя.
Осип разговаривал с ним как с маленьким. Втолковывал ему, а он не понимал.
Они с Кузей вынули Культпросвета из лодки, взяв под мышки — скрюченного, застывшего, улыбающегося, в железном ступоре. Посадили на бережку под голую иву. Культпросвет уже устал улыбаться: улыбка стрекозой улетела с его лица. Он начал стучать зубами. И этот звук, стук зубов, слышен был далеко вокруг; и хорошо, издали было видно, как крупно, резво Культпросвет дрожит.
Осип стянул с него мокрый свитер и мокрую рубаху. Теперь и у Культпросвета была голая спина.
Осип выжидательно посмотрел на Кузю.
– Простыть хочешь до смерти, да? Двустороннее крупозное? На тарелочке? Пожалста.
Кузя медленно, вроде как лениво, вроде как на роскошном фешенебельном пляже, на каком-нибудь Майами Бич или там Бангалурских песках, снимал с себя одежду. Мокрую. Тяжелую. Странную. Чужую. Потустороннюю. Смешную. Не его.
– Не мое.
Бросил куртку, рубаху, штаны не песок.
– Чудом не утонули.
Осип потер лоб ладонью.
– Но водицы ой, нахлебались.
Закинул голову, в небо посмотрел Кузя.
– Эй, слышь! А может, мы в небе тонули? Там тоже мокро.
– Чушь не пори.
– А может, нам это снится!
– Вся жизнь человеку снится. Давно это известно.
– Мы сами себе снимся?
– Ой, достал. Лучше Культа разотри. Он сидит как каменная баба.
– Каменная кто?!
Кузя повалился на песок и дрыгался, неудержно хохоча. Он был похож на мокрого пса.
– Ну он же не гермафродит!
– Герма что?!
Теперь трясся в хохоте Осип, заходился, кашлял, утирал кулаком слезы.
Солнечная корова уходила за край земли. Уволакивала за собой тяжкое, желтое, живое вымя. Желтая река текла перед ними, утекала, уходила прочь, опять становясь серой, крысиной, грязной, смертной; и они, бессмертные, глядели на свою призрачную лодку, что вывезла их из полного, кромешного мрака, и любовались они своей родной лодкой, и плакали от счастья, видя ее целой и невредимой; и подбегал Осип к Культпросвету с одной стороны, а Кузя с другой, и крепко, жестоко растирали они ему голую спину и грудь, и стучали по лопаткам кулаками, и катали и валяли его по мертвой траве, и пачкалась живая спина в песке, и плевали живые губы песок, и пахло лягушками и улитками, раками и песком, сгнившей рыбой и свежей травкой, смолеными досками и сырым кострищем.
И они кричали Культпросвету:
– Тебе больно?! Больно?! Больно?!
Культпросвет мотал головой и мычал, и это означало: нет, не больно. Нет, не больно.
Он протянул ледяной палец к лодке и сказал с трудом:
– Инсталляция. Для выставки. Да.
– Для какой выставки?! – крикнул Кузя. Кинул Осипу: – Бывает. Отойдет.
– Вы что, забыли? – Губы искали воздух. – Для выставки. Для «Анестезии». Для... обезболивания. Объект. Наш объект. Ну, объект! Ради чего это все...
Не договорил, повалился набок.
И странно, резко, быстро, непробудно заснул.
Осип и Кузя сидели рядом с Культпросветом на корточках. Смотрели, как он лежит: в позе младенца в утробе матери. Скрюченный. Зажал внутри себя боль. Не отпустил.
Сохранил.
Запомнил.
Осип поднес к губам воображаемую сигарету. Делал вид, что курил. Выпускал воздух, как дым.
Кузя смотрел на него, стучал пальцем по голове.
Не смеялись. Остров, и никого. Ни души. Дачники еще не высаживали здесь свой лук и свою морковку. Ни пристани. Ни избенки. Ни настоящей, крепкой лодки.
– Ну что, посидим ночку, околеем.
Осип якобы докурил и будто бы бросил окурок на песок.
– А улитки это ведь тоже мидии? – робко спросил Кузя. – Разведем костерок, испечем. До утра с огнем продержимся.
– Не факт.
– Факт.
– Прикид не высохнет.
– Значит, будем всю ночь бегать вокруг Мочалки.
– А Культ? Он же спит.
– Проснется.
Они жили, не спали, выжили, узнали: все, что не знали, все, что хотели узнать и что узнать не смогли. Их телефоны утонули. Наутро их сняли спасатели — береговой патрульный вертолет. Пилоты матерились. Кузя сматывал в общий огромный узел мокрые тряпки.
Лодку Осип взвалил себе на спину.
Это было единственное, что у них осталось дорогого и любимого в светлой жизни на сегодняшний день.
На выставке шумело, слонялось, двигалось, плыло много случайного и неслучайного народу. Люди ели тарталетки, давили языками виноград и пили сухое вино из пошлых бумажных стаканчиков, и еще хотели, и косились: не несут ли на столы новые бутылки, и таращились, то понимая, то не понимая, что хотел сказать глупый художник, на картины и скульптуры, на объекты из картона и гипса и живую зеленую траву, вырытую вместе с кусками земли, лежащую под изображениями наглых голых женщин и суровых бронзовых дядек, обвязанных бинтами с головы до ног. С потолка свисали шприцы. Резал воздух блеск скальпелей. Шуршали, летели листы с кардиограммами. Из-под ваты и бинтов проступала кровь — краплак красный, кадмий, охра.
В старом зале с обшарпанными, оббитыми стенами, с медленно плывущей в смерть гиблой лепниной в дверном проеме, высоко под потолком висела странная лодка. Из целлофана сшитая, скелет из деревьев молоденьких. Слюдой отсвечивал призрачный целлофан, лодка плыла над головами зрителей, уплывала, звала, обещала. Громадная, бесполезная игрушка! Разве в такой можно куда-нибудь уплыть! На этикетке, намертво приклеенной к стене, значилось:
«ЛОДКА. ИНСТАЛЛЯЦИЯ. ДЕРЕВО, КЛЕЙ, ЦЕЛЛОФАН. 200х80».
А чуть повыше этикетки висела бумажка, и написано на ней было корявым почерком Культпросвета:
«ANESTESIA – ВРАЧЕВАНИЕ НЕИЗЛЕЧИМОГО
ВРАЧЕВАНИЕ – НЕИЗЛЕЧИМО
ВРАЧЕВАНИЕ – НЕ ИЗЛЕЧИ
Вы привыкли, что: ПРИДЕТ ДОБРЫЙ ДОКТОР И ПРОПИШЕТ МИКСТУРУ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ.
Вы привыкли, что – БОЛЕЗНЬ ЭТО НЕ ПРИГОВОР.
А если это Высокая Болезнь?
А если Добрый Доктор не придет НИКОГДА?
Черепаха живет триста лет. Слон – двести лет.
Счастье человека не в том, сколько он проживет, а в том, овладеет ли он искусством превращать БОЛЬ В РАДОСТЬ.
Художник выполняет на планете заместительную роль.
Он замещает Доброго Доктора.
Он понимает: в его руках АНЕСТЕЗИЯ, КОТОРОЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛО НА ЗЕМЛЕ.
И художник растерян. Он не знает, вправе ли он…
И тем не менее лучший анестезиолог в мире – это художник.
Ему не нужны кислородные подушки: ОН САМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.
Ему не нужны чудодейственные снадобья: ОН САМ ЖИВОЕ ЧУДО.
Вы хотите забыть ужас жизни? Он превратит трагедию в праздник.
Это не опасно. Ведь другие только тем и занимаются, что превращают праздник доставшейся нам даром жизни в трагедию.
Вам больно? Холст – это бинт. Холст – это повязка на рану. Масло – это не краска. Это священный елей. Им помазуют кричащую душу.
И мастихин художника – это скальпель, которым ведут по живому, чтобы ЖИВОЕ ВЕРНУЛОСЬ В ЖИЗНЬ.
Художник – это человек. Он сам страдает. Помните об этом, испытывая чудо утраты и обретения у его полотна и скульптуры.
Но, страдая, мучась от боли и слез, он с улыбкой играет вам на флейте тонкой кисти нежную мелодию ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ.
И ЕГО ФЛЕЙТУ СЛУШАЮТ ЛЮДИ, ЗВЕРИ И ПТИЦЫ.
И, плывя в утлой Лодке, он понимает: сейчас Лодка перевернется, и уже ничего не вернуть и не изменить. И не надо. Примите все как есть.
Плывите, чтобы утонуть. Утоните, чтобы выплыть.
Придите к художнику. Поймите его. Примите его. Оправдайте его, если вам кажется, что он грешен.
Потому что вечная улыбка радости на его лице, и светящейся краской он проведет вам по печальному сердцу, ибо он сам есть
необъяснимая никем и Ничем ANESTESIA».
ТОНКАЯ
1.
Тонкая она и была тонкая. Очень тонкая. Как тростинка. Камышинка. Как лоза. Гнется под ветром и снова распрямляется.
Она в художественном училище училась на первом курсе, когда Беса встретила.
Бес стоял в училищном мрачном коридоре, вокруг него столпились, скучились, вздуваясь и клубясь, незнакомые Тонкой парни в черных рубахах. «Фашисты», – вздрогнув, подумала она. Пожала плечами. На высоких каблучках хотела изящно процокать мимо, мимо. Парни не расступились перед ней. Злыми зрачками пробуравили ее лицо, грудь, ниже. Одобрительно кто-то хмыкнул. Тонкая вскинула глаза, наткнулась на глаза Беса – и хотела вскинуть руку, чтобы защититься от пронзительного, пьяного взгляда.
Не подняла руки. Не закрыла лицо.
Бес покачивался на каблуках и раскосо, бешено глядел на Тонкую. В руке он сжимал бутылку пива. Внутри грубого зеленого стекла мрачно, тоскливо переливался безумный рыжий, ржаной огонь площадного зелья.
– Привет, – сказал Бес через головы дружков.
– Привет, – беспомощно, беззвучно раскрылись тонкие губы Тонкой. – А вы кто такие? – спросила она чуть погромче, посмелее. – Вы же – не наши…
– Мы – сами свои, – пьяно-весело хохотнул Бес и выше поднял пьяный факел бутылки. Было видно, что он, может, не только пиво пил, а чего и покрепче. На ногах стоял нетвердо. – Мы – с улицы!
И захохотал уже нагло, многозубо, во весь рот.
Хохот гулко отдавался под казематными сводами училища. Тонкая попятилась. Повернулась. Побежала. Вдогонку ей неслось уже многоголосое ржанье молодых, распаленных, пьяных жеребцов.
«Их завуч убьет, убьет, если увидит», – проносились в голове смутные мысли, обрывки страха, а каблучки цокали, цокали. По навощенному, гладкому как музейная моржовая кость паркету.
На другой день Бес пришел в училище один. Без чернорубашечных дружков.
Он пришел, чтобы найти Тонкую.
И он ее нашел.
Она сидела в большом, пыльном и грязном, как старый сарай, классе, сидела за мольбертом и старательно, как маленькая, рисовала. У нее от усердия открывался рот и чуть высовывался язык между зубов. Бес сжал кулаки в карманах джинсов. Зубы тоже сжал. Мысленно он уже раздел эту девчонку и с ног до головы покрыл ее бешеными хищными поцелуями.
Стоял в дверях, глядел на Тонкую, а Тонкая глядела на квадрат холста на мольберте.
Вокруг Тонкой, тоже за мольбертами, сидели разные мальчики и девочки. Приличные, похожие на зайцев из детской затрепанной книжки. Книжку, вместе с детством, давно сожгли в печке или выбросили на помойку, а живые зайцы все сидели, поджав лапки, как на морозе. Они умильно улыбались, их зубки посверкивали, они, дрессированные, рисовали, окуная лапки в краску, приличные веселые картинки, так, как их учили строгие дяди и тети художники, мэтры, мастера. Послушные зайцы учились рисовать одно и то же: птичку, елочку, домик, друг дружку. Ах, какие прелестные зайчики! И как, собаки, похожи!
Бес поднял чугунную ногу в туго зашнурованном берце и нагло шагнул в класс. Он все углядел: учителя не было. Класс работал самостоятельно. Может, дядя художник пошел пообедать в пельменную напротив.
Бес посмотрел туда, куда, прищурившись, смотрела Тонкая.
На подиуме сидела голая девушка. Ноги у девушки были тощие, хоть прыгай между ними, зад странно, корзиной, оттопыренный, а грудь большая, увесистая, две тяжелых желтых спелых дыни.
– Вашу мать, – бормотнул Бес сквозь зубы. – Вашу-у-у-у…
У голой девушки одна нога, согнутая в колене, стояла на табурете, и хорошо виден был округлый, нежный лобок с ярко-черными, жгучими, кудряво-перепутанными бешеными волосами. Тонкая старательно прорисовывала тонкой кистью эти жесткие, пружинные завитки. Потом тщательно вытерла кисть грязной тряпкой, взяла в руки уголь – и сделала обломком угля еще два, три завитка поверх масляного слоя.
Бес сглотнул соленую слюну. В пыльном классе-сарае сидели в основном девчонки. Два парня, видом на девчонок похожие – субтильные, нежнолицые, со сладкими губками и ясными глазками, – горбились за планшетами в углу, у окна.
– Вам кого? – надменно и жеманно пропела девочка, сидевшая ближе всех к Тонкой.
Бес оскалился победно.
– Ее, – его палец взрезал воздух, и искра от пальца молнией прошила душную пыль класса и ударила в Тонкую.
Тонкая не оторвалась от мольберта, от копирования кудрявой письки дынногрудой девицы.
– Ну-у-у… – выдохнула соседка Тонкой.
Нагая наглая девица на подиуме беззастенчиво, хрипло спросила:
– Отдохнуть можно? Перекурить?
Все задвигались, зашевелились.
И тогда Тонкая встала. Во весь рост.
А росту она была высокого. Да еще на каблуках.
И глядела на всех сверху вниз.
– Да! – крикнула Тонкая. – Можно!
Видать, она тут за главную была, без педагога-то.
И все зашебутились еще сильнее. Загалдели. Замелькали разноцветные тряпки – все стали вытирать руки, кое-кто в грязные тряпки сморкался, хохотал дико. Голая натурщица тяжело слезла с шаткого подиума, нашарила в кармане куртки, висевшей на спинке венского стула, пачку сигарет, подошла к окну, не стесняясь наготы своей дынной, не накидывая на плечи ничего; так стояла, курила, у двора, у весенней улицы на виду, и синевато-розовая, как испод перловицы, кожа ее медленно покрывалась гусиными, на сквозняке, пупырышками.
Бес, гремя берцами, подтопал к Тонкой.
– Ты…
Она была выше его, он это хорошо видел.
Прозрачнее, чистые глаза. Печальные. Как на старых картинах. На иконах. Да. На иконах.
Печальные и презрительные.
«Сейчас она меня толкнет. Пальцами – в грудь. Оттолкнет. И крикнет: проваливай!»
Надо опередить ее. Быстрей.
– Давно не виделись, – выдохнул Бес – и шагнул еще, и еще шагнул, и вплотную он уже стоит, и хватает ее в охапку, такую тонкую, такую хрупкую, такую…
«Сейчас сломаю…»
…и целует, целует крепко, страшно, жадно, на глазах у всего ледяно застывшего класса, и пыль застыла, она больше не летит золотыми искрами, и весна за окном застыла, и ветер застыл дешевой сигаретой в руке ледяной статуи, голой и розово-синей, перед распахнутым в смерть окном.
Когда губы отклеиваются от губ, он удивленно видит – она не возмутилась, не огорчилась. Рука не поднимается для пощечины. Глаза… глаза…
Смеются! Ура!
– Я вас люблю, чего же боле, – язык не слушается Беса, – что я могу еще…
– Ой, Настька! О-о-о-о-ой! Ты и не говорила, что у тебя…
Сквозь хохот и выкрики ее сокурсников он, держа свое лицо слишком близко от ее лица, сказал:
– Я Осип. Меня мои зовут Бес. А ты?
– Ах ты, Бес, – сказала Тонкая очень тихо, и он услышал нежный нервный жар, исходящий от радостно загнутых вверх кончиков ее мягких и вкусных губ. – Никакой ты не Бес. Ты – Ося.
Они говорили очень тихо. Никто не слышал их.
– Поцелую тебя еще раз? – спросил он.
Его раскосые глаза, темные бешеные сливины, плыли, текли мимо ее глаз, опять возвращались, кружились.
– Поцелуй, – сказала она.
И голову откинула. Чтобы – удобнее.
Так они увиделись. И так поцеловались.
Потом они целовались много, много, много раз. Везде, где угодно. На чугунном парапете фонтана на площади Минина; на кремлевской стене, откуда время от времени прыгали самоубийцы и по неосторожности сваливались вниз, в газон, малые дети; на жарких улицах города, влипая каблуками, подошвами в плавящийся, кажется, сладкий, приторный асфальт; на Откосе, в виду большой холодной реки, блестящей, как начищенный наждаком широкий противень; в трамвае или автобусе, среди потной толкотни и возмущенных шиканий и смешков пассажиров: «Распустили молокососов!.. Порнография всюду!..»; в дешевых маленьких кафе, где пекли блинчики с вареньем, пирожки с зеленым луком, пахнущие детством и дачей, и наливали кофе в чашечки маленькие, как речные ракушки-беззубки; везде, везде, где их настигала на бегу, в бесконечном полете яростная нежность, обнимались и целовались они, – и смеялись от радости быть вместе, чувствовать желанные тела, щеки, губы и зубы друг друга, и выдыхали друг в друга весь воздух юной, первой и последней любви – до конца.
Тонкая спрашивала Беса: ты что делаешь? Учишься? «Нет». Работаешь? «Нет». Так что же ты делаешь-то, пытала она его, что? Он уходил, ускользал глазами от этой пытки, от этого практичного, обывательского допроса. Лучшим ответом, он знал, был поцелуй.
Но иногда он нехотя, жестко рубил воздух острыми словами: «Я делаю свои дела, Тонкая. Тебе – в них – не место».
Тогда она умолкала. И широкие, круглые озера ее прозрачных глаз становились еще грустнее.
Ему нравилась в ней безропотность. Вернее, то, что он считал безропотностью, покорством, тонким смирением.
Он еще не знал тогда, что самая крепкая лоза – гибкая. Что ветер ломает тех, кто прямо стоит, не гнется.
Еще ему в ней нравилось умение молчать. Он говорил – а она слушала, только шире распахивая серые, без дна, с мелькающими тенями потусторонних черных чаек, слезные озера.
Он не думал о том, что там она рисовала-черкала на бумажках, картонках и холстах, ему было все равно, что за мир плясал, рождался и погибал в ее неумелых, несмелых картинах; ему было важно, что вот она, живая, – но ему нравилось, что она – художница, и что она умеет делать красивые вещи.
Она смущенно познакомила его со своими родителями. Они жили в предместье, в собственном доме, не богатом, но и не слишком бедном; старая добрая бабушкина утварь, сундуки и самовары, в новых шкафах пахнет забытым нафталином, в узкогорлом кувшине на глазах медово вянет сирень, что Бес нагло, быстро и жадно надрал в соседнем палисаднике. Отец – железнодорожник, мать – врач. Обычная русская семья. А дочка – необычная. Ангел.
«Где… твои крылья… которые нравились мне…»
Он пел ей хорошие, жесткие песни. Он ставил ей хорошую, пронзительную музыку. Правильную. Он любил слушать с ней хорошую музыку и целоваться.
А еще он очень любил ее кормить.
Он приводил ее к себе домой, в мастерскую отца, где они жили с отцом и мачехой и холстами и кастрюлями и кошками, вталкивал в дверь, когда отца и мачехи не было дома; выгонял голодных кошек – из форточки – на улицу; усаживал Тонкую, с ногами, на старый, с поющими пружинами, диван, старый скрипучий корабль штормящего, буйного времени, – и начинал готовить. Он находил в холодильнике то, что было куплено мачехою и отцом: три помидорины, два огурца, банку кукурузы, сиротливые яйца, хорошо, если не два, а три-четыре, кусочек сала, посыпанного красным перцем, усохшую луковку, на дне стеклянной банки – остатки прошлогодних соленых грибов; ну, и масло подсолнечное, вот оно, как же без масла, – а вот и хлебец, а вот на полке, гляди-ка, здорово, яблочко завалялось! – и кетчуп, ого-го! – и из этого всего добра сооружал такую вкуснятину, что Тонкая ела – и смеялась, ела – и хохотала от радости!
– Ося, тебе надо в кулинарное училище…
– Я сам знаю, что мне надо! Ешь!
Она ухватывала ртом еще и еще с большой серебряной, старинной ложки. Он хватал губами ее губы, всасывал, они ели вместе, губы к губам, губами из губ. Сколько радости, чистой, беспечной!
Когда трещал ключ в замке, они отшатывались друг от друга. Тарелка наполовину пуста, наполовину полна. Они оба голые, и надо закрыться. Тебе не понравилось? Это блюдо лучшее в мире. Ты лучший.
Я лучший и счастливейший. А ты?
Я тоже.
Он укрывал Тонкую дырявой простыней до подбородка. Ложился на нее сверху, изображая одеяло.
Мачеха стучала в дверь, голос ее был усталый и тусклый:
– Ося? Ты… дома?
Тонкая утыкалась лицом в подушку.
Бес бубнил басом:
– Дома, дома, до-о-о-о…
Мачехин голос доносился уже из кухни. Плачущий.
– Ну вот! Опять гора посуды грязной! Кошки голодные где-то носятся! Ося! Ты же взрослый уже! Как же ты будешь жить один!
Он высыпал поцелуи, как невесомых бабочек из сачка, на тонкое, перламутровое лицо Тонкой.
– Я не буду жить один, – шептал он, задыхаясь. – Я буду жить с тобой. Только с тобой. Только. Только.
Все было хорошо, когда они были вместе.
И все было плохо, когда к нему приходили друзья.
Белый приносил всегда очень плохую водку. Водка Белого почему-то, удивительно, пахла псиной. Мокрым беспризорным псом, свалявшейся шерстью. Кузя сначала изображал франта – у него болела нога, он ходил со стариковской, допотопной тросточкой, напяливал пиджак, нацеплял галстук-бабочку. Потом являлся грубый, потный, в камуфляже – и тоже в карманах пятнистой гимнастерки приволакивал пару бутылок. Кузина водка была чуть получше: Кузя работал охранником в магазине и получал зарплату ничего себе, мог себе позволить.
Паук возникал внезапно, из ничего, из тумана за окном, сразу в комнате, как колдун. И тоже водку под мышкой тащил. О-е-мое! Молодость! Водка! Революция! Счастье!
«Завтра мы все равно умрем, – жестко рубил Паук воздух словами-ножами. – Пейте».
И они пили.
Господи, как пили-то они!
…нет, нет, я стою еще н-н-на ногах… Н-н-не надо меня… тяг-гать…
…зачем, ну зачем мы живем, Бе-е-е-ес?! Ну зачем мы живее-о-о-ом?! Вот нас родили… и мы – живее-о-о-ом! А заче-е-е-ем?!
…з-з-за Еретик-к-ка… Е-ре-тик… он зна-а-ает, заче-е-е-ем…
…накатим. Вы слабаки. Глянь, как Кузьма от-т-тлично держится. Он…
…я и еще могу.
…он и еще-о-о-о… может.
…слышь, у тебя закусь какая еще есть? В хо-ло…
…ик!.. дильнике?.. Есть. Или нет. Нет.
…жрать щас нельзя. Нельзя-а-а-а. Сблюешь все равно.
…ты че, глухой! Ты че, глухой! Ты че, глу…
…звоно-о-о-ок! Звоня-а-а-ат, ептять…
…еще-о-о-о звоня-а-а-ат…
…ма-че-ха?..
…иди, Бес, отпирай, ты еще держишься… на нога-а-а-ах…
– Тонкая!.. Ты…
Бес пытался обнять ее за шею. Она отвернулась. Отпрянула. Он все равно схватил ее за плечо, рванул к себе. Пьяные пальцы впечатались в кожу, продавали до хрупкой кости.
– О, бли-и-и-ин… Я тебе… больно…
– Ты мне сделал больно! – закричала Тонкая тонко и звеняще.
Бес бухнулся на колени. Его коленям не было больно. Они были деревянные. Он мог их сломать ради нее. Сломать руку, ногу.
Водочные лохмотья его губ нашли ее живую щиколотку. Палец, что торчал сквозь плетеные ремни босоножки.
– А-а-а-а, Тонкая-а-а-а… жизнь моя-а-а-а…
– Ты пьян! – крикнула она опять, еще громче.
На ее крик из двери высунул голову Кузя. Пятнистая гимнастерка на груди Кузи была расстегнута, словно ворота распахнуты. А за воротами – живой дворец, блестит от пота, вздымается гора царская, дышит, синие тату шевелятся, крестик на бечевке прыгает, все живет, горит и брызгает пьяными искрами!
– Эх ты-ы-ы! Бе-е-ес! Кто к на-а-а-ам! Девка твоя-а-а-а!
Бес лег на пол на живот. Распластался. Целовал голые, пыльные ноги Тонкой.
Босоножки на каблуках. На высоких каблуках.
На-вы-со-ких…
Если поднимет ногу, злая, и ударит мне в лицо босоножкой – каблук глаз проколет… А-а-а-а…
– Зайдэшь, дэвачка?.. За-хады, гостэм будэшь! – отчего-то по-восточному завопил Кузя. И шире, к стене отлетела дверь, и чуть не соскочила с петель.
Бес лежал на полу. Обнял ноги Тонкой. Тонкая стояла как столбик. Как тонкий, плохо врытый в землю столбик. Тоже шаталась. От обиды. От зла. От горя. Оттого, что Бес, крепко ухватившись за ноги ее, качал ее, и она качалась, как на палубе корабля.
Она вырвала ногу из его рук. Шагнула. Вырвала другую.
Каблуки… Каб-лу-ки… Цок-цок…
Шаг в комнату. Семечки окурков на полу. Пустые бутылки катятся из-под ног, как кегли. Полутьма. Лампа на железной ножке, вздернута к потолку, как на пытке, допросе. Книги свалены в кучу – ветхие картонные кирпичи. Все старое, картонное – сжечь! Сжечь старый мир! Уничтожить! Новая революция потрясет все! Очистит! Наш Еретик…
– Что тут у вас, – ее нежные губы холодны и несчастны, – Господи, что тут вас…
– Господи?! – орет Кузя. – Гос-с-споди-и-и-и?! А кто такой Господи-и-и-и?! Итальянец какой-то, а-а-а?! Макаронник?!
У Тонкой становится белым кончик носа. А скулы будто мажет кто ярким, кровавым кармином.
– И-ди-о-ты, – говорит она раздельно и тихо. – Пьяные и-ди-о-ты.
– Тонкая-а-а-а! – Это Паук, вставши с дивана, разводит в стороны обнимающие щедрые руки – и чуть не падает на Тонкую, колени у него подгибаются. – Ура-а-а-а! Иди к на-а-а-ам!
– Вы все идиоты, – шепчут уже беззвучно ее белые губы, а красные щеки горят красными фонарями. И она поворачивается, чтобы уйти.
А Бес лежит на полу, у порога. Бес лежит. Он не может встать. Он лежит щекой на холодном полу, пахнущем кошачьей мочой, и плачет и смеется от пьяного, вечного счастья.
И Тонкая, уходя, хочет переступить через него. И не может.
И садится на корточки рядом с ним, на высоких своих каблуках. И гладит Беса по голове. Черный ежик его волос потных, грязных, торчмя торчащих.
– Ты мой ребенок, – шепчет они неслышно, – ты мой ребенок… ты… дурачок… мой…
Каблук подламывается под ней. И она неловко падает на пол, валится рядом с ним. На полу лужа кошачьей, остро пахнущей мочи, и моча мгновенно пропитывает край ее короткого, слишком короткого платьишка.
Кузя стоит над ними. В его руке – бутылка. Торжество на розовой, потной роже. Голая грудь дышит хрипло, тяжело, ходуном ходит.
– Бес, вставай…
Шепот Тонкой достигает Бесовых ушей.
Тонкая плачет уже не стыдясь. Она швыряет в угол, на гору старых тапочек, сапог и стоптанных туфель, свою крошечную, как пудреница, сумочку.
Она ложится рядом с Бесом на пол, на залитый кошачьей мочой, давно некрашеный холодный пол. Она треплет, трясет Беса за голову. Лица слипаются, лица мокрые гладят друг друга, как руки, лица вжимаются друг в друга, щеки привариваются, ресницы веки и скулы щекочут, губы плачут, губы, пылая бешеным светом, печным огнем брызгая и искрясь, находят живую плоть, вдыхают и глотают, как нищую душу.
– Ося!.. Осик мой… Ну что ты, что ты, что…
Из дверей другой комнаты медленно выходит полосатый, как матрац, кот. По полу несет сквозняком. Кот подходит к Тонкой, вздымает лапу и осторожными когтями берет, цапает ее за подол платья, похожего на детскую ночную рубаху. И тянет, тянет ткань на себя. И в ткани – дыры.
– Воз-люб-лен-ныя-а-а-а! – недуром кричит Кузя и выше поднимает бутылку.
И переворачивает ее. И поливает водкой Белого, белой паленой водкой, остро пахнущей бездомной псиной, Беса и Тонкую, на полу лежащих, кота, старые башмаки, старые газеты, старые половицы.
Однажды шли они с Тонкой там, где она жила, в предместье, в пригороде бедном, железнодорожном. И не поздно вроде бы шли. Еще светло было. И тут вывернулись они. Из-за угла. Из-за старого, безглазого черного, брошенного сруба. Все бритые. Лысые. Голые головы, голые глаза. И голые, твердые, крепкие кулаки.
– Ой! – сказала тихо Тонкая.
Поздно. Ее уже отшвырнули в сторону: цыц, стой и гляди, да не убегай, сучка, иначе догоним и вмажем, хуже будет, а вот наблюдай, глазенки пошире растопырь.
Главарь близко подошел к Бесу, так близко, что его грудь под грязной рубахой похотно, зверино коснулась груди Беса.
– Ты скин? – жестко кинул он Бесу.
И мотнул башкой на уже отросший Бесов ежик.
Бес кивнул:
– Скин.
И улыбнулся.
– А почему ты не бритый?! – взвизгнул главарь.
Бес пожал плечами. Поглядел через лысые головы парней на Тонкую. Тонкая стояла рядом. И – слишком далеко. Так далеко. Так…
– Потому, – пожал Бес плечами.
Они навалились все разом. Тонкая не успела заметить, как и кто повалил его на дорогу. Били жестоко, умело. Били ногами. Кто-то кулаками под ребра совал. Но ногами было удобнее.
И били ногами – в лицо.
– Ой, – говорила Тонкая сама себе, – ох…
И зажимала рот рукой, чтобы не закричать.
А потом оторвала, отодрала ладонь от рыдающего рта. Завизжала, и визг ввинтился в уши бьющих:
– Спаси-и-и-ите! Помоги-и-и-и…
– Сунь ей, чтобы не вякала, – бросил через плечо главарь, поднимая ногу в туго шнурованном берце для удара.
Лысый его кореш вразвалку подошел к Тонкой, размахнулся – и – не ударил ее. Белые, яркие, бессмысленные глаза под голым лбом наткнулись на ее широкие зрачки, соленые озера. Кулак замер в полете. Разжался. Бритый парень помацал грязными пальцами Тонкую по щеке.
– Карапузечка, – отчего-то странно, сусально вывернул он выпяченными, как у негра, губищами.
И опять отшагнул к своим, к жертве.
– Не бейте его! – задушенно крикнула Тонкая.
Лысые нудно, старательно продолжали бить Беса. Тонкая слышала влажное, сытое хряканье, чмоканье ударяемой, побиваемой плоти: ч-к, ч-к, ч-к. Она скосила слепые, налитые щиплюще-водочными слезами глаза и хорошо, ясно увидела, как нога главаря размахнулась, пятка назад, потом острое, в дырявой штанине, колено вверх, и носок – твердый, как черная гиря, как нос бомбы, летящей из самолетного люка, увесистый носок пыльного, в ляпах засохшей грязи, берца – а! нет! не надо! не-е-е-ет! – в лицо – Бесу.
Хр-р-р-р-ряск!
Его лицо лежало на щеке, в пыли, и оно на миг показалось Тонкой катящейся тарелкой: поставили измазанную ягодами тарелку на фарфоровый обод, толкнули – и покатили.
И кто-то пнул в катящуюся тарелку берцем.
Хр-р-р-рак!
Фарфор, ты раскололся. Ты-ы-ы-ы-ы…
Нос был. Носа – нет. Красная дыра. Красные потеки по лицу. Красные, синие. Почему – синие?! Почему?!
Красные – кровь, понятно. А синие?! Зачем синие?! Почему синие?!
Тонкая осела на дорогу, в пыль. Грязь выдубило солнце. Острый ком грязи воткнулся ей в ягодицу, в голую кожу, под трусики. В стыдное место.
В место, которое… так… любил… це-ло…
…в живот ее пнули. Откатили.
– В бессознанке телка, – выплюнули над ней, в нее.
Она лежала на боку, подобрав под себя ноги и руки. Скрючилась. Защищала руками и ногами живот. Себя. То, что еще тайно для нее самой жило в ней.
…услышала еще плевок.
Больше не чавкало. Не хрустело.
Отдаленный, как с небес, гомон грубых голосов. Кажется, смеялись.
Перед закрытыми веками вспыхивали, обнимались и расползались синие и красные круги, кольца, стрелы.
Тонкая разлепила соленые ресницы. Она была жива, и это было странно.
Она посмотрела на Беса – он пошевелился. Да, тоже жив.
Пока – жив.
«За «пока» бьют бока», – вспомнилась ей детская дурацкая присказка.
– Ося, – поползла она к нему, не разгибая скрюченного позвоночника, – О-о-о-ося-а-а-а-а…
И он тоже протянул к ней руки.
Они оба лежали скрюченные в пыли, на дороге нищего грязного предместья, и она подумала: как раздавленные жуки. Червяки.
«Человек – червяк… Человек – не червяк… Кто такой человек?..»
– Оська, они тебя…
Она с ужасом ощупывала пыльными трясущимися пальцами его красное, липкое, будто вареньем вымазанное, вспухшее, лиловое лицо. Без носа.
Вместо носа зияла дырища.
Лысый вожак хорошо, точно ударил. Нос вдавился в череп, глубоко. Нос – провалился.
Тонкая поняла, что она провалится сейчас в липкую тьму.
– А-а-а-а! – закричала она, чтобы с макушкой не провалиться.
Чтобы остаться здесь. На земле. На грязной подсохшей на колючем солнце дороге. В этом сучьем, бандитском пригородном вечере. В этой жизни. В этих слезах, что текли, стекали слепым дождем по щекам и мешались с дорожной пылью, и превращались в комочки грязного теста, хруст на зубах, горько-соленого теста земли.
Они на последней электричке добрались до города.
Тонкая вызвала «скорую». Мачеха Беса чуть не потеряла сознание, увидев его безносую рожу. А он – смеялся. Он – был доволен! Счастлив! «Я, это! Меня! Избили! – Он наклонялся к Тонкой. Она глядела на него, как на безумца. – Впервые в жизни!»
А, вот в чем дело, поняла она, впервые в жизни. Избиение для парня – это вроде как… ну, девственности лишиться… для девчонки.
Тонкая залилась краской. Она порвала свою девичью кружевную занавеску не с Бесом.
До Беса у нее было три мальчика. Всего три.
Можно сказать, она была еще девственницей.
В больницу она с ним моталась во внутренностях ржавой и корявой «скорой», кислых, кишечных, блевотных. «Вы мне тут кровищей-то все не облейте! – рычал через плечо шофер. – Потом кто будет оттирать? Пушкин?!» Бес обнимал Тонкую, его тяжелая худая рука, как рельсина, давила ей шею, спину. Хирург спрашивать лишнего не стал. Он потащил Беса за собой в кабинет, и Тонкая только услышала сквозь стену – ее уши внезапно стали как у волчицы, торчком, и стали слышать везде и всюду, – как Бес сперва слабо простонал, а потом коротко, отчаянно вскрикнул. Через пять минут врач вывел Беса в коридор. Тонкая держала колени обеими руками, чтобы не подскакивали к подбородку.
«Одни в злачных местах не шастайте», – устало сказал врач.
Тонкая остановившимися глазами глядела на мелкие, как красные букашки, пятна крови у врача на рукаве халата.
Нос появился на лице опять. Немного кривоватый. Но все равно нос.
«Не целуйтесь какое-то время, а?» – сказал врач, вытер лоб окровавленным рукавом халата и необидно, хорошо засмеялся.
У Беса был день рожденья, и Тонкая принесла ему один подарок.
Они условились: никаких пьяных компаний, только они одни, и – один подарок. Один… один…
«Мы одни, и подарок – один», – смеясь, говорила Бесу Тонкая, щекоча его за ушами, как кота, кончиками пальцев. Бес терпеливо ждал. Он был трезв, чист, вымылся весь перед приходом Тонкой, нагрел воды в чане, горячей воды у них в мастерской не было, беда, – приоделся: рубаха чистая, носки тоже, – весь сиял изнутри, как неразрезанный лимон на белом фарфоровом блюде. Это был праздник. День рожденья с Любимой!
Тонкая вошла в мастерскую, на ее нежном лице было написано: а вот поди угадай.
– Что? – она вытащила из сумки большой сверток.
– Наплевать, – грубо и нежно сказал Бес, взял у нее из рук подарок.
Они целовались долго и счастливо, невзирая на нежный и больной, вправленный нос. Нос был весь синий, красный, багровый, как закат над холодной рекой. Они оба смеялись, прекращая целоваться, и осторожно трогали его.
– Нет, ну все-таки? – Она опять потянулась к свертку. – Давай с трех раз? А?
Бес зажмурился.
– Цветок в горшке! – крикнул он.
– Холодно! – крикнула Тонкая.
– Пельмени! «Сибирские»!
– Ты дурак, Оська, что ли…
Он повалил ее спиной на старый диван. Пружины заскрипели противно, ржаво, столетние, бедные.
– Есть одна вещь, – сказал он серьезно и тяжело, и глаза его блеснули мрачно, по-взрослому, по-солдатски. – Есть, да. Но ты мне ее никогда не подаришь. Потому что. Она. Очень. Дорогая.
– Эта – тоже дорогая, – обидчиво сказала Тонкая. – Для меня – дорогая. Но тебе понравится! И мне…
Бес устал ждать. Его руки рванулись, его пальцы быстро разорвали толстую бумагу пакета. Две змеи с шуршаньем вывалились на диван и поползли. Медовый, янтарный выблеск: стекла? Литья? Железное кружево, винтики и шпунтики, и запах, странный этот запах, то ли вино, то ли корица, то ли…
– Кальян! – крикнул он и улыбнулся широко. И за нос схватился.
– Блин, мне нельзя улыбаться… Больно… Мышцы… тянет…
– Да, кальян, – гордо кивнула Тонкая. – Мы будем его курить вместе!
И они курили его вместе.
Они подливали внутрь кальяна мартини, Бес выпросил у мачехи денег триста рублей и купил маленькую бутылочку мартини, и в комнате прекрасно пахло табаком, вином, виноградом, Востоком, любовью; они курили кальян, ничего не ели из яств, что Бес на день рожденья наготовил, они были сыты друг другом, они заворачивались, потные, в простыни и так расхаживали по мастерской, изображая шаха и шахиню, но голод брал свое, и Бес чистил для Тонкой апельсин, а Тонкая кормила Беса из ложечки салатом из кукурузы и крабовых поддельных палочек, дешевым салатом бедняков, заправленным дешевым майонезом; и вдруг она спросила его: «Бес, а где твои?» – и Бес беспечно, скалясь всеми зубами, ответил: «Шнурки? Уехали париться в бане, в деревню к другу, к скульптору Погорелову», – и тут грохнуло в стекло, будто булыжник швырнули, это кот ломился в форточку, полосатый кот, тяжелый и шерстяной, как шерстяная, мохнатая подушка, – и Бес встал с дивана, голый, Тонкая залюбовалась им, такой он был стройный, поджарый, смуглый, ее сумасшедший Оська, – и открыл коту форточку, заорал:
– Лезь! Лезь, медведь! Лезь в дупло!
И кот прыгнул на подоконник, шлепнулся, живой и голодный, и Тонкая и Бес посадили его, от щедрости душевной, на стол, среди еды, среди тарелок, плошек и свечей, торчащих в пустых граненых стаканах: ешь, котяра! Жри! От пуза! Сегодня наш день рожденья!
И кот, урча, ел из людских тарелок крабовый салат и жареное мясо, и Тонкая смеялась, а Бес курил, глядя на них обоих и наслаждаясь жизнью.
Бес увязался с Тонкой на этюды. Он жадно наблюдал, как она устанавливает на краю оврага фанерный ящик на трех железных ногах, вынимает из него квадратные картонки, выдавливает на круглую картонку краски из маленьких, как червячки, тюбиков. Кисти плясали, вертелись в ее руках. Бес глядел-глядел да и сказал:
– Тонкая, я революцию делаю. Я – в партии.
Она в это время мазюкала по зеленому белой кисточкой. Белые точки. Ромашки. Раз ромашка, два ромашка. Три, четыре, пять…
– Тонкая, ты слышишь? Я…
– Слышу, – сказала Тонкая рассеянно, – слышу…
И вдруг обернулась. Кисти полетели в траву.
– Что?!
Он думал, она ударит его, а она засмеялась.
Покидать город. Покидать детство. Покидать юность. Закрывать за собою дверь во вчера. Разрывать веревки. Зачинать дело. Зачинать ребенка.
Скорее, скорей. А то опоздаем.
А то не успеем к поезду, к сроку.
И кровь прольется без нас. И плюнут в лицо подлецу – другие.
Дорогу перейдут, а ты в морду врагу не дашь.
Ты же уже научился драться?
Научился – других научи.
Мир жесткий и жестокий. Мир таращит красные рыбьи зенки. Мир в упор не видит тебя. Ничего! Он еще тебя увидит. Ты ему еще покажешь, миру. Мир, конечно, тебе тоже покажет. Мир сломает тебя. Кости перемелет твои. Но ты, ты, знаешь, ты держись. Мир без тебя сдохнет, да сам он не знает об этом. Поэтому ты держись. Поэтому делай революцию. Что такое революция? Это кровь мира. Вы думаете, вы без крови живете? Вы! Крови в вас хоть отбавляй. И она на вкус соленая. И на цвет красная. Это было всегда, это будет всегда. А вы думаете – революции закончились!
Нет. Революция не закончилась. Только она оплодотворяет мир. Если ты хочешь получить ребенка – трахайся. Если ты хочешь родить себе подобного – рожай. Мир не продолжится, если не будет революции. Революция – мать мира. Ха! Да. Мать мира.
А без революции все наши матери умрут с голоду, от печали, от болезней. И отцы умрут. И кошки умрут. И детей не будет. Просто некому будет рожать.
Как это – некому?! Что-то ты, парень, не то мелешь…
Я все то мелю. Любая власть хочет, чтобы у нее были рабы. Но рабы, если их плохо кормить, погибают.
Или – восстают!
Или восстают, верно.
– Я уезжаю в Питер. Я буду поступать в Академию художеств.
– О-о, блин, это круто.
Сигарета в его руке ходила ото рта – к медной пепельнице, крышке старого самовара, от старинной этой медяшки – ко рту.
Молчали.
Тонкая плела пальцами тонкие, паутинные волосы. Сидела на диване с ногами. Диван паршиво скрипел.
– Я не хочу оставаться в этом городе, – сказала она и закрыла глаза.
– Да, дерьмо городок, – согласился Бес.
Сигарета жила своею, отдельной от них жизнью. Горела. Глядела красным глазом. Тлела. Осыпалась болью пепла.
– Что ты молчишь? – спросила Тонкая.
Она уже открыла глаза.
– Я? Ничего.
Он сунул руку под подушку.
– Наволочку бы постирал, – сморщила нос Тонкая.
Она посмотрела сначала на грязную подушку, потом в лицо Бесу, потом – на его руку.
В руке Бес сжимал пистолет.
– Ха, ха, – дернула плечом Тонкая, – ха, ха, ха…
Бес сжал пистолет в кулаке так, что пальцы побелели, потом посинели.
– Это не водяной. И не газовый. Это. Настоящий.
Его голос сделал в ее нежном смехе дыру.
И она услышала свист. Это в дыру, в черную воронку, втягивалась стремительно и смертельно вся их жизнь, вся их радость юная, вся их нежность глупая, вся их игрушечная боль и позолоченное горе. Втягивалась и со свистом, с грохотом и хохотом, погибала.
И их общее молчание тоже со свистом улетало в дыру.
И осталась одна дыра. Одна – пустота.
И не было больше никакой жизни.
И живой ее, растерянный голосок произнес в пустоте:
– Зачем он… тебе?
Бес еще крепче сжал пистолет, хотя крепче было уже невозможно. И бросил его на подушку.
Пистолет лежал на подушке, как черная лягушка.
Лягушка с поджатыми лапами.
Черная лягушка из черного пруда.
– Я поеду с тобой в Питер. Я теперь тебя защищу, если что. Я всех твоих… – Губы его тихо дрожали. – Твоих… кто тебя обидит… постреляю… Питер бандитский город. Там без пистолета нельзя.
Тонкая протянула руку и потрогала тонким пальчиком пистолет.
Пальчик – кисточка. Пистолет – рисунок.
Она рисовала пальцем черный пистолет на грязной подушке.
Гляди, Оська, он же не настоящий. Это же я рисую его тебе. Вот так рисую. Вот так.
2.
Тонкая поселилась в общежитии Академии. Бесу дали адрес, он нашел революционную квартиру, бедняцкую коммуну, на окраине Питера.
Тонкая стала готовиться к экзаменам. Первым экзаменом шел рисунок. Вторым – живопись. Третьим – композиция.
Бес стал готовиться к революции. Питер, тебе ли не знать революций! Научи нас, Питер, быть смелыми, научи ничего не бояться.
Тонкая сказала ему: Ося, прошу тебя, продай ты этот пистолет, я очень волнуюсь. Он смеялся, зубы скалил белые, обнимал ее за шею, голову откидывал, целовал. Она отталкивала его и кричала: нет, ну я серьезно!
Стояло питерское холодное лето. Ночи были еще белые. Белые как молоко. Холодное молоко, такое родители Тонкой вынимали из погреба.
Бес и Тонкая ходили гулять. Бродили по Питеру ночь напролет. Бес сжимал в кармане пистолет, то и дело проверял, на месте ли. Он чувствовал себя мужчиной, грозным, бойцом, мужиком настоящим, и страшно гордился собой.
«Тонкая, ты это, ты вот что… ты не переутомляйся, ладно? Соседки у тебя хорошие вроде, непьющие…» – «Ося, ну что ты такое городишь, какие непьющие?!» – «Да, славные девчонки. Одной только челюсти надо вставить, а другой ножки…» Безумный молодой хохот сотрясал белесую взвесь прозрачной, как слезы, сиротской и царской ночи. Они глядели, как разводят мосты. Все было впервые. И белая ночь, и черные воздетые железные руки моста, и черная, ледяная Нева под мостом, быстрая и сильная, жестокая, как юность и жизнь.
Тонкая не знала, как живет в Питере Бес.
Да он и сам толком не знал.
Он о ней знал все: и как зовут эту вахтершу, очкастую, и эту, в седом парике, и ту, что сидит по выходным, со спицами и вязаньем; и что Тонкая ела сегодня на обед в казенном буфете; и откуда приехали в Питер ее соседки по комнате; и кто будет принимать рисунок, а кто – живопись; и когда звонили родители, и что говорили; и когда работает душ на первом этаже, а когда – надо бегать в душевые в ближнюю баню, а это дорого; и что соседка чуть не утопила золотую сережку в унитазе, а Тонкой сегодня снился президент, и еще болел у нее живот; все о ней знал он, а она о нем не знала ничего.
Коммуна была жестокой.
Как и вся его жизнь, когда он выходил из общежития Тонкой на улицу, и люди на улице мгновенно превращались в зверей, а звери – в людей.
И те и другие охотились друг на друга.
Днем и ночью. Ночью и днем.
Их жило в коммуне четверо парней, и еще жила девчонка с ребенком, и еще приходили люди, ночевали, напивались, буянили, рисовали красной и черной краской плакаты, и что-то в пакетах и плотно закрытых сумках приносили и уносили, сумки и пакеты не раскрывая, и он догадывался, что.
Девчонка все тетешкала малого, пацаненок был горластый, как петух, все время кукарекал. Девчонка была испитая, сивая, с большой нелепой бородавкой на чистом фаянсовом лбу, с синеватой, как грязная вата, кожей, с опухшей, как у хомяка, щекастой мордочкой; она без стесненья расстегивала блузку и давала пацаненку отвислую грудь в синих прожилках, и видно было, что молока у нее много, хоть упейся. Когда ребенок сосал грудь – он не орал. Девчонка тоже была революционерка; она малевала корявые огромные плакаты, раскладывая листы ватмана на полу, и ползала, ползала по полу, елозила коленями, пачкая колготки и ладони в краске. У нее выходило так:
АТДАЙТЕ РАБОЧИМ ИХ ЗАРОБОТАНОЕ
Бес не поправлял ей ошибки. Пусть будет, как будет, думал он зло и тихо.
Ему выделили безногий топчан. Он с сомненьем посмотрел на бабушкину обивку: а, клопы, ну и наплевать! – и рухнул на это революционное, нищее ложе. Он очень хотел спать. Давно хотел. Так, что не будили.
Так он и спал тут. Без белья. Без одеяла. Белье – был он сам. Одеяло – был он сам. Не раздеваясь спал; накрывался «косухой», берцы не расшнуровывал. И ноги потели, томились.
На первое время ему дали денег. Немного, но дали. Партийное руководство. Вновь прибывшим, из других городов, вроде как подъемные давали. Бес взял деньги, тщательно спрятал во внутренний карман «косухи». Теперь у него был Питер, была Тонкая, были деньги и был пистолет.
Он был жутко богат.
Богаче всех богатеев всего мира.
Это дело надо отметить, подумал он. «Вы, пацаны! – обратился он к парням-коммунарам. – Да, свобода! Да, смерть! Давайте знакомиться!» Пацаны знакомиться не отказались. Питерская водка ничем не отличалась от нижегородской. Они хорошо, крепко выпили, были друг друга ладонями по ладоням, выкрикивали дико: «Да! Смерть!» Пацаненок, сын сивой девчонки, неистово орал за стеной. В стену жестко, дробно застучали, каблуком… или молотком. «Стучат копытом в стену, суки, – бросил собутыльник, – стуча-а-а-ат! Сту-ка-чи! Ты с ними, пацан, – не общайся… Хады они…»
«Богатые?» – спросил Бес.
«Хер знает. Они – нас – ненавидят».
Пацаны еще сбегали, купили водки. Бес старался не ударить в грязь лицом.
Он ударил лицом в пол.
На ногах не держался. Упал на больной нос. Застонал. Из носа пошла кровь. Один из революционных братьев отодрал от старого кресла кусок ветхого чехла. Материя пахла старым, мертвым Питером, старым человеком, которого больше нет и не будет. Революционер прислонял кусок мышиной гобеленной ткани к лицу, к носу и зубам Беса, и Бес вдыхал, вдыхал запах чужой, давно умершей смерти.
Пацаны испарились. Он остался один.
Это невозможно было перенести.
Он встал сначала на четвереньки. Потом оттолкнулся пальцами, как бегун на старте, и шатко, плохо поднялся на ноги.
Шагнул к белому, чистому, как икона, квадрату окна.
А! Не-е-е-ет! В белом квадрате – скалился – и подмигивал ему – дьявол!
– Дьявол, – выдохнул Бес весело сквозь зубы, – вот же ты, рожа… А я – твой Бес, Бесенок твой, Бес-сенок… Не узна-а-а-ал?!..
Дьявол корчил рожи. По его щекам текли синие слезы. Красные зубы торчали из пасти. Бес размахнулся и влепил кулаком в стекло. Посыпались осколки, впились ему в сжатый, круглый как мяч кулак.
Бес изумленно смотрел на блесткие, праздничные осколки на полу. Они обнимали его берцы стеклянной поземкой.
Дьявол уже шел по комнате. Он шел к его топчану. Бес слышал его шаги.
Топ. Топ. Шлеп. Шлеп. Шварк-шварк.
– Что ты, сучонок вонючий, шваркаешь, как старуха… Я тебя…
Он обернулся, шагнул. Под берцем раздалось громкое хрупанье, жесткий и льдистый хруст.
– Уйди-и-и-и! – крикнул Бес и присел на корточки, нагнулся, съежился, голову в плечи вобрал и стал похож на подбитого из рогатки, мокрого голубя.
Дьявол не уходил. Он шел к нему. Шварк, шварк. Топ, топ.
– Дря-а-а-ань…
Рука сама заскользила по полу. Капли крови щедро капали на россыпь стекол. Рука сама нашарила осколок. Такой, какой нужно. Длинный. Острый. Как нож.
– Оп-паньки…
Бес выставил осколок вперед. Нет, это уже был не осколок, а нож! Настоящий нож! Прекрасный! Лезвие наточено – сам порежешься!
Он пробежал, скрюченный, спины не разгибая, как заяц, спасаясь, скакнул по злой стеклянной поземке к двери. Дал по ней локтем. Выпал в коридор.
Коридор был страшен, страшнее пещеры. Страшнее котла, в котором тебя сварят заживо. Длинная черная шахта. Далеко под потолком – пьяная лампа. Она моталась и зазывала.
Она звала повеситься, сгинуть с хохотом, с музыкой.
Бес, выставив впереди себя острое стекло, осторожно пошел по страшному коридору, тихо, крадучись. И – вдруг! – сорвался в дикий пляс, затопал, загикал, загремел берцами по черным половицам!
Бегал по коридору взад-вперед.
Добежит до кухни – и обратно! Добежит до туалета – и назад!
– Уйди-и-и-и-и! Уйди-и-и-и-и! Порежу-у-у-у-у! Суку-у-у-у-у!
Сильнее сжал в кулаке осколок.
– Тонкая… Дьявол меня съест… Он… съест… всех… нас…
«Незачем жить», – сказал зловредный, едкий как щелочь голос внутри него, в красных кровавых кишках.
Он шатался от стены к стене. Ударялся об стену, его швыряло о другую. Он поднес ближе к невидящим глазам руку, повернул ее удобно, запястьем беззащитным, взмахнул осколком. Резанул. Широко, мощно.
Теплое полилось освобождено, радостно.
Он переложил осколок в левую руку. Так же резанул запястье правой.
Бросил осколок. Он уже не был нужен. Дьявол сделал свое дело.
Бес повернул кровоточащие руки вниз. Кровь капала на пол, он в темноте не видел, лишь слышал стук крови об пол: тук-тук, тук-тук.
– Кровь, и ты тоже стукачка, – радостно сказал он.
И захохотал! Во все горло!
На шум, грохот и хохот стали высовываться из дверей сонные, злобные головы.
– Это кто хулиганит-то, Господи?..
– А ето ети! Коммунары! Ети, хто ж ище!
– Гос-с-спода, давно пора прекратить это без-з-з-з…
– Милицию вызывайте, Федор Петрович! Милицию!
Свет разрезал надвое черный раненый коридор. Выхватил из тьмы Беса, его глаза-пустые-дупла, его руки-красные-корни.
– Таточка, ему не милицию надо вызывать, ему… доктора…
Он смутно помнит, кто перевязывал ему запястья, как останавливали кровь, кто причитал над ним, а кто матерился. На топчане своем бескрылом он спал долго, долго. Забыл сам, сколько спал. Его мечта о сне сбылась.
А когда он проснулся – он понял, что проснулся на улице. На скамейке.
На неизвестной улице; на незнакомой скамейке.
Адрес он помнил. Дом – нашел. Поднялся по лестнице. Всунул ключ в скважину. Ключ не лез. Он углядел: ага, замок врезали новый во входную дверь.
У него был записан телефон хозяйки. Он позвонил. Сухой и рассерженный голос отчеканил: вас всех, суки, выселили соседи, вы хулиганите, вы дебоширы, вы все не прописаны, вы отребье, вы мусор, я мусор в квартире не держу.
– Ну, собаки, – сказал Бес вслух, громко, и прохожий шарахнулся, – я Тонкой ни слова не скажу. Я не расстрою ее. Девочку мою.
Он думал потом: а куда дели эту, сивую лошадь, с бородавкой на лбу, эту, молодую маманю, телку кормящую, с пацаненком? Что плакаты неграмотные на полу рисовала, бедняга? Неужели тоже выгнали на улицу?
А куда же еще, говорил он себе, впечатывая берцы в пыльный питерский асфальт, а куда же еще.
…а Тонкая в Академию художеств-то поступила. Все экзамены сдала. И баллы все – нужные – набрала.
Ну, он и не сомневался.
Бетонные плиты подъездов, горячие радужки чужих фонарей. Они спали в подъездах, и плечо касалось плеча, и дыхание грело ледяные, каменные руки, и Бес сонно, прощально думал: «Превращусь в памятник, в бронзу». В подъездах они ночевали, и сердце будто защемляло больничными дверями, и пахло гарью подвальной котельной, и старым ватником, и собачьим сахаром, и маленький злой котенок грыз потроха, грыз, все мяукал, все звал за собой его, человека, в дикий зверий мир. Они голодали, ибо шальные партийные деньги странно и быстро кончились, ну да, всему на свете бывает конец, он уже знал это. Пацаны, а что делать-то будем? Да, ну да, работать, конечно, где-то надо! Устроимся? Без прописки? Грузчиком можно без прописки. Гастарбайтером. Ну, там на стройке. Гальюны на кораблях в Гавани чистить, га-га-га-а-а-а!
И стал Бес грузчиком в Гавани.
И это спервоначалу было так здорово!
Гораздо здоровее, чем про революцию под дрянную водяру трындеть да разносить отпечатанные хрен знает где листовки по утлым проходным старых питерских фабрик и железных заводов!
Но так Бес чувствовал первые три часа работы. Остальные три часа он думал, как бы отсюда поскорее свалить.
Они подряжались на день. Только на один день. В конце дня им на руки выдавали заработанное. «ЗА-РО-БО-ТА-НО-Е». Он кривил в презрительном смехе угол рта. Он был горд: это его деньги. Это ему не сунули, не швырнули; это он сам взял. Своим трудом.
Чертов труд. Он не хотел так жить. И так трудиться. У него болело все тело. Он смотреть не мог на ящики. На тюки. На мешки. Он, идя мимо груза, мимо мешков, сваленных на палубе, яростно, открыто плевал на них. Пацаны пихали его в бок: «Ты! Маменькин сынок! Из-за тебя сегодня денег лишимся! Осторожней на поворотах!»
Однажды разгружали апельсины в длинных, как гробы, ящиках. «И меня когда-нибудь в гроб положат», – думал он спокойно, как не о себе, о другом. День кончился; кончилась работа. Тот, кто их нанял, расплатился с ними смешно, нагло, издевательски. Они изумленно глядели на невеликие деньги у себя на ладонях. Потом затолкали в карманы, будто стыдясь и денег, и человека, что дал их. Человек, топыря сытую харю, повелительно бросил: «Берите, вон, ящик апельсинов! Да, да, тот!» Они непонимающе воззрились на хозяина. «Ну да, да, тупые скоты, себе берите!» Бес стиснул кулаки в карманах. Революционный пацан оттащил его за локоть: идем, у тебя лицо плохое, не надо, друг, а, не надо.
Они взвалили на плечи этот ящик, а был он тяжеленький, много в нем апельсинов таилось. И понесли. Ну точно как гроб.
Они вынесли ящик на набережную Гавани, они были голодны как звери, как черти, нет, хуже чертей, и они расковыряли этот ящик ножами в одно мгновенье, крышку отодрали, а там внутри лежали, хоронились апельсины такие золотые, такие гладкие, такие пахучие, как девушкины груди, они пахли морями, золотыми странами, безумными дорогими океанами, они пахли едой, да, едой! – и они запускали в них зубы, прямо в нечищеные, в их рыжие горящие шкурки, и брызгал спирт ли, эфир, им в рыла, в ноздри, в нос, и сок тек в их жадные глотки, сок тек в носы, на десны, на щеки, тек по рукам, по запястьям, как кровь, тек, липкий и красный, на их грязные рабочие портки, на их бедное, жалкое мужество, спрятанное под ширинками рваных штанов; и они отдирали шкурки зубами, ногтями, и высасывали золотую мякоть, и смеялись от радости, и плакали, поливали эти апельсины проклятые слезами, и презирали себя, и презирали жадного хозяина, и презирали жизнь, и любили революцию, и жрали, жрали, жрали апельсин за апельсином, уминали за обще щеки, будто бы это были не апельсины, а пироги с мясом или жареные куры, и Бес сказал с набитым ртом:
– А когда мы революцию сделаем, м-м-м-м-м… то это… кто суда-то разгружать будет? И вагоны? И, это… м-м-м… самолеты?
Пацан, друг его революционный, оторвал вымазанную соком рожу от апельсина. «Копошится в нем, как в пизде», – подумал Бес весело.
– М-м-м-м, да, это… вопрос вопросов!
Они не встали с места до тех пор, пока все не сожрали.
Бес потом месяц не мог на апельсины смотреть. Его Тонкая угощала – а его блевать тянуло.
Телефон затрещал в кармане дикую музыку, захныкал квакушкой. Бес выдернул из кармана телефон, рука была грязная, они только что разгружали уголь, и он прижал спичечную коробчонку телефона к уху – плечом.
– Эй, Але!.. Але!.. Эй!.. Белый, ты?..
Как из подземелья, он услыхал:
– Йес! Я – в Питере! Я – к тебе еду!
– Ну-ну, – хмыкнул Бес.
– Ты где-е-е-е?!
– Не ори. Я – в Гавани.
– А где это?! Метро какое?!
И Бес все точнехонько Белому рассказал, как ехать к Гавани, и где он торчит, и курил без перерыва весь битый час, пока Белый до него добирался.
Белый – это был родной город. Это была родная река. Это был Откос, где они до изнеможения бродили с Тонкой. Это была – Родина.
Курить. Курить до темнотищи перед рожей. Еще одну, только одну выкурить, пока Белый едет.
Он сунулся в пачку за сигаретой. Пачка была пуста.
Белый выглядел очень даже ничего: такой же тощий, такой же белесый, как платяная вошь, такой же улыбчиво-беззубый, с белым жалким ежиком надо лбом, все в той же холщовой куртешке, только, вроде, берцы новые купил. Ну да, новье. Бес пощупал берцы глазами, оценил. Хлопнул Белого по плечу. Потом обнялись. У Беса в глазах защипало. «Что это я, как младенец». Стали говорить.
– Ну и как тут?
– Нормально.
– На хате?
– Нет хаты. Все. Ферботен.
– Деньги не заплатили тетке? Ну вы-ы-ы-ы…
– Нет. – Он не стал рассказывать Белому, что он порезал себе вены: Белый и так вытаращил белые совиные глазенки на его еще не заросшие, уродливые, плохо, наспех зашитые шрамы на запястьях. – Все уплачено было вперед. Дура она, сволочь просто. Ну, такая питерская сволочь. – Он хрипло, сухо засмеялся. – Забыли уже. Проехали.
– А жить где будем? – Совиные студеные глазки моргнули раз, другой.
Бес потормошил тщедушный инистый, иглистый ежик.
– Там же, где и сейчас.
– А где – сейчас?
– А сейчас, брат, на улице.
– Как на улице?
Белый открыл рот и ласково, беззубо улыбнулся.
– Ну, пока тепло.
– Шутки-то брось.
– В подъездах ночуем.
– А-а. – Белый вытащил из кармана сигареты, поймал жадный взгляд Беса, расколупал пачку, протянул ему. Бес вынул сигарету двумя пальцами, осторожно, как хирург отрезанную слепую кишку из свежей раны. – Гоняют?
– Конечно. А ты как думал.
– А что гауляйтер? По области? К нему если?
– Он такой чепухой не будет заниматься.
Бес вдруг понял, что пацаны лишились хаты из-за него. Из-за его ночного цирка. Стекло и кровь под куполом. «Без лонжи», – усмехнулись губы сами.
– Кэт вспоминаешь? – внезапно спросил Белый.
У Беса глотку будто облили изнутри кипятком.
Кэт, хозяйка их коммуны, две комнаты в прокуренном подвальчике, Кэт, рыжая проволока волос, бешеные угли глаз, морщины по лицу пауками ползут, старая бабенка с душой котенка, не убить, не утопить, он с ней когда-то, да, ну и что, Тонкая же не узнала, дым сигареты, гитара с трещиной в деке, дым жизни, дым…
Он уже знал, что Белый скажет.
– Вспоминаю. Иногда.
– Так вот. Она умерла. Вчера Кузьма звонил… ну и сказал.
Горячей горечью наливалось слева, под ребрами.
А губы жестко, резиново улыбнулись, растянулись деревянно.
Он очень низко опустил голову, очень. Так, что шея чуть не сломалась.
И не пальцами, а жесткими костями, железной арматурой скелета, что тоже когда-нибудь умрет, вместе с мыслями и мясом, ощупал, обласкал в кармане свой родной, дорогой пистолет.
Они все, революционные пацаны, Бес и Белый, наколотили горстку денег, сложились и сняли халупу одну, очень далеко от центра. Да и от города далеко. В деревне.
Халупа была классная. По ним: в самый раз. Изба, с пустым коровником. Корова не жила тут давно, но коровой сильно пахло, терпко и шерстяно. Из щелей между досками хлева торчали пучки старого, гнилого сена. Крыша в дождь протекала, и тазы подставляли, но белобокая печка была, матушка, и это было главное. Воду добывали из колодца, гремящим, как погремушка, ведром. Вкусная вода была, и зубы ломило. Они все пили из ведра, с прихлюпом, как бычки. Топили печь, жгли в ней мусор; остатки хозяйских дров желтоватым церковным воском отсвечивали в сарае. Со смешками и прибаутками готовили на сковороде яичницу, разогревали кашу и даже жарили блины. Блины жарил Белый, он умел. Бес чистил картошку, свистел сквозь зубы веселые песенки. Им партия задания давала: они разбрасывали листовки, проводили митинги, беседовали с рабочими на заводах. Рабочие кричали, матюгались: «Да давно пора!.. Да едрить в корень!..» Кто-то гнал их: «Пошли вон отсюда! Щенки! Рев-волюции хотят!.. Крови хотят, видишь ли!.. Не нюхали вы крови-то еще…» Белый, тощий дягилек, качался на костыльных ножках своих, втолковывал терпеливо: «Ну вы же больше не можете так жить. Как скоты. Вы же скоты. Они же из вас делают скотов. Разве вы хотите жить скотами и умереть скотами? Поднимайтесь!» Рабочие оглядывались вокруг: куда пониматься-то, и кто поведет? Этот белобрысый щененок, что ли?
А Тонкая? Что – Тонкая? Бес, конечно, приходил к ней. Но все реже и реже. Он занят был.
Революцией.
Далеко халупа их была от Тонкой. Далеко.
И, засыпая на продавленной раскладушке, около еще горячей печки, пожевав на ночь кислую ржаную горбушку, выкурив две, три, четыре дешевых тошнотворных сигареты, пока копченым не тянуло изнутри ребрастой, гулко кашляющей груди, он сладко и нежно думал о губах Тонкой, о глазах Тонкой, об ее тонких руках и острых звенящих каблучках, – и понимал, что да, любима, да, любит, да, хочет, да, тоскует, – но уходила, исчезала, набегая извне, соленая вода, прибой дней, и снова накатывалась, и уходила опять, навсегда.
3.
– Ты?! Ну ты! Даешь!
Бес выкатил глаза на Тонкую, как голодный зверь в клетке – на мясо, что на безопасной палке перед клеткой трясут.
Она уже стала такая… чужая. Такая… стильная. Блестящая вся. Модная. Вся такая… «Штучка», – подобрал он слово.
Тонкая вертелась перед маленькой льдиной зеркальца, поправляла волосы – а что их было поправлять? Висели, торчали. Свободно.
И она тоже была свободная.
И куда-то вот-вот снимется, полетит.
– Ты куда? – спросил он ее осторожно.
Да, они поцеловались, когда он пришел. Как всегда. И он хотел повалить ее на аккуратно застеленную казенную кровать. Как всегда. Соседки не было. Никого не было. Повернуть ключ в замке – и все дела. Да, поцеловались они! Как! Всегда… Но у него чувство было – он целовал елочную игрушку. Девочку-Снегурочку. Или это у него самого губы замерзли?
Стояла питерская дикая, жестокая зима. Ветра дули безумные с Финского залива. Люди обмораживали уши, носы. Бес подумал: вот она, блокада. Утки на льду Фонтанки примораживали к расколам, к прозрачным черным пластинам льда красные лапки, но не улетали. Утки, герои революции. Питер, Питер и революция, и крыша есть над башкой, и пистолет в кармане, и Тонкая вот она – ну чего тебе еще надо, несусветный?!
Тонкая качалась перед зеркалом, как большой цветок на тонкой ножке.
– Я? – Она провела пальцем по губе, размазывая помаду. Слизнула языком. – Я?
– Да, ты.
Это вырвалось у него почему-то зло, грубо.
И жесткой, деревянной стала ее узкая нежная спина.
– Никуда.
Бес повернулся. Уйти. Немедленно. Никуда, вот твоя пуля в лоб. Никуда, вот в чем секрет!
Тонкая посмотрела на Беса, стоя перед зеркалом, через плечо, ее шея изогнулась гибкой лозой, нежным красноталом. Бес поразился ее новой красоте. Издали глядеть. Издали любоваться. Никогда больше не спать с ней. Разве он спал с ней когда-то?
Табачная, призрачная дымка горя заходила, зашевелилась перед его раскосыми смоляными глазами. Он громко скрипнул зубами – так, что она услышала.
– Ты чего?
Исподлобья она обшарила его всего придирчивым, цепким, уже не влюбленным взглядом. Вместо серых лесных озер он видел – колючки острых зрачков, колючая проволока ресниц равнодушно цепляется за его грязную рубаху, за его пыльные берцы, за его потасканную, как шлюха, старую «косуху», за его огрубевшее, с широкими скулами, голодное, угластое лицо попрошайки, скитальца, отребья.
– А ты чего?
– Я? Ничего.
«Я для нее человек Другого Мира. Уже. Быстро».
– Ну и я ничего.
Это было не просто ничего. Это было – все.
И тут за его спиной зашевелилось, застучало, задвигалось.
Это в комнату вошел кто-то живой.
– Паоло! – крикнула Тонкая от зеркала, посылая голос вдаль.
Бес оглянулся. Лучше бы он раньше свалил. Зачем он топтался так долго! Красавец, черно-жгучий, космы вьются по плечам, а, не голубой ли уж, да нет, не голубой, если к девке пришел, талия как ножка у рюмочки, да нет, все же голубой, черт, смазлив до чего, невероятно, хоть в кино мужика снимай, да и не мужик он вовсе, пацан вертлявый, ишь, жопой вертит как сладко, ах ты тварь, ну вот он и принц, а он-то кто?! – правильно, блядь, – нищий…
Длиннокосый ангел раскрыл поросший черными усами ягодно-алый, ну точно как у бабы, рот:
– Настиа, ио соно феличе… Настиа, ти готови? Ми опоздаль на кончерто!
Тонкая вспыхнула. Пожар залил ее щеки, шею, грудь, запястья. Бес глянул на свои запястья. На кулаки свои. «Нет. Нельзя. Я что, совсем ку-ку? Хотя… могу. Драть отсюда! Быстро! И никогда…»
Он оттолкнул смачно-смазливого итальянца, вышиб дверь кулаками, лбом, скатился по лестнице, и берцы гремели, гремели, гремели, как вышвырнутые из дорогой гробницы в площадную грязь кости, святые мощи, а толпа смеялась, улюлюкала, глумилась, свистела вослед.
Тонкая завела ухажера, это был итальянский режиссер, его звали Паоло, он занимался кино, он был родом из Генуи, а выучился на режиссера в Риме, а теперь вот приехал в Питер, кино снимать; нарвался он на Тонкую в магазине, когда покупал сыр пармезан, а Тонкая покупала себе колготки и тоже что-нибудь вкусненькое, она еще не знала. Паоло, сладкое имя! Она поцеловалась с ним из интереса: а какие у него губы, такие же, как у Оськи, или другие? «Другие, другие, но тоже прекрасные», – шептал перечный, сладкий голосок глубоко в ней. Она верила хитрому голоску. Из интереса – а как с другим будет? – она и спать с ним легла; так же, как с Бесом, когда соседки не было в комнате, днем, быстренько, торопливо, смущенно, а он был так нежен, а она была доверчива, как лебедица.
О, да, это случилось, Тонкая завела любовника себе в Питере! И Бес, кусая губы, откусывая и плюя сигареты, ударяя себя кулаком по губам, по щекам, по зубам, плача бессильно, как зверек, выгнанный из норы жестоким паводком, повторял себе: ну да, это жизнь, это все жизнь, это же жизнь, вот так она идет, вот так она продолжается! А я думал, Тонкая – вечна! А ты думаешь, ты – вечен?! Ну иди, сними шлюшку на Финляндском! За стольник! За полтинник! И она пойдет – за полтинник! Потому что жрать хочет! А Тонкая! А Тонкая… Где ты?! Где ты, милая, нежная радость моя?! Я виноват?!! Я кругом виноват?! Где я ошибся?! Где?!
И мертвый голос глухо, медленно говорил внутри: ты нигде не ошибся, ты просто жил, и она просто жила.
Он растирал по лицу слезы кулаками, ладонями. От железного черного гонга спасения не было. Он старательно слушал его медные, медленные раскаты: погоди, не спеши, дай ей время. Она же девочка. Она просто глупая девочка. А потом, она же художница, и ей для вдохновения и картин нужна новая живая красота.
Да, долго Бес не приходил к Тонкой. И вот пришел.
Он сам не знал, как, почему пришел. Он уже пробовал ее забыть. Он уже расстался с ней. Белому не говорил ничего, а Белый и не спрашивал. Их поймали на улице за расклейкой партийных листовок, таскали в каталажку, устыжали, хорошо, хоть не били и не пытали, а пацаны говорили, в ментовке и бьют и пытают. Грозились из Питера выгнать. Бесу было все равно: Питер так Питер, Нижний так Нижний, Москва так Москва, Грозный так Грозный, Нью-Йорк так Нью-Йорк. Бес глядел в жирное, усталое, с глазами-щелочками, отупелое лицо милиционера, и думал: нет, в тюрьму не упекут, нет, слабо.
Их отпустили, витиевато выматерив в спину. Зимний ветер свистел над головами, бритвой резал надбровья, носы. Он резко бросил Белому: «Я в одно место. Буду поздно. Последней электричкой. А может, и не…» Махнул рукой; побежал.
Он бежал, будто на пожар. Задыхался.
Гнал тюлений, медленный подземный поезд. Костерил шепотом толпу в метро. Бил кулаками по поручням в черепахой ползущем, вонючем, как нацистская душегубка, автобусе. Это ее чертово общежитие тоже далеко от центра было.
Тонкая встретила его на пороге комнаты. Кажется, она ему не удивилась. Ее кривенькое личико, красное, опухшее и зареванное, ударило в него светом небесным. Он схватил ее за плечи. Она втянула его в комнатенку. Соседка сидела на кровати, читала книжку, стреляя глазами из-под круглых старушечьих очков, и похотливо ела банан.
– Я.. сдала… экзамен… по компози-ци-и-и-и-и-и…
Слезы сыпались мелкими жемчужными горошинами ей на нестиранный, милый воротник.
– Ну хорошо, хорошо, что сдала, хорошо…
Он терял дар речи от радости. Он видит ее! Держит ее в руках!
– Пя-а-а-ать…
– Ну вот видишь, пять… А что ты… – Он сглотнул. – Рисовала?
– Я-а-а-а?!.. Тебя-а-а-а… и всех… твои-и-и-их…
Он понял: она нарисовала их вольницу.
– Кузю… Паука… Белого-о-о-о… Зубра-а-а-а… Гришку-у-у… Культпросвета-а-а… Кэ-э-э-эт… И тебя-а-а-а-а…
– Тонкая, ну перестань, ну перестань… – Он поперхнулся. Кашель задавил бронхи и ребра. – Родная моя… Да что ты плачешь-то как, а?! Будто похоронила кого!
Она подняла к нему опухшее лицо. В прозрачных глазах стояло белое вино питерского зимнего неба.
– Я… беременна-а-а-а!..
И тут он дико сжал ее плечи. Он сделал ей больно! И она крикнула:
– А!
– А! – повторил он ее вопль. – От Паоло!
– Не знаю… Нет… От тебя…
Он толкнул ее. Она ударилась спиной о стену. Из ее груди вылетело короткое карканье, как у больной голодной вороны.
Тонкая избавилась от ребенка. Ей надо было учиться дальше.
Бес упал, как в колодец, в страшную пьянку. Так диковинно, сумасшедшее, издевательски он не пил никогда. Он бросил работу. Он занял у Белого денег на водку. Он уставлял столы их халупы бутылками, и полными, и початыми, и полупустыми; он не куражился, не хулиганил, не орал, он просто сидел среди бутылок и медленно пил, пил, не пьянея, и это было страшнее всего. Сжимал губы в нитку. Так, что лицо превращалось в стальную, клепаную маску. Крошил зубы зубами. Иногда он вскидывал голову и орал: «Мой сын! Мой сын!» Голова, отдельно от Беса, падала на стол. Он сам, своею волей, еще раз поднимал ее, за волосы, грязной железной скрюченной пятерней, и снова бросал на стол – жестоко, так, чтоб разбилась. И разлетелись осколки.
Выпив очередную бутылку и не помня узорную, зазывную надпись на этикетке, ничем не закусив, он тяжко, бычье-упрямо поднялся, как-то смог насовать дров в печь, потом скомкал газету, бросил в пепельное жерло горящую спичку. Огонь, упрямый, как он, загудел, запылал. Из губ Беса текла пьяная серебряная слюна. Он вытер рот ладонью. Сунул руку в карман. Да. Пистолет. Его пистолет.
«Мой пистолет. Хороший мой. Слав-ный…»
Он вытащил его наружу. На свет. На волю.
– Ах ты, котенок мой… черный…
Пистолет и вправду, как живой, дрогнул всей черной стальной кожей в ладони.
– Ну, давай! – крикнул Бес на всю избу. – Не ссы, старик!
Поднес пистолет ко лбу.
Дуло стало искать удобное место.
Где? Лоб? Висок, да-да, висок… Удобней всего…
А металл был совсем не холодный. Враки это все: холодное дуло, то-се. Горячее! Горячее, слышите!
И пуля тоже горячая. Горячая, сучка. Он же у меня все время заряжен. Я же все время готов… готов…
Он стоял на длинных, худых голодных ногах посреди северной бедной избы, с пистолетом в руке, с прижатым к виску стволом.
– Жми! – завопил он сам себе. – Жми, гаденыш!
Огонь внутри печи взвыл, взлаял коротко, грубо. Огонь с гулким звериным свистом, воем рвался, летел в трубу, вылетал насквозь, через все его юные косточки, через его грудь, через его налитый водкою до краев череп; через его пьяную от революции жизнь.
– Ну же!
Железо сжала живая плоть. Рука онемела навек.
Бес ледяными черными сливами глядел на огонь.
И он услышал, как огонь пропел, провыл ему, рыжий волк:
«Живи. Дурак. Ее – убей».
Бес потрясенно отнял пистолет от виска. Оторвал. Как живое. Как кусок себя. Ему почудилось: в виске дыра, она сочится темным медом, и он уже мертв, и это его призрак рассматривает пистолет, и сейчас тяжелая черная зверюшка провалится сквозь призрачную прозрачную ладонь, с грохотом упадет на пол.
– Я тебя убью! Сука!
Он мгновенно стал трезв, насквозь весь прозрачен, как чисто, безжалостно вымытый, досуха вытертый грязным полотенцем стакан.
На дальней станции пригородной электрички поздние пассажиры видели, как бежит по обледенелой платформе худой парнишка в черной кожаной куртке, и страшное, косое, как разбитый фонарь, лицо его освещает угольную наледь под ногами, груды выеденного сажей снега под платформой, столбы, ветер, холод, ночь.
Он несся через холмы и черные поля. Он несся по перрону черного вокзала. Он умалишенно несся через весь этот черный город, и уши и щеки его белели на проклятом ветру с Финского залива, выдувающем из живого последний огонь и последнюю жизнь, и он задыхался, слушая свои хрипы и свисты в легких, – так бесстрастно слушает свое задыханье плывущий и тонущий в ледяном океане.
Он несся по наметенному снегу, выше снега, над снегом. Он резал ночь телом. Он хохотал, он хватал свои слезы беспомощным ртом, и его слезы резали ему губы. Оттого, что он быстро бежал, он еще не замерз совсем. Прохожих не было почти. Город лежал под лютым ветром с моря пустой, белый и черный, каменный и ледяной. Люди исчезли.
«Сейчас ты тоже исчезнешь. Сейчас».
…прогрохал литыми берцами мимо вахтерши – старуха только крякнула, как черная утка с Фонтанки, ему вслед: «Куда?! Куда?!» – а он уже несся по лестнице, по гулкому коридору, – и он понял: коридор черный и длинный, как ствол, а ее комната – дуло, и сам он – пуля, и сейчас он выстрелит собой – в нее.
Дверь была заперта. «Они спят! Спят вместе». Бес чуть отбежал, размахнулся плечом, бешено, люто двинул деревяшкой плеча, всем отвердевшим телом в дверь, и она хрякнула, пискнула, отлетела.
– Ты! Дрянь!
Она, кажется, закрывала, своим телом этого, итальяшку, распластанную на казенной койке лягушку чернявую, и лягушка презренно натягивала простыню на подбородок, и лягушка, кажется, вопила: «Ио соно морто!» – а он уже наводил пистолет, и ему стало вдруг весело, совсем не страшно, потому что он не видел ее лица, лица Тонкой, лица любимой его, он не видел ее, но знал, она стоит перед ним, и кричит, да, он слышал ее, и надо стрелять в звук, в крик, чтобы крик оборвался, чтобы осталось одно молчание, одно сияние, одно…
…проснись! Эй, очнись, парень! Замерзнешь ведь! Эй! Ну!
Бес лежал на набережной Невы, и его жесткий черный ежик и сведенную на морозе колом чертову кожу его «косухи» заметал легкий, тонкий, призрачный снег.
– Проснись, еп твою мать! Па-рень!
Голос отлетел в сторону черной жирной уткой:
– Окочурился уже.
И тут Бес смог открыть глаза.
Вместо глаз у него плакали, переливались два куска черного льда.
– Где я?
И голос тоже таял и ломался.
– Около моста лейтенанта Шмидта, парень! Повезло тебе! Проснулся, епть… Куда тебя довезти? Я на тачке.
– У меня денег нет.
Губы говорили правду.
Мужик, спасший его, легко, как младенчика, взял его на руки. Одну руку – под колени, другую – под мышки.
– Тяжелый ты, брат! А – худой с виду… Ну, куда тебе?
– Парк Победы. – В губах билась больная, жестокая огненная кровь. Ему казалось: губы взорвутся изнутри. – Там… я сам дойду.
– Не дойдешь, дурень! Говори, куда!
– Общежитие… Академии… художеств…
Мужик уже укладывал его в машину, и сиденье скрипнуло под ним и просело, как спина старого, заезженного мерина. В машине и правда пахло дорогой конюшней, золотым навозом. А от мужика, он раздул ноздри, пахло дорогим парфюмом.
«Мы власть возьмем и убьем всех сук богатых», – смутно, неверяще подумал Бес, и голова его сползла с лошадиного сиденья и опрокинулась, как пустой стакан, упала, закачалась.
– Ага, художник! Е-е-е! Вот оно! Понятно! Пьяная! Богема! – радостно выкрикнул мужик.
И богатая тачка тряслась и качалась, и богатый, спасший жизнь бедному, гнал, гнал по черному городу, обгоняя ветер и смерть.
Мужик вывалил Беса, как мешок с отрубями, на черный лед, когда Бес булыжным языком медленно проворочал: «Здесь».
Кусачая поземка, железная снежная крупка. Тишина.
В тишине еще долго раздавалось рычанье исчезающей машины.
Бес, криво переступая ногами, пошел вперед, а куда – и сам не знал. Туда ли? К ней? Рука в кармане. Пистолет при нем.
– Друг, – обратился он к пистолету ласково, – спасибо тебе, друг. Мой железный друг.
Ненависти не было. Красный огонь перед глазами потух.
Сон валил его с ног, и Бес с почтеньем поглядел на сугроб: ух ты, какой пушистый… мягкий.
«Замерзну ведь на хер. Не лягу. Нет».
Ноги тяжело, чугунно впечатывались в корку льда, в навалы снега. Он скосил глаза. Брел мимо стройки, и чуть не упал через груду кирпичей, наполовину снегом заметенных. В вышине горел тусклый, как барсучий глаз, фонарь – забыли выключить. А может, работали тут ночью. И сейчас пошли немного выпить, отдохнуть, подремать в теплой каптерке у сторожа.
Глаз сам косил дальше, все вбок и вбок, и Бес увидел на земле банку, а в банке торчала кисть. Он наклонился, его чуть не вырвало, когда он пригнулся к земле. Вытащил кисть. Красная, густая на морозе краска капнула на снег, на лед: кап, кап.
«Не кисть, а флейц. Широкий. Щетка. Тонкая такими красила свою большую картинку, дипломную, в училище. Холст закрашивала. Делала фон. Или как это у них? Да, подмалевок».
Бес крякнул, плюнул на снег густой, соленой слюной. Взял банку с краской в застылую клешню. Флейц нес в другой руке, и с флейца в снег капала кровь.
Он хорошо, старательно выводил буквы. Письмена. Это письмена.
Каждый из нас пишет письмена. Каждый из нас умрет, но каждому важно, чтобы его услышали. Или увидели. И – полюбили.
Полюбили, ишь ты! А если тебя – возненавидят?
Начхать. Мы все пишем письмена. Чтобы – увидели. Чтобы – заплакали над ними.
Корявые. Глупые. Узорчатые. Красивенькие. Гадкие. Зверские. Железные. Ватные. Кровавые. Да, самые правдивые – кровавые, верно.
Их – издали видать.
А остальные? Чернилами по бумажке? А? Плакаты, газетки, листовки… картинки?
Он вспомнил сивую девчонку с пацаненком на партийной хате. И голую, синюю тяжелую грудь, и беззубый орущий ротик мальчонки. Мамашка плакаты малевала. Для рабочих. Для каких – рабочих? Омон стачку разогнал. Плакаты запхали в урну. И никто не прочитал письмена.
Врешь! Прочитали! Кому надо – прочитали!
– Письмена, – пробормотал Бес, елозя на коленях по мерзлому асфальту с кровавым флейцем в ледяном кулаке. – Прочитают. Врешь. Прочитают.
Букву «Л» он рисовал минут десять. Букву «Ю» – минут пятнадцать. С передыхом. С перекуром.
Сигарета только сначала спасала от тошноты. Потом мутило еще хлеще. Он все плевал, плевал на снег, а рот все наполнялся, наливался ртутной слюной.
Когда он выводил, на асфальте, своей кровью, букву «Б», он тихо засмеялся.
Когда вывел еще «Л» – кинул флейц, подполз на коленях к сугробу и засунул в сугроб свою мотающуюся, с железными катышками снежной крупки в дегтярных волосах, бедную голову. Его рвало беспощадно, и он подумал, что умирает.
Письмена, я допишу вас. Красные мои. Родные.
Он набрал в ладони снега и крепко, отчаянно растер себе лицо. Он тер себе лицо, пока щеки, нос, лоб, подбородок не начали болеть и гореть. Он, как собака, закопал свою блевотину скрюченными руками, ошметками злого питерского снега.
«Ю», последняя. «Ю», великая. Если я успел тебя написать, «Ю», – я не помру. Я еще поживу.
В крови выпачкались его грязные штаны. В крови выпачкалась куртка. В крови, навек засохшей, были его ладони, его щеки, его лоб и подбородок. Он смеялся. Он заливался на морозе, среди каменных чудовищ, среди северной пустой ночи, диким, победным смехом. Он смог. Он успел. Он написал свои письмена.
4.
Паоло пригласил Тонкую на просмотр своего фильма, снятого на улицах Питера. Фильм крутили не в кинотеатре, а на квартире у друзей итальянца. Тонкая приоделась. Она волновалась. «Итальянский кинорежиссер приводит на просмотр свою девочку, студентку Академии художеств», – так торжественно думала она о них обоих, и ее тонкую птичью грудку переполняла странная, кичливая, нехорошая гордость – вот она какая, Тонкая, молодец, иноземную пташку словила.
Она сейчас с Паоло не спала: врач запретил после того, что с ней сделал.
Живот больше не болел. Слез больше не было.
Она их выплакала быстро и незаметно.
Тонкая впервые была в богатой и старинной питерской квартире. Всюду сверкала сусальным золотом лепнина, тускло мерцала из золоченых, похожих на пирожные багетов старинная живопись, она даже узнавала художников, вот это Клод Лоррен, а это Тулуз-Лотрек, а это, ну ничего себе, это же Маковский, – всюду, кроме шикарных, хрустальных и грандиозных, как в Мариинке, люстр горели свечи в толстых чугунных шандалах; на накрытых белоснежными скатертями длинных столах стояли аккуратными рядами пустые хрустальные бокалы, а рядом с ними – неоткупоренные среброгорлые, болотно-зеленые кегли, и скоро, через полчаса, после премьеры гениального фильма, лакеи их ловко откроют – и быстро, не успеешь оглянуться, разольют шампанское по бокалам.
Шампанское польется рекой. Коньяк польется рекой. Мартини польется рекой. Ты никогда еще не была на премьере современного итальянского фильма в богатом доме? Так вот побывай.
Тонкая одергивала себя: не надо разглядывать тут ничего, – и все же наивно, изумленно разглядывала, откидывая голову, перебирая дрожащими смущенными пальчиками тонкое кружево на груди.
Устрицы, ведь это же устрицы, вон, на блюдах, разломаны створки, и серое, фу, противное мясо глядит… А это что? Такие вазочки… из теста, и в них всякая всячина – то черные, лаково-гладкие, вспыхивающие смоляными искрами, то кроваво-алые, оранжево-золотые горы крупной, как самоцветы, икры, а в этих – паштет, кажется… ну да… а в этих – ух!.. – очищенные креветочки, о, какие маленькие!..
Тонкая впервые в жизни видела тарталетки. Она впервые в жизни видела завиток из ветчины. Лобстера, распятого на огромной перламутровой тарелище. Дымящихся, только вынутых из кастрюли омаров. Она впервые в жизни видела трюфели, приготовленные в сливочном соусе.
От цвета, от яростно-праздничного колорита стола у нее зарябило в глазах. Написать бы натюрморт, подумала Тонкая тоскливо – и неслышно втянула слюни.
Она глядела на еду, а люди на нее не глядели. Приглашенные на премьеру фильма были заняты собой. Пары беседовали; зеваки ходили и пялились на картины. Молодая девочка, ровесница Тонкой, сидя на корточках, грела руки у камина. Дрова потрескивали. Хорошо пахло смолой, женскими духами, мясом, майонезом и фруктами. Девочка обернулась, почувствовав, что за ней наблюдают. Тонкая чуть не ахнула. Девочка была одноглазая, в безобразном смехе оттопыривалась заячья губа. На красивой, высокой шее девочки сияла низка искусно ограненных алмазов. Брильянты злобно, властно сверкали и в оттянутых книзу мочках.
– Паоло, – сказала девочка, не вставая с корточек и глядя снизу вверх, – Паоло! Прего!
Сзади Тонкой зашептали: «Невеста, невеста, ах, бедняжечка, заячья губка какая, ну да ладно, мальчик ее прооперирует, в лучшей клинике, будет как Софи Лорен…»
Чья невеста, какой мальчик, в какой клинике, – метались ненужные, чужие, подслушанные мысли, – а Паоло выбросил руку вперед, указывая гостям на большой, во всю стену, экран, и на экране уже тени бугрились и сшибались, уже голоса доносились, то пронзительно-громкие, то еле слышные, и не понять, что говорили, – говорили по-русски, а за кадром слишком громко бубнил переводчик, на каком языке, Тонкая и не поняла, – это шел и проходил фильм, и Тонкая напрасно старалась его смотреть, нет, у нее перед глазами все стояло лицо этой девочки в баснословно дорогих брильянтах, с заячьей губой, и она все спрашивала себя: чья она невеста? Чья? Чья?
И все оборвалось. И музыка. И речи. И бубненье чужих, гулких слов. И мельтешенье фигур. И тени, что обнимались и дрались. А может, это были живые люди.
– Настиа, – Паоло коснулся ее голого плеча, – ти понравицца мио фильм?
– Фильм? Какой фильм? – спросила она замерзшими губами.
Перед ней, прямо у ее ног, оказался маленький мальчик. Он был живой. Он вкусно сосал палец и смотрел на Тонкую большими, прозрачными, как у нее, серыми глазами. Глазами-озерами.
И она утонула в них.
– Ты живой, – сказала Тонкая и протянула к мальчику руки.
Она пришла в себя на мягкой, очень широкой, как белая заледенелая река зимой, богатой постели. На тумбочке, укрытой голландскими кружевами, стояла бутылка с лекарственным зельем. Пахло травами на спирту. Сгиб руки болел. Она тихо подняла руку и рассмотрела розовую точку.
«Укол. Укололи. Где я? Это не больница».
Перед кроватью сидел Паоло, держал Тонкую за руку, тихо гладил руку. Он что-то шептал по-итальянски. Он был похож на чернокудрого ангела с фрески Рафаэля, она копировала эту фреску, изучая у старых мастеров, как надо рисовать складки одежды.
Тонкая отлежалась, и Паоло проводил ее до общежития.
Начиналась питерская тусклая, пасмурная весна, и она была тоскливой и рваной, как старая дерюга, по небу стелились охвостья серых дырявых туч, на них накладывались иногда сиротливые, грязно-голубые заплатки, и шел то дождь, то снег, и у Тонкой промокали старые сапожки, а сказать о новых она боялась богатому Паоло.
Богатому? Был ли он богат? Она ничего не знала о нем. Может, он тоже был бедный гость в богатом доме, как и она сама?
Когда они уже подходили к крыльцу, им перерезал дорогу Бес.
– Ося, – сказала Тонкая тихим, слабым голосом, – Ося… Уходи.
– Я не уйду, – сказал Бес. – Ты – моя.
– Оська, ну вот не надо этого! – крикнула Тонкая жалко и умоляюще.
– Нет, надо, – сказал Бес и шагнул вперед.
Паоло совсем не умел драться. Бес размахнулся и влепил ему так крепко и славно, что итальяшка едва удержался на ногах. Пошел вперед, глупо размахивая руками перед лицом, и Бес всадил ему еще раз – под дых, от души. Паоло схватился за живот. Тонкая закричала:
– Не бей! Не бей его! Лучше меня ударь!
С крыльца общежития на драку с интересом глядели две девчонки, толстые, похожие на наряженные и накрашенные сардельки.
– Не бей! Оська!
И тут Паоло силы собрал. Развернулся. По смуглому лицу текла из носа алая юшка. Он набежал на Беса как таран. Разозлился. И стал лупцевать, молотить кулаками, будто капусту рубил: раз-раз-раз! Бес не успел очухаться, как по его скулам тоже потекла кровь. И макаронник так дал ему под ребро, черт, кажется, сломал. Или еще нет?!
– Ах т-т-т-ты…
Он не помнил, как он выдернул пистолет из кармана.
Он уже увидел свой кулак и черный ствол, наставленный прямо в лоб – этому – тому, кто – ее девочку – у него – отобрал.
– Оська! Я не твоя! Я – свободная! – рыдая, выкрикнула Тонкая.
Паоло медленно, медленно поднимал руки вверх.
И Тонкая встала между черным дулом и грудью итальяшки.
– Стреляй! – На ее личико было жалко смотреть. Оно заострилось от страха и напоминало узенькую раковину речной улитки-беззубки. – Ну! Давай! Что же ты!
Бес повел кривым, бешеным ртом вбок, угол рта опустился, уличный фонарь мелко, судорожно мигал, и в мертвенном моргающем свете вспыхивали и гасли его оскаленные, лошадиные зубы, его бешеные, выкаченные белки, его белый от напряженья кулак, его щеки и скулы в кровоподтеках, посмертная маска его еще живого лица.
Он услышал ее крик. Он услышал.
– М-м-м-м-м-а-а-а-а… – простонал он.
Тонкая глядела, как пистолет опускается. Как пистолет ныряет в карман.
Она чувствовала, знала, как там, в темном кармане, пистолет живет своей жизнью – сворачивается в клубок, как черный котенок, утихает, вздыхает, засыпает. И пуля засыпает внутри него. Дремлет. Спит.
Тонкая опустилась на колени перед Бесом. В весеннюю, холодную мартовскую грязь.
– Спасибо, – сказала она. Ее лицо было все исчерчено светлыми, солеными, золотыми полосами мокрой, единственной радости.
Не вставая с колен, под бешеным, еще неостывшим взглядом Беса, она повернула голову к Паоло, и итальянец услышал ее нежный, ангельский голос:
– Уходи. Я буду с ним. Уходи, ведь у тебя же есть невеста!
Бес рванулся. Его руки – у Тонкой под мышками. Его разбитые губы – ощупывают ее мокрые щеки.
– Какой… ниевеста?.. Настиа…
Бес обнял Тонкую крепко, так крепко, что сам задохнулся. Сжатая в живых тисках, тоже задыхаясь, слизывая с губ соленое мартини, она смогла сказать только:
– С заячьей… губой…
Они были счастливы. Они вернулись.
Они вернулись друг к другу.
Они вернулись к Питеру; и Питер вернулся к ним.
Они снова целовались везде, где заставал их налетавший, как птица, поцелуй. Тонкая писала портрет Беса – он позировал ей. Он сидел в классе Академии художеств на длинноногом табурете, а табурет стоял на подиуме, а подиум стоял еще на каком-то старом ящике, и Бес шутил: я навернусь отсюда, как пить дать! «Сиди, – тонко улыбалась Тонкая, – сиди уж…» Кисточки порхали в ее руках, как грязные бабочки.
Бес повез ее в свою деревенскую халупу, показал ей: вот так я живу, вот здесь моя жизнь. Революционные пацаны обрадовались гостье. «Ты, в натуре, чувак, что ж это со своей родной девчонкой нас никогда не познакомил, а!.. – базарили пацаны, небритые, веселые, они пахли солью морского порта, грузчицкой грязью, типографской краской, заводским мазутом, они пахли революцией, так казалось Бесу, а Тонкая думала, сморщив носик: баню бы истопили да и помылись бы. – Ты!.. пацан!.. клевая чувиха, тебе свезло!.. Настя, вас ведь зовут Настя?.. э-э-э-эх, крутое имечко!.. А-на-ста-си-я – о как длинно!.. между прочим, чуваки, – царское…» Да, она моя царица, думал Бес, нежно сжимая тонкие пальчики Тонкой. Мы много уже пережили, думал он, значит, мы точно будем вместе.
Пацаны кормили Тонкую дешевыми разваренными пельменями, пытались напоить водкой. Вечером пельмени, для разнообразия, пожарили. Тонкая все косилась на приоткрытую дверь в другую комнатенку избы: там слышалась жизнь, наблюдалось шевеление, тихие шепоты, кряки и чмоки. «А там… кто?» Бес улыбался, прижимал палец к губам. «А там – наша мать». Какая ваша мать, таращила глаза Тонкая. Бес закуривал, пускал дым колечками, веселя любимую. «Ну так, мамаша молодая, с сыночком. Революцию с нами делает. Вот ребенка родила. Одна, между прочим. Папаня слинял. Кормит. Нам помогает. Очень активная. С мальцом по заводам ходит. Агитирует. Плакаты рисует».
Девчонка с пацаненком совсем недавно отыскалась. Белый отыскал ее. Привез сюда. Когда Бес слышал из-за двери легкий сладкий чмок младенца, он думал весело: ну вот, все и встало на свои места.
А сейчас, нежно глядя, сквозь разводы табачного дыма, в разомлевшее от пельменей и глотка паленой водки, милое, родное лицо Тонкой, он остро и больно подумал о том, что у них бы мог быть такой ребенок.
Мог родиться.
Но он – не родился.
И Тонкая почувствовала его тяжелую мысль, так, как рыбак чует рыбу на жестоком коварном крючке.
Вскинула на Беса глаза. Озера, тени, лица, облака, ветки под ветром, водоросли сна, забвенья, прощенья.
– Я еще рожу тебе.
Бес крепко, больно сжал в кулаке ее невесомую руку, лежащую на столе, пальцы в пятнах масляной краски, ноготочки нервно обгрызенные, покрашенные красным кровавым лаком.
– Ты еще родишь мне.
5.
Бес провожал Тонкую. Не оставаться же ей было ночевать в халупе, их и так тут было слишком много.
Они мерили быстрыми, молодыми шагами лестницы и пригорки, корки блестящего под ранней Луной наста и бетонные платформы. Под их ногами мелькали, убегали вдаль грязь и лужи, снег и доски, лед и камень – родная земля плыла и исчезала, катилась под них, а они, на быстрых ногах, катились на ней, и она и впрямь казалась им немножко шаром.
В поезде метро они жадно целовались, Бес прижал Тонкую к стеклу двери, к надписи: «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ». Он нарочно прислонил Тонкую спиной покрепче к запрету, к приказу.
Тонкая радостно чувствовала губами родные губы и быструю рыбу языка Беса. Бес был молчаливо пьян от счастья, терял разум, когда он отрывался от лица Тонкой, она видела в его раскосых глазах пляшущий, нежно-дикий свет.
– Ну не можете, что ли, до дома подождать? – беззлобно, вежливо спросила их маленькая, ростом с ребенка, старушка в пуховой вязаной шапочке, похожая на весенний гриб сморчок.
Бес и Тонкая сделали вид, что старушку не услышали.
Снова стали целоваться. Поезд грохотал на стыках рельс.
Старушка не унималась.
– Ну как же, ребята! Вы зачем свою тайну – перед всеми людьми? Это ведь Божья тайна.
Тонкая легонько толкнула Беса в грудь ладонями.
– И правда, ведь это наша тайна, – тихо сказала она, улыбаясь.
Бесу как шлея под хвост попала.
– А хочешь, я сейчас заору на весь вагон, что я люблю тебя?!
Он вдохнул воздух поглубже.
– Я-а! Люб…
Тонкая закрыла ему рот черпачком руки.
– Тише, тише…
Бес исцеловал, хорошо, не изгрыз и не искусал, как пес, любимую лапку. Лапка пахла масляной краской, пиненом и еще чем-то: лаком, разбавителями, даже известкой, – как не рука девушки, а мужика мастерового.
На Питер густо-синим старым платком, будто на клетку с канарейкой, плавно опускалась ночь.
Бес и Тонкая уже подходили к общежитию, когда за их спиной раздался быстрый топот.
Все летело быстро, диким резким ветром. С ног сбивало. Чужая рука толкнула Тонкую. Еще одна рука, в локте согнутая, закинулась за ее шею. Тонкая захрипела, заверещала. Бес живо сунул руку в карман. Он ни о чем не думал. Мыслей не было. Вернее, они были ясные, алмазные, четкие, без страха, разумные, совсем не дикие, ручные. Они – улыбались.
– Я же говорил тебе, Питер – бандитский го…
Он выстрелил.
И – выстрелили в него.
Он ничего не понял. С пистолетом в руках, глядя веселыми раскосыми глазами, дикими сливинами, прямо перед собой, он начал падать – и падал долго, долго, а земля все никак не ложилась под мосластое, жаркое, поджарое тело.
…что будет с той, с девчонкой с пацаненком…
…зачем ты о ней-то думаешь сейчас…
…а о чем я должен думать?.. о ком…
…да, Тонкая… без меня… как…
…нет, спасут… все равно… все…
Тот, в кого он попал, да ведь с такого расстояния и слепой попадет, тот, кого он убил, выпустил Тонкую из душащего захвата и грузно, слепо осел на подмороженные лужи, на тротуар. Тонкая ловила сырой воздух ртом. Колени ее подогнулись, и она тоже упала на асфальт – на колени. Повалилась на бок. Она протянула, потянула по наледи руку, пачкая ладонь в ледяной грязи, и схватила Бесов пистолет.
Оськин пистолет.
Оськин…
– Ося…
Дуло пистолета слепо, невидяще водило по растерянным рылам. По грязно-небритым и гладко выбритым рожам. По молодым, не старым ведь, еще молодым! свежим! зверино-жадным! бледным и румяным!– харям.
«Это все лица, лица, лица, Настька, это все лица, лица, лица… Они – живые… Это все человеки… И ты – не выстрелишь… Нет… Не-е-е-ет!.. Никогда…»
Курок прожигал палец. Тонкая перевела стеклянные от ужаса глаза на Беса.
Он лежал на асфальте ничком. Он растопырил руки, обнимая чужую землю. Он целовался с землей. Он целовался с землей Питера, как с ней.
Прощался?!
Тонкая целилась в рыла, в морды, в ряшки. В хари.
Нет. В лица, в живые лица людей целилась она.
И в нее тоже – целились.
И одна из харь, одна из небритых рях, из зверьих морд выдавила, как краску из тюбика, тупо, глухо, жадно рыча:
– Ну что, ухлопаем ее?
Ледяной пот потек по спине Тонкой. Она чувствовала всем телом угольный жар, исходящий от лежащего ничком на тротуаре Беса.
Тело. Тело Беса. Оськино худое, угластое тело. Оська, родной, ты только не уходи! Ты подожди. Я сейчас. Я сейчас…
Лежащий на тротуаре, Бес был похож, в черной «косухе», на черную кочергу – так нелепо заломились его руки, так железно согнулась спина.
Дуло медленно ощупало одно рыло. Затем – другое. Третье.
Тонкая рука, держащая пистолет, наливалась чугуном, а пистолет внезапно стал невесомым, ненастоящим. Будто прозрачным. Призрачным.
«Жар. Я чувствую жар. Значит, ты теплый. Ты живой. Ты…»
Лица, лица, лица. Запоминай их. Ты напишешь их портреты.
Ты напишешь портреты их всех, потому что ты их всех – запомнила.
Ты, потом, если тебя не убьют, напишешь портрет своего времени – в полный рост.
«Меня тоже сейчас убьют. Бес! А как же наш ребенок! Я же не рожу тебе! Я не рожу тебе! Ребеночка… сыночка… Дура я, зачем аборт сделала…»
– Не стреляй, девочка, – нежно, будто пел колыбельную, вымолвила другая харя. – Не стреляй. Мы ошиблись. Вы не те. Вы другие. Нам неправду сказали. Нам… Тише… тише… не стреляй… не стреляй!.. не-стре-ляй… не-стре…
ИНТЕРМЕДИЯ. ДРУГ БЕСА, АРХИП
АРХИП И ЕРЕМЕЙ
1.
Это было так недавно. Ему сейчас казалось – это было целый век тому назад.
Мощные лесистые крутосклоны отражаются, как в темно-зеленом зеркале, в бурливом Енисее. Порогов и перекатов на реке стало меньше – плотины подперли воду, она успокоилась там, где должна бежать и играть, как встарь. Михаил Росляков пригласил его порыбачить в Бахте летом – ну он и поехал на Енисей, давненько он тут не бывал. Все столица, столица. А Сибирь уже где-то побоку лежит. Как копченая семга: закоптил, полюбовался, положил в мешок – и забыл, а клялся, что осенью с пивком сгрызет.
Рыбалка по осени, рыбалка… На Енисее – самая рыбалка. Никакое вонючее Подмосковье с Енисеем не сравнится. Фюрер дал ему денег – он заслужил, заработал. Такую вербовку провел среди молодых ребят – любо-дорого. Целые города, городки под Москвой, под Нижним, под Ярославлем поправели. Правых на выборы выдвигают. Целые районы пацанов головы бреют, в скинхеды подаются. “Скины – это наша юная гвардия, – так Фюрер ему и сказал. – Обрати внимание на скинов! На них пока вроде бы никто внимания и не обращает! А жаль! Скинхеды – это завтрашние мы. А мы завтра будем гораздо жесточе и жестче нас, сегодняшних”.
Он хорошо поработал и заслужил отдых. Билеты на самолет, правда, вздорожали. Ну да и на поезда тоже. За инфляцией не угонишься. “Это черные гаденыши нам делают инфляцию, все они. Скинем их – заживем. Будем править – все будет правильно, понял?!” Куда ни шли триста баков, пожал плечами Фюрер, на-ка тебе все пятьсот, гульни. Только с черными девками там, в Сибири, не спи, понял?! Никаких чтобы китаянок, монголок! Только с русскими матрешками! У нации должно быть здоровое и чистое продолжение, понял?! “Не бойся, презервативы в любом киоске, шеф”, – буркнул Архип, заталкивая доллары в нагрудный карман “бомбера”.
Он прилетел в Красноярск, из Красноярска, договорившись с капитаном маленького енисейского катерка, развозившего провизию геологам, поплыл по Енисею на север, через родное Подтесово, к Бахте. Бахта, поселок на берегу, да и поселком-то трудно назвать: домов шесть-семь, не больше, жмутся, как ульи на пасеке, друг к другу. Осень стояла в тот год в Сибири драгоценная. Леса горели золотым, янтарным и красным, горы мерцали ало-пестро, как яшмовая шкатулка. Жидкое золото стекало с верхушек приречных угоров, багрянец вспыхивал огнем в распадках; под ногами в тайге еще подмигивала забытая, неснятая рубиновая брусника, алели красноголовики. Осень была наброшена на Сибирь, как вышитый красными розами бабий платок – такой носила когда-то его покойная маманька. Где-то здесь, недалеко, был дом… Когда проплывали Подтесово – он спустился в кубрик, отвернулся от окна, курил. Не хотел, чтобы видели его слезы.
В Бахте он сразу же двинул в избу к Мине Рослякову. “Миня, встречай москвича!.. Вот гостинцы…” Выпили “Столичной” водки, закусили чем Бог послал: Росляков вывалил на стол все таежные богатства, все соленья и варенья. “А вот кунжа, рыбка знатная, ух, пальчики оближешь!..” Они выпили все три бутылки с Миней одни, голосили песни, Миня играл на гармошке, не попадая пьяными пальцами в пуговицы, нещадно растягивая меха. “С кем рыбалить-то собирашься?.. Со мной аль в одиночку?.. Один?.. ну-ну, гляди… А то я старовера Еремея тебе подкину, он ить бойкий старикан, шустра-а-ай… он тебя на такую рыбку наведет – закачаешься!.. На чира, на золотого осетра…”
Они все-таки пошли к Еремею. Дед встретил их на завалинке, курил трубку. Глядел на дворец осени слезящимися глазами. Договорились. Еремей сладил снасти, осмотрел лодку, кивнул Архипу. Выплыли на самую середину Енисея, на стрежень. “На стрежне рыба плохо берет, – выкряхтел старик, – давай-ка подгребем к тому бережку поближе”. Ветер рвал с берез и лиственниц золотые ошметки, продувал насквозь, до души. Холод дышал с севера. Пахло зимой. Еремей поставил снасть на осетра – длинная леска, на конце камень, к леске привязано множество крючков с насадкой. Дед размахнулся и закинул камень далеко в воду. “Сейчас посидим, перекурим, и, даст Бог, дело пойдет”.
Ждали час или больше. Колокольчик на леске зазвенел. Еремей вздрогнул, уцепился за леску сухими узловатыми пальцами, похожими на корешки хрена, стал тянуть. Рыбина большая ухватила крюк. Когда над водой показались колючки на темной спине и острая акулья морда, Архип радостно закричал: “Осе-о-отр! Тяни!” Он перехватил леску у старика. Вдвоем они тянули упирающуюся, мечущуюся в холодной воде рыбу. Это было упоительно. Он никогда не забудет ощущения живого сильного тела, которое бьется, хочет жить, и ты борешься с ним – и побеждаешь.
Они затащили осетра в моторку. Кинули на дно. Осетр и вправду был огромен – великолепный, страшный, как рыцарь в латах. “Древняя рыбища, – уважительно сказал Еремей и потрогал большим пальцем костяную щеку осетра, – все делает, и дышит, и разговаривает. Как человек. И размером с человека. Ну, поохотились. В Бахте разговору об нас будет!..” Больше ловить не стали – надо было разделывать осетра, даже на холоду он портился быстро, а Еремей сказал, важно поднимая черный прокуренный палец, что в снулой рыбе образуется смертельный яд, ее есть нельзя. Вернулись с победой. Доволокли добычу под жабры в избу к Еремею.
Архип огляделся. О как знакомы ему были такие избы! Изба вся – из одной комнаты: тут и спят, тут и едят, тут и снасти чинят. Черные бревна дышали сыростью, старостью. Под потолком болталась лампочка без абажура. “Лампочка Ильича”, – насмешливо подумал Архип. По стенам висели желтые и коричневые старые фотографии. Потолок был оклеен газетами сорокалетней давности, тоже желтыми, как воск. На строганом, без скатерти и клеенки, столе стоял граненый стакан, лежала синяя коробка спичек, серела крупная соль в поллитровой банке. Разношенные сапоги около печки. Изодранный собаками тулуп на гвозде в углу.
“Как ты живешь тут, дед Еремей?” – со сдавленным внезапно горлом спросил он. “Пес его знат, паря, – старик почесал затылок, поглядел на рыбу, разложенную на полу на мокрой тряпке. –Так вот и живу! Хлеб в Бахту не всякий раз катера завозят, накуплю впрок, сухарей насушу…” – “А родные-то у тебя какие есть?” – “Есть, а как же, есть. В Красноярске кто, кто – в Якутске… один мой пацан погиб, на этой, как ее, китайской границе… давно уж… Про остров Даманский слыхал?.. Ну вот там и сгинул…” – “А что же тебе дети не помогают?” Архип глянул на коричневую фотографию у печки. Маленькая женщина, лицо суровое, губы сжаты, в валенках. Наверное, жена. “Кто бы им самим помог! – Старик сморщился, губы его затряслись, он замахал рукой, отгоняя от себя навернувшиеся слезы, как отгоняют мух. – Бедствуют ребята, бедствуют! То на одну работу сунутся, то на другую… Витька пытался дело открыть – прогорел к чертям… В тюрягу загремел… Выпустили… Младший, Ванька, в Якутске с семьей… Трое у него… На трех работах пашет – а деньгов все нету, еле концы с концами с бабой сводят… Хоть воруй иди, еп твою мать! А может, и пойдут! Витька вон после тюрьмы обозленный такой, пишет письма: автомат раздобуду, на жирных пойду, всех пришью к лешему… Такие-то дела, сынок… А ты говоришь – помогать… Не-е-ет… Бог помогает… Человек, помоги себе сам – и весь тут сказ!..”
Еремей поднял голову и широко перекрестился на темный, прокопченный образ Богородицы, висевший в красном углу над столом. Архип скрипнул зубами. Нищета. Русь. Пустая изба. Сколько таких стариков по России в покинутых селах. “Мы выдернем тебя, Еремка, и таких, как ты, из нищеты. Мы будем воевать. Мы, как твой Витька, возьмем автоматы в руки”.
Еремей глянул на Архипа остро, вдруг – завлекательно-хитро. “Автома-а-аты?..Это ж дороге удовольствие, автомат. Где денежек на оружие возьмете? Аль у вас все серьезно?.. Выпить, говорю, у тебя ничего нету?..” Архип достал из куртки припасенную бутылку, привезенную из Москвы. “Это ж надо, а, “Гжелка” называется!.. Впервой такую вижу… Забирает?..” – “Еще как забирает, дед. Завтра утром на рыбалку не встанешь”.
Они разделывали осетра, варили уху, Архип нанес дров из стайки, растопил подпечек, бросал в варево соль и лавровый лист. Аромат драгоценной рыбы гулял по избе. “Да ить беда, рыбнадзор то и дело шастает по реке, это нам с тобой нынче повезло, не спымали нас, как того осетра”. Хлеба у старика не водилось, одни сухари. Архип пожалел, что не захватил с собой из Москвы в самолет рюкзак с хлебом. Еремей опьянел быстро, рука его дрожала, протягиваясь к рюмке, нос и глаза быстро покраснели. “Ух, вкусно!.. За бутылку – удавлюсь, ей-Богу… Люблю я это дело… Тут у нас одно веселье – зелье… А что, что, ну вот ты мне скажи, как бороться-то будете?.. Народ перебьете?..”
“Перебить – слишком просто”, – Архип опрокинул в рот граненый стакашек водки и потянулся вилкой к куску разложенной на доске, дымящейся осетрины. Он жевал осетрину и смотрел в окно. Золото укрывало угоры и лощины, золото рвалось ветром в нестерпимо-синей вышине. “Смертельная красота”, – подумал он. Будто церковной парчой все накрыто. Перебить, говорит Еремей. Если бы все решалось так быстро! Убил того, кто мешает тебе жить, – и будь счастлив?!
Фюрер приводил им примеры из истории. Фюрер говорил об Иване Грозном. Об армянской резне 1915 года. О геноциде Пол Пота. О Варфоломеевской ночи. О Хрустальной ночи в Германии. О сталинских лагерях. Их умный Фюрер говорил им о том, что войны и геноцид очищают генофонд, поворачивают колесо истории, освобождают человечество от шлаков, от явлений застоя. Фюрер рубил рукой воздух, лицо его горело вдохновением, жесткое, властное, и они глядели на него и верили ему.
И Архип глядел. И Архип верил.
Хрустальная ночь. Это было. И это – будет?!
Все, что было, будет когда-нибудь снова.
Будет Хрустальный год. Будет Хрустальный век.
Новый век, мы должны отпить из тебя, как из хрустального бокала. Темно-красный, сладко-соленый, пьянящий напиток – наш.
Они с Еремеем уснули поздно, за полночь. Старик уложил его на печке. Архип долго не мог уснуть, слышал, как старик, стоя на коленях, косноязычно, пьяно молится перед иконой, бормочет, просит, умоляет, плачет. Старик молил для всех, и для себя, и для детей, и для народа, и для него, Архипа, – счастья, конечно. Но старовер не знал, что такое счастье. Он не знал его никогда. Поэтому бросил молиться о счастье и стал молиться о том, чтобы крупная рыба всегда в сети шла.
2.
Когда Архип уезжал из Бахты, он разделил оставшиеся у него деньги и отдал часть — Мине Рослякову, часть — деду Еремею.
Отдавал — стыдно было, сердце сжало когтистой лапой.
Впервые подумал о том, что они делают.
Их Фюрер. Бритые их башки. Бритое, лысое, голое время их.
Голое, как бутылка водки; беззащитное, как бритая голова под осенним ветром.
Перекроить общество? Ткнуть людей носом в их дерьмо? Залатать дырявый мир? Сделать так, чтобы бабы рожали только чистокровных?
«Россия для русских, Россия для русских», – бился в нем фанфарный, пронзительный клич. И он, глядя в раскосое, с сибиринкой, лицо старика Еремея, чуя, как медленно течет, вливаясь в море близкой безбрежной смерти, в дряхлом изработанном теле древняя, чужая, то ли эвенкийская, то ли тофаларская, то ли бурятская кровь, впервые в жизни не поверил опьяняющим, грозным фанфарам.
«Эка, зачем мне далары энти?..» Старик сморщился, будто лимона дольку зажевал. Будто самогона хлебнул.
«Ничего, ничего, – бормотал Архип, всовывая деду в сухой кулак мокрые, будто жирные, будто скользкие чужеземные бумажки. – Накажи на рубли обменять, кто из твоих в Красноярск поедет, того и попроси. Слышишь? Слышишь?»
Еремей кивал головой. Держал деньги в кулаке, как пойманную птицу.
Смеялся радостно, смущенно, беззубо.
«Я молиться за тя буду, паря, слышь, – тихо смеясь, говорил, и плоское высохшее лицо сияло, как начищенная медная сковорода, – только вы, слышь, эй, вы там, в столице, не убивайте никого только, эй, ну, ты понял, да, никого, слышь, никого. Не надо крови. Это, самое, да, ну, крови не надо».
ИГРА
Я сегодня захотела, наконец, убраться в мастерской. Уничтожить бардак и навести кайф. В раковине грязной пирамидой возвышались миски и тарелки. Кошачья шерсть летала по углам. С потолка свисала серая махровая паутина. Сухие звездочки кошачьего корма хрустели под подошвами. Мир плохо, тускло виделся сквозь стекла, забрызганные дождем.
Осень, и дождь, и у Оськи прохудились осенние башмаки, а зимних вообще нет. Были, конечно; но износились.
Все изнашивается; все умирает. Башмаки вот умирают. А Ося – молодой. Молоденький. А мы с отцом уже что, старые? Оська нам говорит: не-е-е-е, вы, ребята, молодые! Это вранье. Мы уже знаем, где у нас суставы, а где позвонки. Особенно по ночам. По таким вот непроглядным, дождливым ночам.
Уборка – святое дело. Я набрала полное ведро холодной воды, у нас горячей в мастерской нет, бухнула туда тряпку и стала бодро мыть полы.
Мою и думаю: все половицы заляпаны масляной краской.
И жизнь моя, жизнь моя заляпана, сверху донизу и справа налево, масляной краской!
А портрета моего, в полный рост, муж так и не написал.
Хотя когда-то, давно, он писал меня обнаженной. Две больших пастели сделал, 60х80. И одну потом записал. Она ему не понравилась. И я плакала и кричала: ее не вернуть! А одну – оставил.
Я там лежу голая, крутобедрая, слегка улыбаюсь, и рука течет по животу плавно и певуче, как река. Короче, Даная или там Венера перед зеркалом, только зеркала нет.
Зеркало есть, вру. Оно у нас не висит на стене, как у всех людей, а просто прислонено к полке с журналами “Художник”. На полу стоит. Кошки бегают и в нем отражаются. Я приседаю, если надо в него поглядеться перед выходом в люди.
Елозила, елозила я так мокрой тряпкой по полу, пух кошачий и грязь собирала. Вода быстро стала коричневой, черной. Я набрала новое ведро, принесла его в комнату и села в кресло. Устала.
Я сидела в кресле, и понимала, медленно и с трудом понимала, как я устала.
Устала от грязи. Устала от кошек. Устала от житья в мастерской, среди холстов, мольбертов, этюдников и подрамников. Устала таскать сумки с едой. Устала нюхать Оськин табачный дым. Устала не спать по ночам, когда Оськины дружки гомонят за стеной. И курят, курят, и горечь забивает горло, а муж спит как убитый, храпит, тоже устает очень на работе.
Устала от вечного дождя. От сироты-фонаря за окном. Устала понимать каждый день, каждую минуту и каждую секунду: мы все умрем, а что же останется после нас?
Устала до того, что мне, бессильно сидящей в кресле, захотелось... стыдно сказать: во что-нибудь поиграть.
Ну да, да! Поиграть! Сыграть! Хоть в карты, в “дурака”. Хоть в шахматы, я умею. Хоть в тире пострелять. Хоть... а какие игры-то есть, я уж все забыла!
А во что я играла раньше? Во что мы играли молодыми?
Черт! Я наморщила лоб. Тряпка серым осьминогом тонула, шевелилась в ведре. Мы играли... мы играли... Господи, во что же мы играли?! Или мы не играли вообще?!
Черт, нет, играли же, играли!
Я громко засмеялась, сидя в кресле. Ну да, конечно, играли! Еще как играли! Только вот во что? В поддавки? В “Чапаева”? В девятку, в буру? А, совсем детишками мы играли в настольные игры! Там фишку бросаешь, и на ней белые точки, и сколько выпало точек – столько сделаешь ходов. Вперед! Или назад! Все равно. Без разницы. Но сделаешь.
Черт, во дворе мы играли в “казаки-разбойники”!
Мать, ты что, очумела, в прятки, конечно, играли... Святое дело – прятки...
Блин, в “дочки-матери”! Ну, это девчачья такая игра была! Там нам надо было даже роды изображать. Подушку к животу привязывали. Куклу под юбку клали. Потом “мать” ложилась, раздвигала ноги и страшно визжала: полагалось орать, как при настоящих родах. Куклу, под крики и визги, вынимали из-под юбки и бережно, ласково завертывали в полотенце. Или в наволочку. Или просто в старую сорочку. Это был младенец.
Спи, младенец мой прекрасный... баюшки-баю...
Ледяная вода плескалась и остывала еще сильнее, и я подумала о том, что все в мире – игра.
И мысль эта обожгла меня, одинокую, в кресле, кошками исцарапанном, льдом и смехом и ужасом.
Государственная власть – игра. Оськина дворовая революция – игра.
Только одни сидят в Кремлях, а другие – в нищих бункерах. Вся разница.
Кто кого переиграет.
Они, молодые, играют в свою революцию. Им здорово, им важно носить кожаные черные куртки; разбрасывать листовки: “ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА!” – или: “ЗАПАСАЙСЯ ПРОДУКТАМИ ВПРОК ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА!” Они играют в митинги, на которые издали смотрят три старушки, а разгонять смешно и организованно выходят тучи омоновцев с прозрачными щитами и резиновыми дубинками в руках. Зато те, кто сыграл в революционный митинг или там в Марш несогласных, становятся тут же героями игры: они обыграли тех, ненавистных, соперников! Они сделали ход!
Они. Мы. Сделали. Ход.
Ход конем? Ход слоном?
А ну-ка, вот она, черная карта пошла! На тебе туза! А?! Что?! Нечем крыть?!
Они хотят выиграть; и они, играя, на самом деле всерьез думают, что противнику будет нечем крыть.
Они играют и догадываются, конечно, краем сознанья догадываются все-таки, что это игра, что это просто игра такая, революция, политика, черная партия, русский экстрим, – но дальше запретного края они эту мысль не пускают, они выскребают из себя ее красный зародыш, ведь все должно быть всерьез и взаправду, и они живут правдиво, не упрекнешь ребят во лжи, на полную катушку, во всю ивановскую!
Интересные у них игры, думала я, и кресло жалобно скрипело подо мной. Они играют в СССР, лишь родившись в нем, а не живши, – а то и не в нем совсем родившись, а на его костях. И легенда, мечта о стране, где текут молочные реки и торчат над ними кисельные берега, где доктора тебя лечат бесплатно, а учителя бесплатно тебя учат уму-разуму, пусть даже двойки ставят, да ведь они же бесплатные! – где добрый дядя-милиционер никогда не выстрелит в тебя, пьяный, из табельного оружия в гастрономе, где таксист не изнасилует тебя на пустыре, показав нож за рулем, где со счета на счет не перекачиваются призрачные, пустые, миллионные деньги, – виртуальные деньги, царство ваше настало, а наше-то где?! – где добрый почтальон в срок доставит тебе телеграмму, распишись здесь и вот здесь, а родители твои, потому что в твоем городе никаких, к чертям собачьим, хороших продуктов к празднику не купишь, собираются, веревкой подпоясываются и едут в Москву, разгонять тоску, и из Москвы этой, белокаменной и златоглавой, приезжают, затаренные по уши, волокут в руках и в зубах – чемоданы! баулы! сумки! авоськи! свертки пахучей, вкуснячей снеди – из сеток торчат изумрудные хвосты ананасов, в сумках перекатываются копченые колбасные палки, и баночки камчатской икры – да неужели это возможно?! – вот они, и там, внутри, под жестью, красные катышки рубинов-турмалинов-гранатов, соленых, как слезы, на вкус, – а разве рыбы плачут, мама?!.. – и связки свежайших сосисок, на морозе-то не успели протухнуть, пока из столицы везли, а в поезде я проводницу попросила, она под пол вагона, в ледник, спрятала... – тут и сыры, опять со слезой, и сыры, бедные, плачут, и настоящие гранаты, из Ташкента, розово-малиновые, чуть подвяленные, и вафли и зефир, и даже горячего копченья – бревно осетрины! “Это из “Елисеева”, – говорит мама, снимая заиндевелую шубку. А мы, дети, не знаем, кто такой Елисеев, мы зверьками лазаем по сумкам и чемоданам, мы веселимся: вот это Новый год у нас будет! В Горьком в магазинах ничего нет, зато мама с папой из Москвы все привезли! Все-все-все!
И эти конфетки, “Белочка”, и эти, “Мишка на Севере”, и эти, с ромом, “Столичные”, и эти, “А ну-ка отними!”, мы положим в хлопушки... в самодельные хлопушки...
Но ведь наши молодые не знали этого праздника, этой игры, когда в городе ничего, а на столах – все! Откуда? Это тоже была игра. Игра взрослых. Кто где достанет. Кто живей отоварится.
Они думают – Советский Союз был раем на земле. И рай этот во что бы то ни стало надо вернуть.
Что с нами будет, если они его – вдруг – вернут?
Ну, предположим, они выиграют этот матч. И СССР вернется. Союз нерушимый республик свободных! Сплотила навеки великая Русь...
Да гимн-то у нас тот же. Да тюрьмы у нас те же. Нашли чем пугать! Нас не запугаешь. Мы играли во всякие игры. Мы в лицо видели любую, самую страшную правду.
Они вернут не СССР. Они вернут просто названье. Надпись. Крупный черный шрифт на красном транспаранте. Красные буквы на черном плакате.
А, вот еще: черный серп и молот в белом круге на красном фоне.
Это у них, у игроков, знамя такое. И нашивки такие на рукавах.
Нет, всерьез, всерьез они играют! Всерьез думают, что государство победят! Положат на обе лопатки! Завалят, как быка!
Плохая игра. Не завалите, ребята. Потому что каждый из вас завтра повзрослеет. И вы не захотите ни выстрелов, ни крови, ни сражений: у вас, у каждого, будут жены, семьи, дети, и вы испугаетесь, что детей ваших в вашей кровавой игре, в ее диком финале, в эндшпиле – убьют, намеренно или случайно.
Вы станете взрослыми, как мы, и захотите не стрелять из пистолетов в воздух, не бить сапогами бедных вьетнамцев и ни в чем не повинных узбекских и таджикских рыночных девчонок, а захотите зарабатывать деньги, чтобы – жить. И хорошо кушать. И чтобы детки ваши хорошо кушали. И хорошо одевались. И теми, кого в начале черной игры своей вы обзывали обывателями и жирягами, внезапно и незаметно станете вы, – но правила игры таковы, что себя нельзя назвать ни обывателем, ни буржуа, ни любителем чешского пива и венских сосисок, – а как же в новой игре себя назвать?! – вот вопрос! – и вы скажете о себе: мы стали просто людьми, просто людьми на земле стали мы.
Разве нельзя быть человеком, с мозгами, с душой, и при этом хорошо жить?
Разве нельзя жить в своем государстве, помогая ему, а не убивая его?!
“Нельзя! – орете вы сейчас. – Нельзя! Нас не слышат! Они все глухие! Они – нас – готовы – упечь – за решетку – и поставить – к стенке! Но не услышать!”
А что надо сделать в вашей игре, чтобы они вас услышали, спрашиваю я беззвучно, сидя в старом, обцарапанном кошками кресле.
“Надо вдарить их медной сковородкой по башке! – вопите вы мне в уши. – Надо вымазать им рожу кремом, тортом их же вонючей кондитерской! Надо выстрелить им в харю из пистолета! Нет, не в рожу – в живот, чтобы корчились и мучились подольше!”
Вы такие жестокие, шепчу я одними губами. Вы такие жестокие?
А вы мне в уши орете: “Да! Да, мы такие жестокие! Да, смерть! Да, кровь! Да, война и любовь!”
И я встаю из кресла и ору вам в рожи: это же игра! Это же просто игра такая! Бросьте! Хватит! Все наелись!
А вы орете надсадно, и я вижу, как гортани ваши алеют, как юные кадыки выпячиваются из юных хрящей, над дрожащей трахеей: “Не-е-е-ет! Это не игра! Это все правда! А вы, вы хотите жить так, как вы живете?! В этой занюханной, подвальной, грязной мастерской?! На вашего жалованья жалкие копейки?! На эту вашу грошовую пенсию, на которую и пес не проживет?! И даже кошку не прокормишь?! В мире все удивляются на нас! На то, как мы все это терпим! Мы, мы одни восстали! Против этого всего! Против этого геноцида! Вы что, не видите, то, что делают с нами, это геноцид!”
Какие умные слова вы знаете, шепчу я бессильно. Я таких не знаю.
Вы так хотите переворота, спрашиваю я, вздернув голову. Вы хотите революции ради революции? Или ради нас, родителей своих? Или ради себя? Или ради ваших нерожденных детей? Ради чего вы хотите пролить моря крови и умереть? Вы прикрываете себя, как щитами, заботой о нашем будущем – а на самом деле для вас важно иное! Важнее всего не счастливое будущее – вы и сами догадываетесь, что его и у вас, и у нас не будет никогда, – а сколотить деревянный ящик для сбора партийных денег, и в ящик все равно никто не положит ни червонца, это просто игра такая, важнее всего разбросать по городу листовки, приковать себя цепью к казенной батарее, вымазать рожу чиновника пирожным. А дальше что?! Дальше?!
Вы кричите: у нас есть Вождь! И мы за ним идем!
Вождь и толпа, какая старая игра, плачут мои губы и кривятся. Толпа и Вождь, как часто Земля играла в эту игру...
Мы возьмем власть и сами сделаем свое государство, орете вы над моей головой. Над моей седой головой! Над моим ртом, в тяжелом багете морщин, шепчущим беззвучно: дети, дети...
..дети, вы не сможете управлять страной! Дети, вы неграмотные! Дети, это же не игра! Страна – это заводы, фабрики, города, деревни, степи и горы, хозяйство – и люди! Это не пешки, не слоны и не ферзи! Это не черные пистолеты! Это не листовки! Это не бумажки!
Люди это люди!
“Мы делаем революцию для людей!”
Как вы кричите, у меня в ушах звенит.
И я спрашиваю из своего глубокого старого кресла тихо, очень тихо: а вы знаете, ну, в истории Земли, хоть одну революцию, плоды которой были – для людей?
Во время русской революции миллионы погибли. При социализме убили миллионы. Революции в других странах кончались всеобщей резней. Во Франции. В Англии. В Чили... где хочешь...
Дети, вы не можете выстроить Новое Счастье на крови и на костях! От нашей-то России, после всех революций и социализмов, после всех демократий и переворотов, остался только пепел и алмаз, проклятье, алмаз и пепел! Один алмаз, дети – чья-то живая душа – и гора серого, чугунного пепла сожженных душ.
А у вас, молодые мои, живые души?! Или – сожженные?!
Когда конец игры, скажите мне, когда вы наиграетесь, когда...
Кот прыгнул мне на колени. Он был не пушистый и полосатый, как убитый Марс. Это был другой кот – Тонкая, девочка Осипа, перед отъездом в Питер, она сдала экзамены в Академию художеств, молодец, не то что наш шалопай, – принесла нам черного котенка и смущенно сказала: “Это порода бомбейский кот. Он бархатный и очень общительный. Нам подбросили, а у моего папы аллергия на кошачью шерсть! Вот я вам принесла”. И бросила черного, желтоглазого котенка мне, и я поймала.
Котенок вырос в гладкого, мягкого, и правда бархатного кота, и его назвали Кубрик. Кубрик вонзал мне в колено когти и заводил долгую, звучную песню. Золотые глаза, угольная шубка. Вчера Кубрик прыгнул на шкаф и сбросил на пол хрустальные рюмки, доставшиеся нам в наследство от покойной тети. Рюмки были завернуты во фланель, но, несмотря на эту предосторожность, разбились все до одной. Я плакала. Ну не бить же кота! Он же веселился и играл!
Ну не бить же Оську и друзей его за то, что, как черные котята, ошалело играют они!
Пепел и алмаз, алмаз и пепел. Все сгорит, и мы тоже. Сожгут на задворках, у помоек, это старое кресло. Алмаз не сгорит. Его в пепле найдут. Ося, ты тоже алмаз! Ося, твоя мама умерла давно, и я давно тебе мама! Послушай ты меня! Брось ты эту игру! Ты не выиграешь! Вы не выиграете! Вы уже проиграли! Даже если вы выиграете – все равно вы проиграли! И ваши вожди проиграли!
Ваши вожди, они умеют только книжки писать, и жить они тоже умеют, и хорошо, зажиточно, как нормальные буржуа, они сами-то живут, – а вам мозги пудрят, что надо класть жизнь на алтарь революции, что надо грудью бедных защищать, что надо умереть за революцию всерьез! Они обманывают вас! Они сами прекрасно жрут, отлично пьют и ездят в дорогих машинах, а вас призывают голодать, пить говенную водку и бить, в хлам разбивать булыжниками и дрекольем чужие красивые мерседесы и джипы! Вот это, Оська, вот это самое и есть очень, ну очень плохая игра! Только кто вам это в голову втемяшит?! Кто до вас докричится?!
Я кричу! Я молча кричу! Но я не могу! Не слышите вы меня! Вы – глухие!
Вы слышите только этого, Вождя своего, фантазера!
А Оська кричит мне в лицо, так рядом, смертельно близко его хриплый, прокуренный голос:
“Это не фантазия! Это не игра! Революция превыше всего! Родина или смерть!”
И я перестаю кричать. И гляжу ему в лицо, в раскосое, красное, гневное, скуластое, худое, детское лицо, и я глазами спрашиваю его:
“А что такое для тебя Родина, Ося? Что она такое? Если она не игра, то что тогда?”
И он опускает глаза.
И он молча, долго глядит на ведро с ледяною водой и грязной тряпкой под своими обутыми в старые обтерханные берцы ногами.
И я вижу: он внезапно превращается в кота, в черного бархатного кота на моих коленях, и впивается когтями-серпами мне в платье, в чулок, в кожу, в душу, он когтит меня и царапает мне сердце, он показывает мне острые зубы, он раздирает мне внутренности, он предсмертно кричит, и дикий кошачий вопль замещает мой мозг под больно раскалывающимся, старым черепом, и крик вместо мысли заливает усталой кровью костяную, усталую чашу, и Кто-то Большой, Страшный, Небесный держит чашу в руках, прежде чем окунуть в нее губы, а потом равнодушно вылить остатки на землю, которую вечные, богатые и нищие игроки все никак не могут поделить, отыграть друг у друга.