
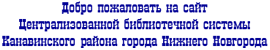
В наше время. Рассказ
Книги были разбросаны по двору, их затоптали в грязь. Только разломив какую-нибудь несчастную жертву пополам, ещё можно было разобрать в её непромокшей сердцевине кусочки текста. Митя поднимал, выковыривал из грязи почерневшие переплёты, осторожно разнимал слипшиеся листы, читал, пытаясь определить - что. Если бы не сама обстановка, занятие можно было бы назвать даже увлекательным. Герменевтика собственной персоной! К тому же его всегда интересовали чужие библиотеки. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе кто ты. Здесь была по преимуществу классика - Пушкин, Гоголь, Толстой. "Былое и думы", первый том "Всемирки" пылал тёмно-красным ледерином на куче обугленных вещей, которые, должно быть, сначала выбрасывали из окон, а потом сволокли вместе и жгли огнемётом. Герцен каким-то чудом оказался невредим, только одна подпалина проползла по обрезу, не затронув крышек. У самой ограды, под скамейкой спрятался чистенький "Хаджи-Мурат" из "Библиотеки школьника". Митя сунул его в карман - показать Ахмеду то место. В одном из томиков, едва ли не развалившемся в его руках, узнал Хемингуэя - по стилю. "...Потом через ограду в другом месте стали перелезать ещё трое. Мы их тоже подстрелили." Митя перевернул несколько страниц. "Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя." Ещё полистал. "…но почём ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них? - В итальяшек-то? - сказал Бойл. - Да я итальяшек за квартал вижу."
Митя подумал: во все времена - одно и то же. С точностью до запятых. Очень современная книга, хотя и сочинил "турист". "Туристические штучки", говорит отец. Возможно, хочет отомстить за юношескую любовь. Мачо, оказавшийся трусом. Оруэлл где-то рассказывает, как они повстречались в госпитале. Привезли раненых, переносили в палаты. А впереди всех бежал Хемингуэй, оцарапанный осколком, и громко требовал перевязать его в первую очередь.
Очень современная книга, пусть и пованивает "литературой". Но та, что в кармане, всё равно лучше. Толстой никогда не лицемерил.
Из дома вышел Ахмед, стал на пороге.
- Они собираются.
- Я тут нашёл кое-что, - сказал Митя.
- Мария плачет, - сказал Ахмед. - Боится.
- Всё будет нормально. Если что, я не буду сопротивляться. Сдамся.
- Мадинка молодец. Хорошо держится.
Ахмед направился к машине. Каким-то образом уцелевшую старую колымагу одолжили у Салмановых. Митя такой никогда не видел. "Победа", едва ли не времён депортации. Но чудеса, как видно, случаются: она могла ещё передвигаться. Если всё будет, как наметили, часа за четыре они доберутся до Моздока. Его московская прописка послужит пропуском. Если будут осматривать плечо, он предъявит им удостоверение "афганца". Не такие они хирурги, чтоб устанавливать давность. Если два года таскал на плече автомат, то и через десять лет можешь видеть следы деформации. А потёртость они вывели какими-то целебными мазями, которые Маша так хорошо умеет готовить.
И "легенда" простая: его сестра замужем за чеченцем.
За это её хотели убить - в первую очередь. Она прятала детей в самой дальней комнате, у свёкра. Когда из передних помещений всё выбросили и жгли, один пошёл вокруг дома и стал бросать гранаты в окна, по одной в каждое окно. Старик не был ранен. Он умер от страха. Зарипа, его жена стояла на крыльце, хотела чтоб её убили первой, - тогда, насытившись кровью (должно быть, так она думала), "русские собаки" отступятся и оставят в живых детей. Её убили, но Мадинку это не уберегло от ранения: был повреждён глаз, срочно требовалась операция.
Маша сама похоронила стариков, тут же, на дворе, отвела для могилы тенистый угол у кирпичной ограды.
- Как думаешь, Ахмед, почему так не любят книги? Вопрос был, скорее всего, не расслышан. Чеченец опять зачем-то копался в моторе. Солнце прожгло молочную взвесь, разжижжило воздух, и в долину гигантскими кораблями стали выплывать близкие отроги хребта.
Горы на рассвете всегда вызывали у него едва ли не мистический трепет. Возможно, из-за таких вот минут, секунд сосредоточения, когда властвует в душе одна красота, он и вернулся в горы. Хотя по неизбывной склонности к оправданию всего нерационального мотивировал это своё "очередное безумство" (сказал бы отец) соображениями справедливости и чести.
Но ведь тогда, быв произнесенным впервые, этот приговор отца его "неистребимому романтизму" оказался как нельзя более верен. Добровольно отправиться в пекло! - это ли не безумство? Пожалуй, только отсутствие достоверных сведений о происходящем и "советский менталитет" могли послужить объяснением тому удивительному факту: "шаг вперёд" сделали все как один, вся рота, а если кто-то и сомневался, того приподняли и перенесли на шаг легкомысленные товарищи. Трусость и отвага - две стороны одной медали: и то, и другое требует волевых усилий. Он предпочёл бы видеть своего сына трусом, тогда, по меньшей мере, у него будет не так много шансов угодить в какую-нибудь очередную военную авантюру, которыми полнится и движима история их славного отечества.
- Ахмед! - позвал Митя громче.
Чеченец выпрямился:
- Я слышу. Книги как люди, наверно их так же приятно убивать.
- Плохих людей и плохие книги, верно, Ахмед? - Митя вышел за ворота, приблизился к машине. - Знаешь, Ахмед, это уже было и даже описано. В хорошей книге, хотя и сочинённой, как говорится, туристом.
Он отогнул надорванную и заклеенную по шву обивку передней двери водителя, снял с крючка и вынул из прорези автомат.
- Я же сказал - без оружия.
- Ну, возьми пару лимонок-то. Мало ли что...
Чеченец выглядел по-настоящему встревоженным. Вероятно, в его сознании не умещалось это "без оружия".
- Я сказал - нет. Всё, пошли в дом.
Они пересекли двор, поднялись на крыльцо. Наружная дверь была сорвана с петель и отброшена к цветочной клумбе. Разбитое зеркало в прихожей слепо щурилось манерным бельмом. В большой комнате развороченный гранатами пол обнажил подвальные помещения. Перешагивая через груды поломанной, порубленной мебели, они прошли на кухню.
Маша кормила детей. Трёхлетний Шамиль сидел на табуретке перед тарелкой каши, закручивал в ней столовой ложкой черносмородиновые спирали. Мадина пила чай, низко склонившись над столом, так что её забинтованная голова показалась Мите непомерно большой - нечистый свёрток изрезанных на полоски простынь. Машина аптека, много послужившая селянам с того времени, как Ахмед привёз "русскую", медсестру, - её аптека со множеством всего самого необходимого для жизни перед лицом смерти (сказал Митя) сгорела там же, на дворе, вместе с вещами не столь, может быть, шикарными, но дорогими, с которыми срослась душа - и сгорела частью вместе с ними.
Мужчины сели за стол. Мария положила им варёной картошки, по куску мяса. Корову штурмовики застрелили прямо в хлеву. Мария сама разрубила тушу, перенесла на ледник. Чего-чего, а голод им не грозил.
- Поешь сама-то, - сказал Ахмед.
- Не хочу. - Маша села рядом с девочкой, провела рукой, облетела едва касаясь "дорожную" повязку. - Болит?
Мадина отрицательно качнула головой.
- Не хочет расстраивать маму, - сказала Мария.
- Я тоже поеду, - сказал Шамиль. - Не хочу здесь.
- Если будешь хорошо кушать, поедешь, - сказала Мария.
- Я не хочу кушать, - сказал Шамиль.
- У детей пропал аппетит, - сказала Маша, обращаясь к Мите
- Ещё бы. После всего-то.
- У меня самой в ушах звенит не переставая. Даже ночью. Проснусь и не могу заснуть - так звенит. Наверно контузило. Да нервы ещё.
- Валерьянки попей, - сказал Ахмед.
- Нет валерьянки. Всю выпили.
- Я тебе привезу, - сказал Митя. - Если вернусь.
- Я список приготовила. Аптеку надо.
Мария вынула из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, протянула Мите. Тот взял его, спрятал не читая,
- Так вот, - сказал Ахмед, как бы продолжая начатый разговор, - если что-то случится... с тобой или с ней... я его пристрелю,
Воцарилось молчание. Что он мог им ответить? Разве сам он не убивал - в бешенстве, в страхе, в опьянении боем? Он помнил каждого. Их было немного, и всё же больше, чем женщин, с которыми он в своей жизни спал, и уж вполне достаточно для того чтобы ужаснуться, оглядываясь на прожитое с высоты своих двадцати девяти, которые казались ему иногда девяносто двумя.
Но такой холодной ярости, безграничной, неутолимой, какая, по всему, владела его другом, Митя не помнил. Не помнил себя в таком состоянии, когда каждый новый - как глоток кислорода.
- Но сначала ты убьёшь меня, - сказала тихо Мария, даже не повернув головы, просто вывесила маленький красный флажок у входа в погреб, где заперли пленного.
Каждый отряд держан своих пленников при себе. Тем, кто выказывал желание включиться в боевые действия, давали оружие. Говорили: "Искупишь кровью". Никого, впрочем, не принуждали, не морили голодом, не били: обменная карта должна была содержаться в хорошем состоянии. На постоях раздавали по семьям - уменьшить вероятность побегов.
Глядя на них, Митя вспоминал себя - там. Всё было похоже - и непохоже в одно время. Он как бы зашёл с другой стороны и теперь увидел себя - карателем, и ужаснулся. Он давно уже признал правоту своего давнего друга, с которым еще в "школе молодого бойца" нашёл общий язык, хотя ничего, кроме этого непонятного "языка" у них общего не было. Тот парень к своим восемнадцати успел отсидеть в колонии за что-то, о чём не хотел рассказывать, и прошёл выучку у блатных, усвоив, по крайней мере, основные три "ницшеанские" заповеди: никого не бойся, никому не верь, ни о чём не проси. Был он, впрочем, из интеллигентной семьи, довольно начитан и мог поговорить о литературе. Сидящий в нём "юберменш" однако не защитил его от разболтанной, рассыпающейся на ходу армейской машины: за месяц до переброски в Афганистан его скопом избили "деды", и даже в самолёте он ещё жаловался на головную боль. Тогда же и сказал: сразу по прибытии перейдёт к моджахедам и примет ислам. Так он и сделал - исчез при первом же наряде, ушёл в горы.
А его заставили убивать. Ещё не быв тогда "юберменшем", Митя послушно принял правила игры - отвратительной и нечестной: он убивал по приказу, хотя единственный "интернациональный долг" - покончить самоубийством, если тебя посылают наводить порядки за пределы отечества. Так и сказал ему по возвращении отец. Правда, был пьян - от радости и "по случаю". А потом: "Забудь, что я сказал". Однако не извинился.
А как забудешь? И как сосчитаешь их? Выбиваешь дверь и обрушиваешь внутрь - от страха - шквал огня. А кто там есть, одному аллаху известно. Они тогда не называли это "зачисткой". Это нынешние придумали - радетели чистоты и порядка. И то верно: высшая степень порядка - кладбище.
Но сейчас он об этом не думал. Донимало сомнение: прав ли, не беря оружия? Ещё было время вернуть автомат в тайничок на передней двери, стоит только сказать Ахмеду. Да ещё приторочить там же "сумочку с лимонами" - на случай круговой обороны.
Нет. Он уже знает как это случается. Помимо воли, помимо сознания. Выхватываешь и палишь невесть зачем. Просто потому, что привык "хвататься за револьвер", когда что-то не по тебе, а если к тому перед глазами предстало воплощение подлости или хамства, или в чистом виде разбой, то палишь с белоснежной совестью. А потом выбрасываешь отработанный "инструмент" и удаляешься с гордым видом. Все русские киллеры - бывшие отличники советской школы, А того парня он видел недавно по телевизору в свите Тураджон-заде, вождя "оппозиции". Таджик таджиком. Нынешняя косметика всесильна. "Велла - вы великолепны." Только глаза стали ещё хитрее.
- Ахмед, - сказал Митя, - я тебя понимаю. Нo зачем же, во-первых, швыряться деньгами, а во-вторых, я бы не пожелал тебе стать "военным преступником". Даже если... Рано или поздно ты обменяешь мальчишку на брата.
- Брата они убили, я знаю.
- Откуда ты знаешь?
- Чувствую. Мы же близнецы, мы всё знаем друг о друге.
- Ещё раз тебе говорю: возьми себя в руки. Война не кончена. Мало ли что ...
В разговор вмешалась Мария:
- У мальчика молоко на губах не обсохло. Его наверно ищет мать.
- Ладно, он всё уже понял, - сказал Митя, - О деле, последний раз. Если через месяц мы не вернёмся, значит одно из двух: или меня схватили на "фильтрацию", или мы двинулись дальше, в Москву, в глазную клинику. Я, конечно, попробую сообщить, но ведь почта не работает здесь.
- Иногда что-то доходит, - сказала Мария, - я получила письмо из Сургута, от отца.
Ахмед первым поднялся из-за стола, бросил жене:
- Одевайтесь и выходите.
Пока Маша одевала дочку и давала ей последние наставления, мужчины прошли немного по улице. Больших разрушений не было. Село не бомбили, не обстреливали "градом". И всё равно почти в каждом доме, знали, есть жертвы. Убитые, раненые. Но так же как там, они не говорили об этом. Митя достал из кармана книжку:
- Читал?
Ахмед взял книгу, прочёл название, отрицательно покачал головой.
- Зачем читать? О той войне мы знаем от предков. Дед рассказывал. Бабушка. Все рассказывали. Всё знаем. Ну, давай, прочту.
Они повернули назад. Солнце теперь сбросило в низины остатки тумана и било сзади горячим светом, слепя отражёнными от крыш лучами. Глаза отдыхали на "зелёнке" - ненавистной там и такой задушевно близкой здесь. Обводя глазами лесистые, мягко очерченные склоны, Митя вдруг подумал: как заразительны слова! Кто принёс эту идиотскую"зелёнку" и поместил в местный словарь, произведя в нём ещё одно маленькое разрушение? Ведь пресловутый "образ мыслей" - это ничто иное, как слова, мысль образующие. Обыкновенное, тысячелетней давности слово "лес", так мягко звучащее по-чеченски - хъюн - вытеснило жаргонное словечко бесславных рейнджеров,
Ни под каким видом, никому не признался бы: когда услышал о вводе войск для "наведения конституционного порядка", испытал чувство странное, неожиданное, весьма далёкое от того, что можно было бы назвать "благородным". Удивился самому себе: он испытал злорадство. Бывает, что накопленное годами работой, книгами, размышлениями - ещё одной, упавшей неведомо откуда песчинкой кристаллизуется открытием. В момент объявления о судьбоносном - смертоносном - решении власть предержащих - удержать власть в одной отдельно взятой провинции - в тот же момент .Дмитрий Чупров, ветеран" -"афганец", аспирант исторического факультета МГУ, сделал открытие: решение сие смертоносно. И, как уже было сказано, испытал злорадство. Почему?
Конечно, он попытался разобраться. Разбираться в самом себе - занятие подчас малоприятное. Он спрашивал себя: почему радость? Почему - облегчение? Да-да, вот так правильнее: не радость - он сказал себе - облегчение. Но ведь он знал: десятки, сотни тысяч убитых сограждан... За пепел миллиона афганцев было куплено то знание. Может быть, этот пепел и стукнул мгновенной радостью в сердце? "Мне отмщение и аз воздам".
А ещё и другое. Ночные кошмары, преследовавшие несколько лет, - с засадами, стрельбой, трупами, - разом вдруг отступились, в ту ночь он спал крепко, без сновидений. Кошмар, воцарившийся наяву, погасил по странной закономерности огонь внутренний.
Митя рвался на Кавказ. И какой же русский не любит Кавказа! Обосновывал в собственных глазах, оправдывал перед женой и родителями, и маленьким сыном, ещё не умеющим читать, но знающим все модификации "Калашникова», - объяснял эту "лермонтовскую" любовь своей диссертационной темой "О роли партии" (он шутил) в кавказских войнах. В сущности, роль партии сказалась ("без шуток" ~ добавлял) - именно теперь. Пресловутая "партия войны", всем было ясно, воспряла из охвостья КПСС,
Вскоре и представился случай. В Грозном были родные бабушкин внучатый племянник с женой и ребёнком.
Город, в котором когда-то побывал, чьим воздухом подышал хотя бы немного, становится живым существом. Таким был для Мити Грозный - один из красивейших городов, когда-либо виденных им, пережитых, как переживают время и место, и людей, и книги. Добавить к тому, что не просто они гостили в этой семье, в этом городе: то было свадебное путешествие, а таковые не только не забываются, но, отдаляясь, становятся ещё увлекательнее - путешествиями в молодость. Они и после бывали там с Лорочкой и маленьким Антоном, и всякий раз увозили с собой ощущение грусти, как бы предчувствуя неладное. Так прощаешься с человеком, который вряд ли когда ещё повстречается.
Я вот теперь город уничтожали. Убивали - методично, тупо.
Митя выписал в университете командировку и поехал - "для оказания помощи пострадавшим родственникам", так и было чёрным по белому означено в удостоверении. Проректор по научной работе обещал даже оплатить - "апостериори". (Логично, сказал Митя, тема темой, а ведь можно и не вернуться. Тогда и не убудет в казне.)
"С моим-то афганским опытом" - сказал Митя на семейном совете. Его отпустили. Лорочка сказала: "С моим-то опытом солдатки." "Ты не была солдаткой, - возразил Митя, - мы ещё не были расписаны." "Это не имеет значения, - сказала она, я просто знаю." Антон, разумеется, попросил привезти автомат.
Он и привёз автомат - не удержался, купил у старика-чеченца, "на всякий случай". И привёз Тамару - одну, чудом уцелевшую из всей семьи, погребённой под обломками разрушенного какой-то чудовищной бомбой дома. Все упокоились в одной "братской" могиле: её старики-родители, муж ("внучатый племянник"), трёхлетний сын.
К вопросу об оружии. (Он всё ещё колебался: брать - не брать.) Злосчастный "калаш", в тот раз доставленный с "фронта" под камуфляжем уцелевшей тамариной одежонки, эта "гордость русского оружия" была закопана в огороде ("Как в старые добрые времена" - сказал отец.) - "мало ли что" - и будто бы вызвав из небытия это самое "что", наслала бандитов на деревенскую лавку, учреждённую местным "копиратором" в гуще садоводческого "Шанхая", неподалёку от славного города Талдома, воспетого Щедриным. Магазинчик имел несчастье быть рядом с "шестью сотками", отведенными отцу в награду за преданность советской власти и долголетнюю службу на Предприятии, изобретавшем вкупе с себе подобными "российский ядерный щит". В отцовском "имении" Тамаре отвели комнату, а чтобы ускорить "процесс реабилитации" устроили продавщицей в магазинчик - к тому времени, вероятно, уже вобравший в себя некие таинственные миазмы, плывущие с тайника огорода. "Если на стене висит ружьё..."
Нельзя сказать, чтобы он сделал это хладнокровно. Когда прибежала плачущая Тамара (мало ей было слез!), он ощутил приступ тошноты - чисто физиологическое неудобство. В животе стало пусто и холодно, а вся "зелёнка" окрест приобрела багровый оттенок. Приступ ярости был похож, если верить Джемсу (?) (Митя вычитал в его "Психологии") на действие веселящего газа: записываешь "формулу мира", а когда спадает с глаз пелена, оказывается всего лишь - "кругом пахнет нефтью".
Он выдернул из-под земли зачехлённый "калаш" и побежал туда. Не удовлетворённые хозяином рэкетиры уже разгромили лавку и готовились поджигать.
Отстрелявшись, выбросил автомат в заболоченный дренаж, пошёл к станции.
Он записал формулу справедливости, а вышло обыкновенное убийство.
- Ахмед, что будешь делать после войны?
Они вернулись к дому. Мария с девочкой ждали у ворот. Чеченец не ответил. Риторические вопросы как бы не достигали его сознания. Митя и раньше замечал. После войны, с опозданием подумал, вся твоя оставшаяся жизнь будет - война.
Он знал это по себе. Бедная Тамара, в свои неполные тридцать поседевшая до луньей белизны, судится с властью, потому что из всех справедливых войн самая справедливая - война с властью. Власть - это природа. Государство, нация, церковь - это всё "природа". Над духом никто не властен. Вот о чём толковал Ницше. Но его не поняли.
Они молча обнялись.
- Извини, дорогой, если что не так. Возвращайся. - Ахмед помолчал. - Мне всё кажется, что я в чём-то виноват. Видишь, как плохо принял тебя.
- Перестань.
Митя сел за руль, включил зажигание. Ахмед поцеловал дочку. Мадина забралась на заднее сиденье с узелком в руках.
- Когда тебя убивают, - сказал Митя, - всегда чувствуешь себя виноватым.

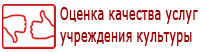
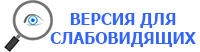

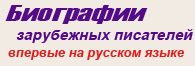
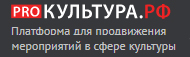

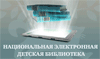


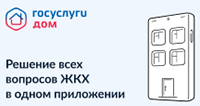



Комментарии
Отправить комментарий